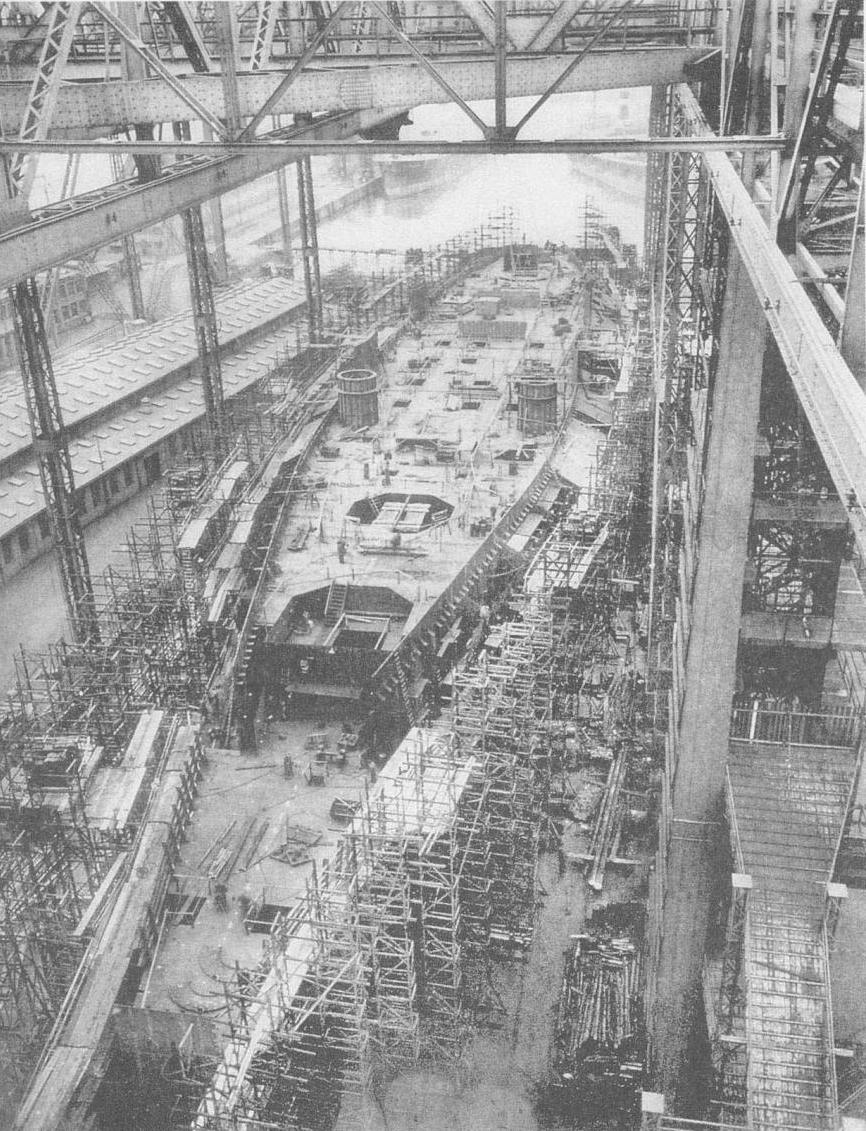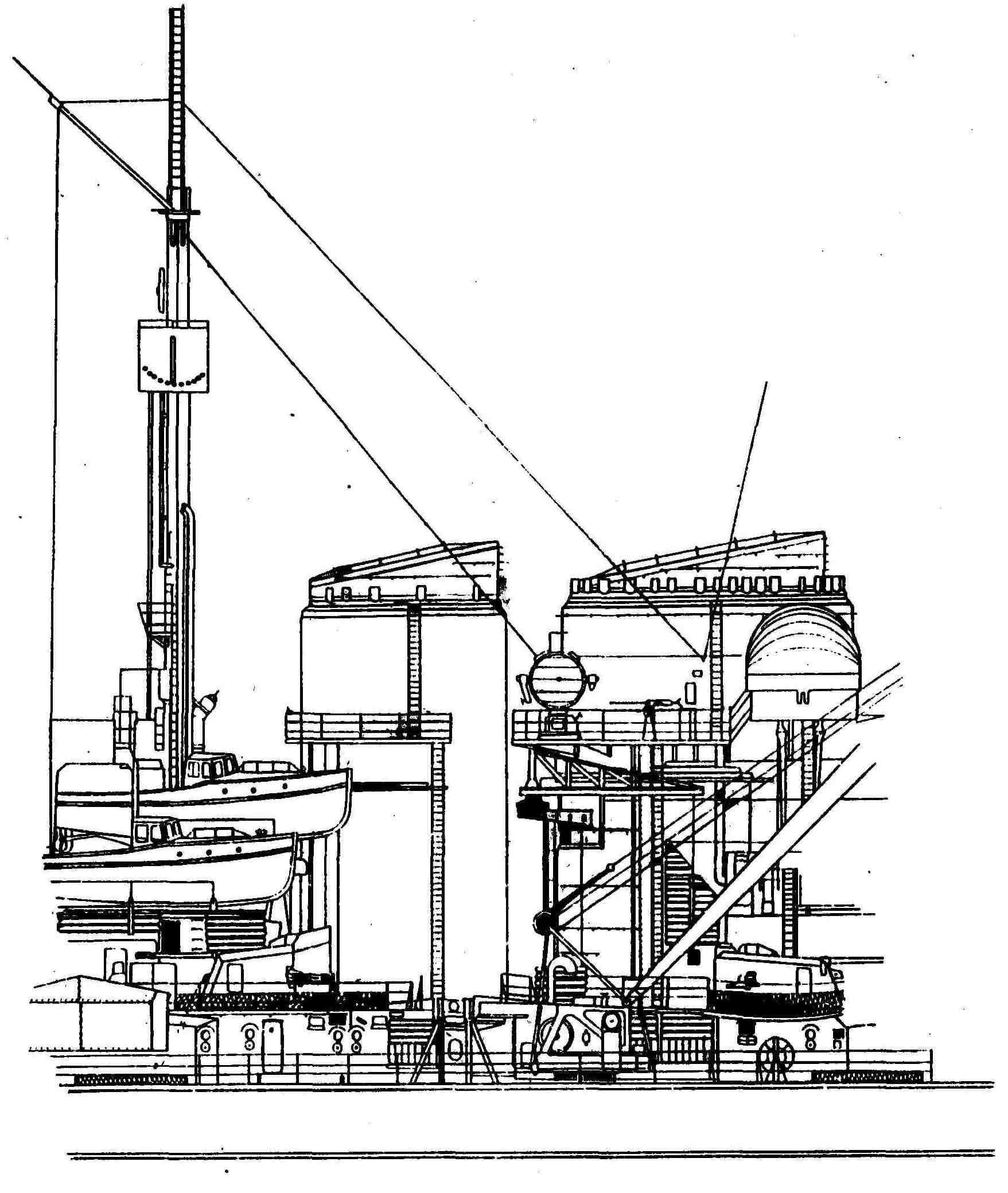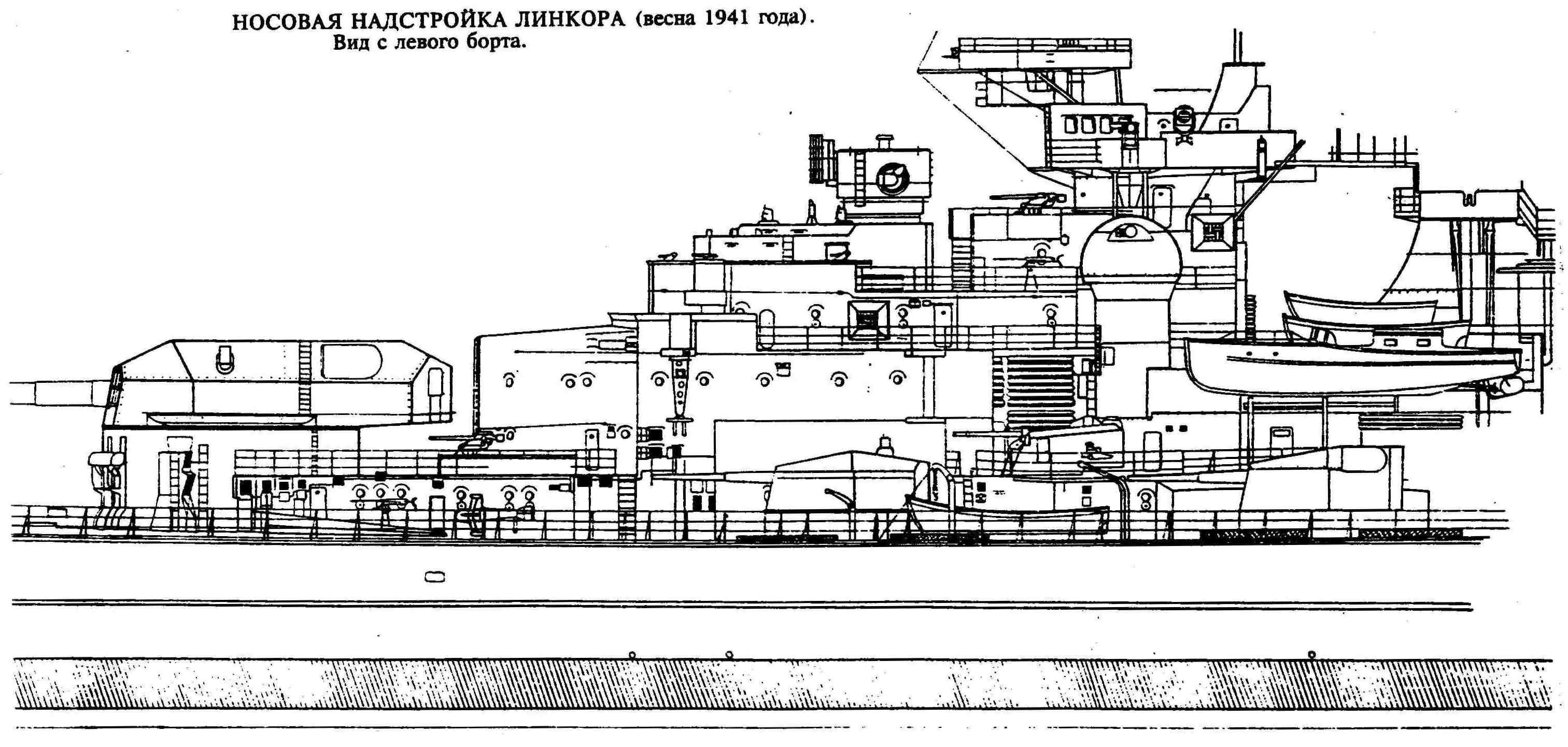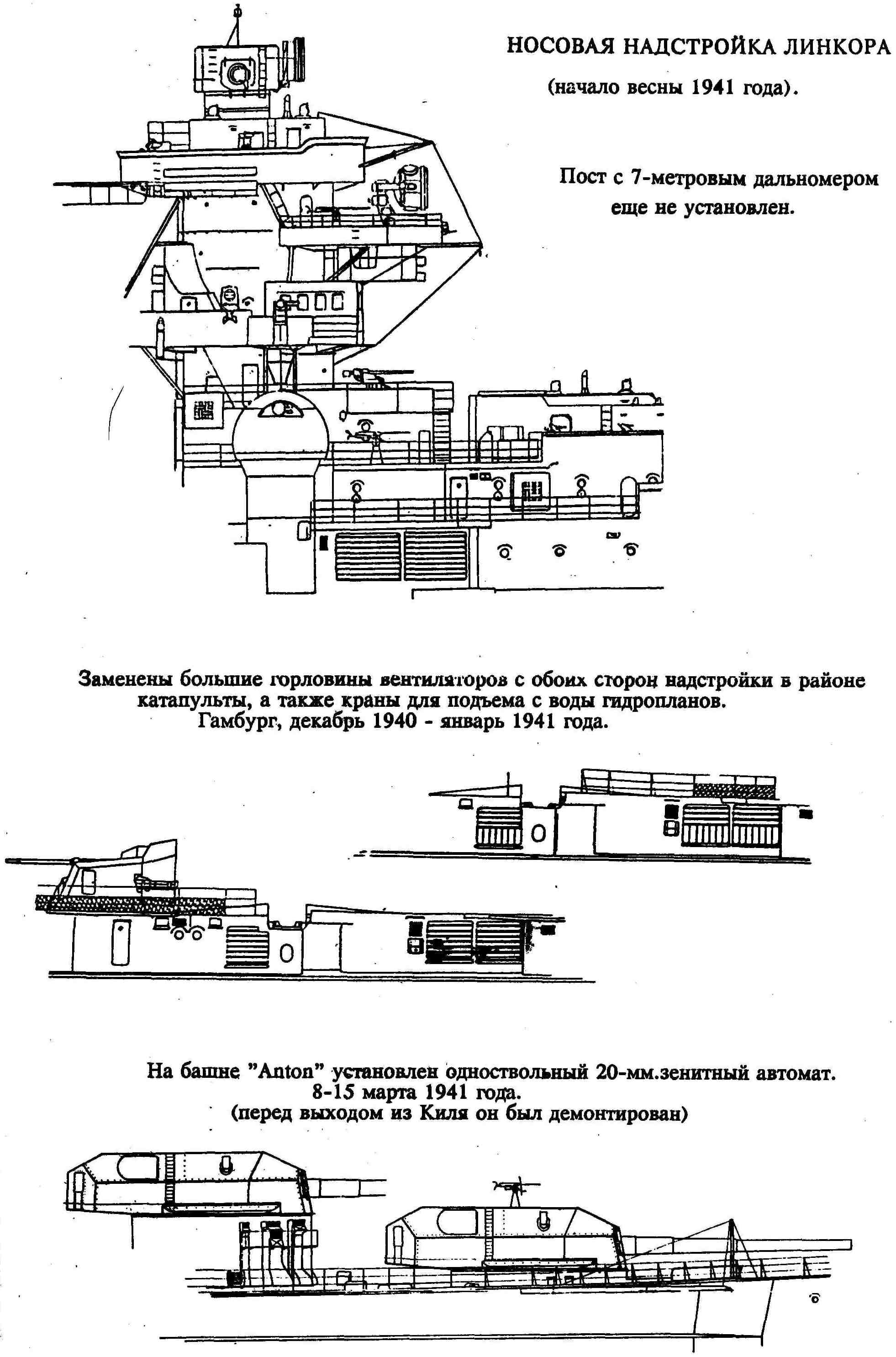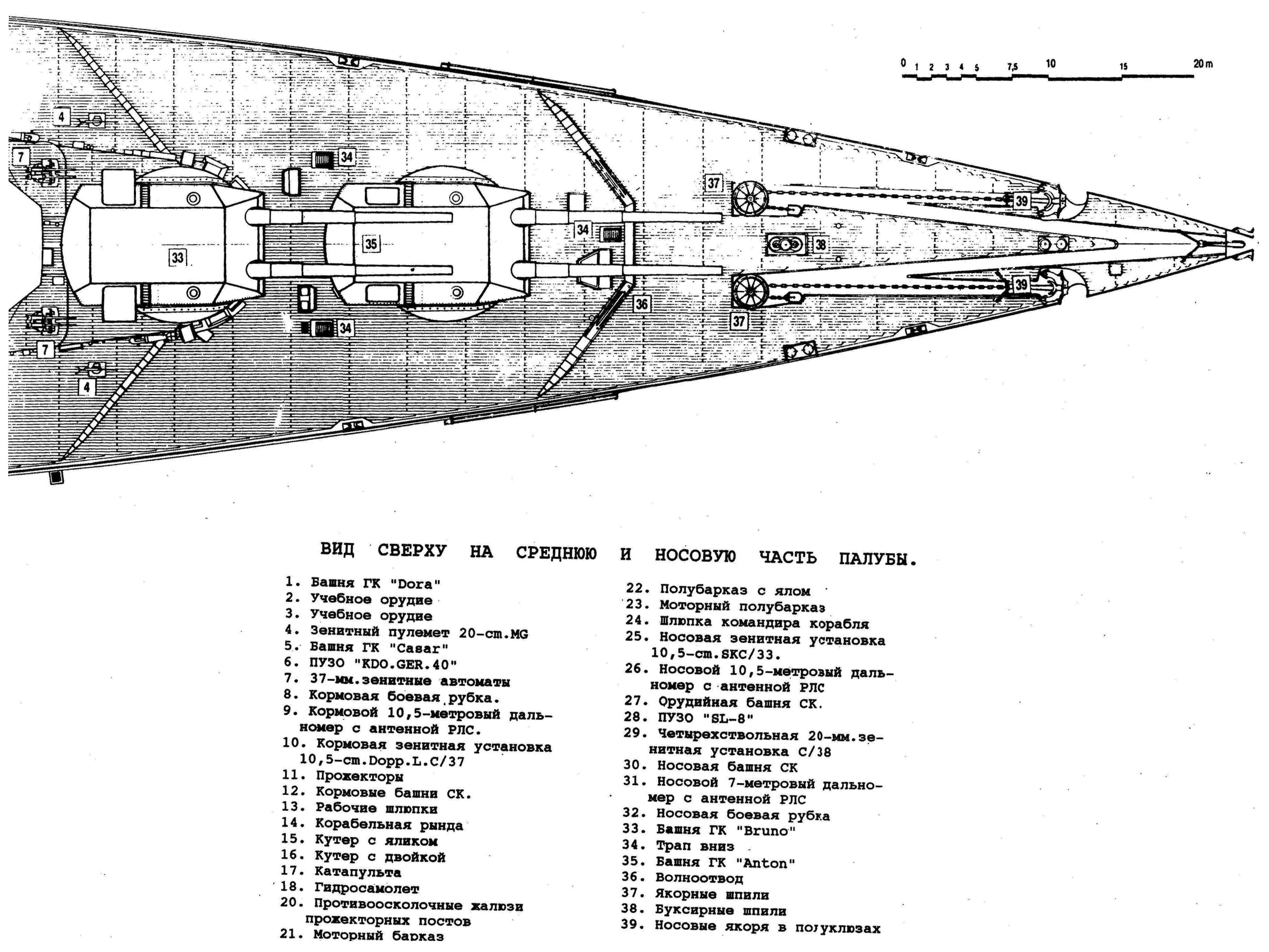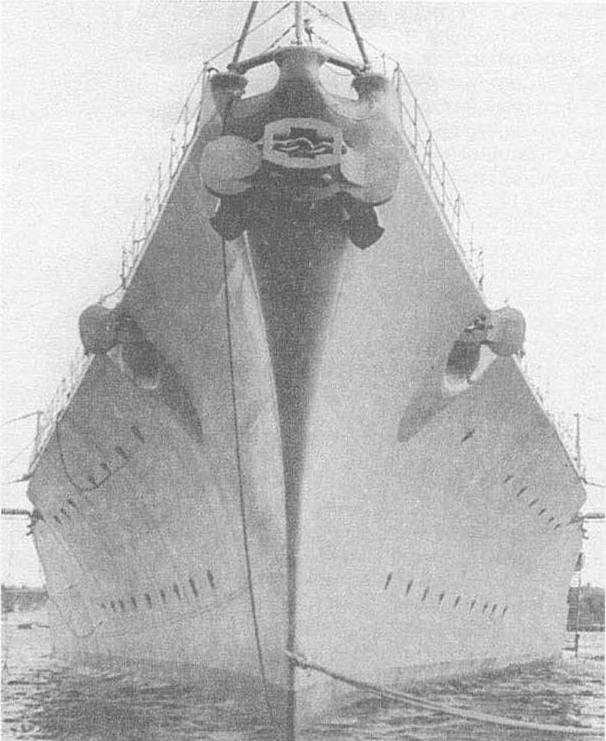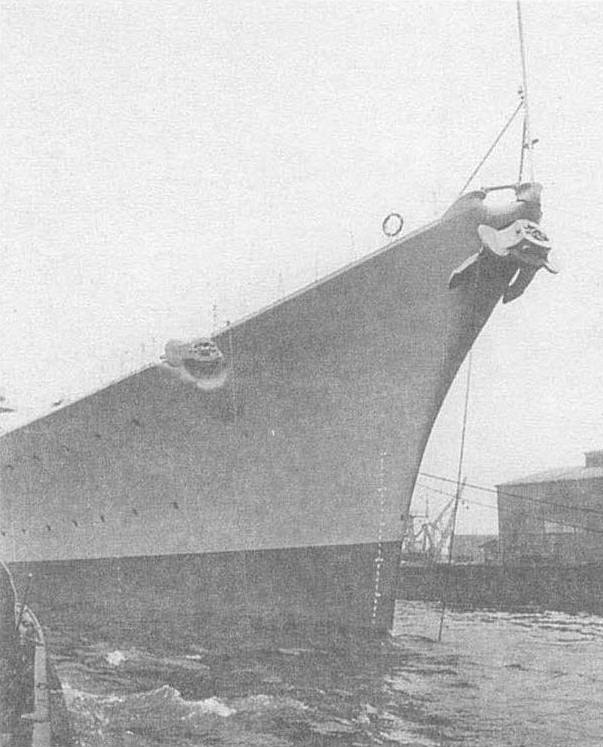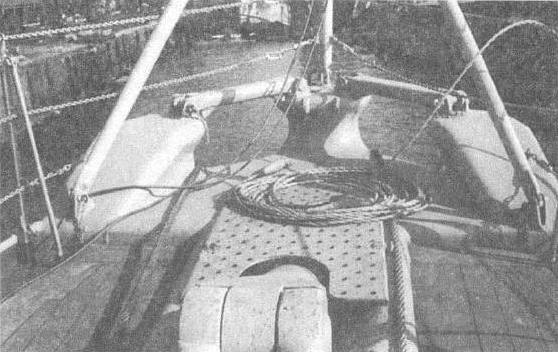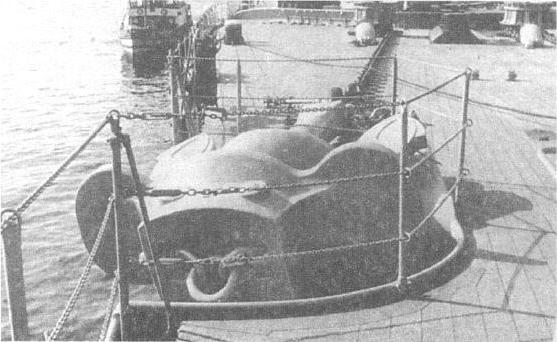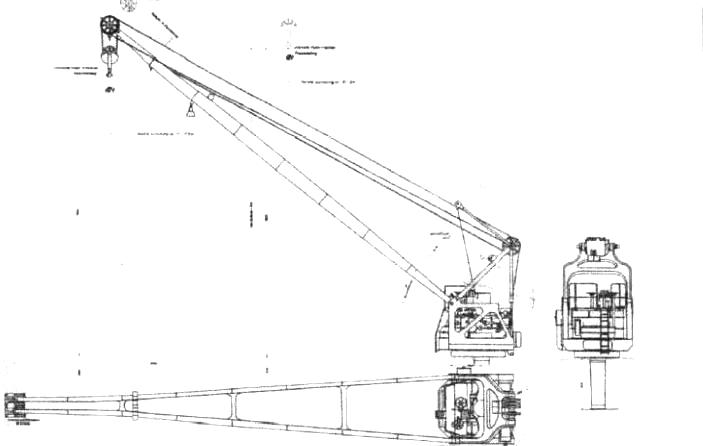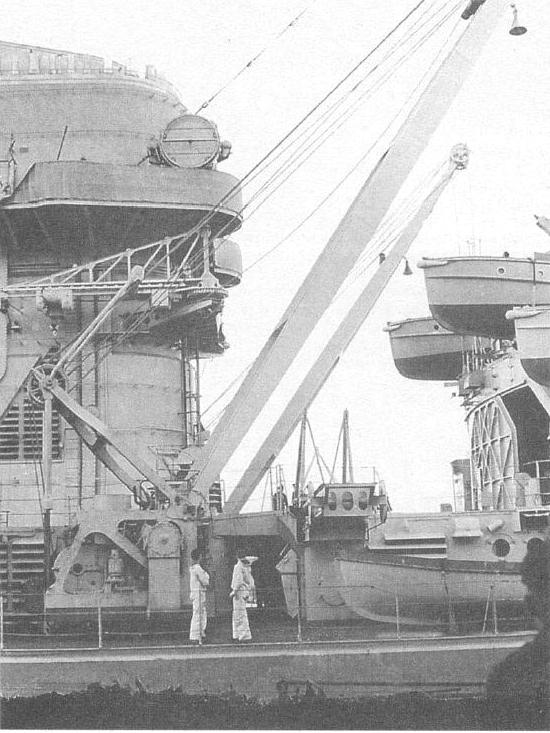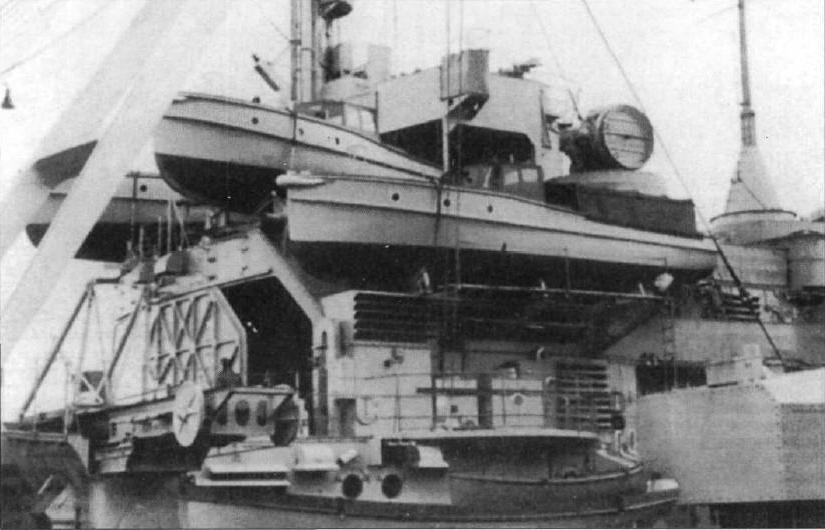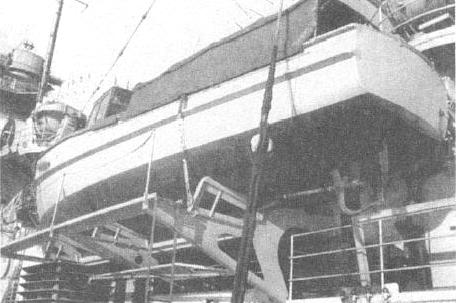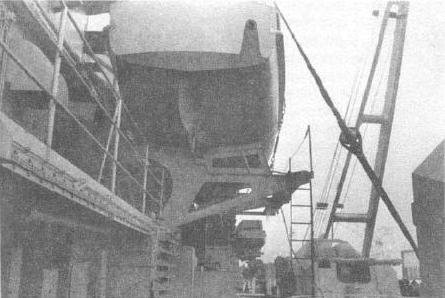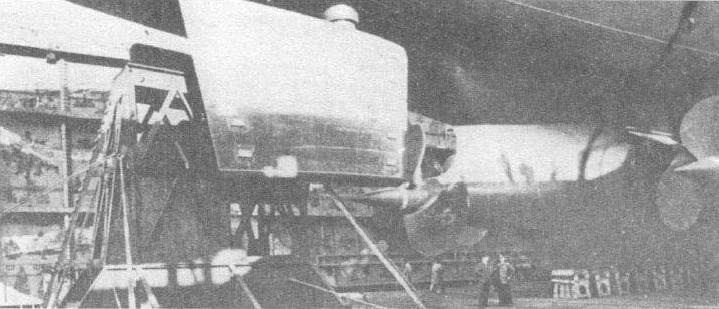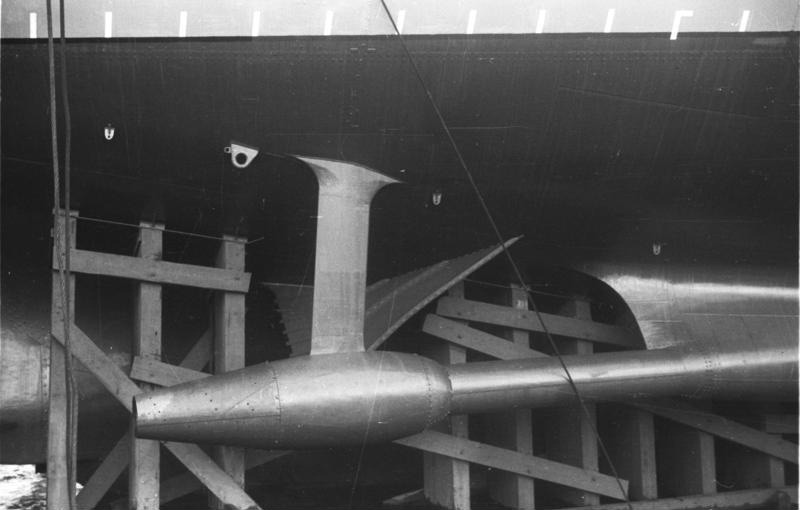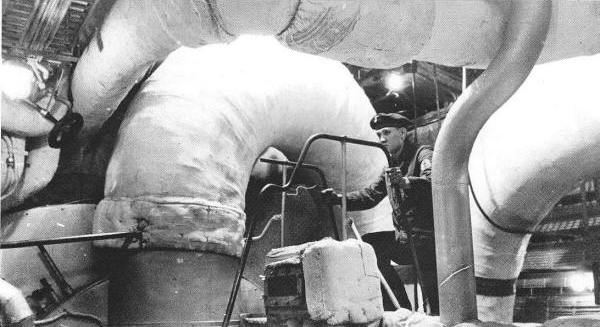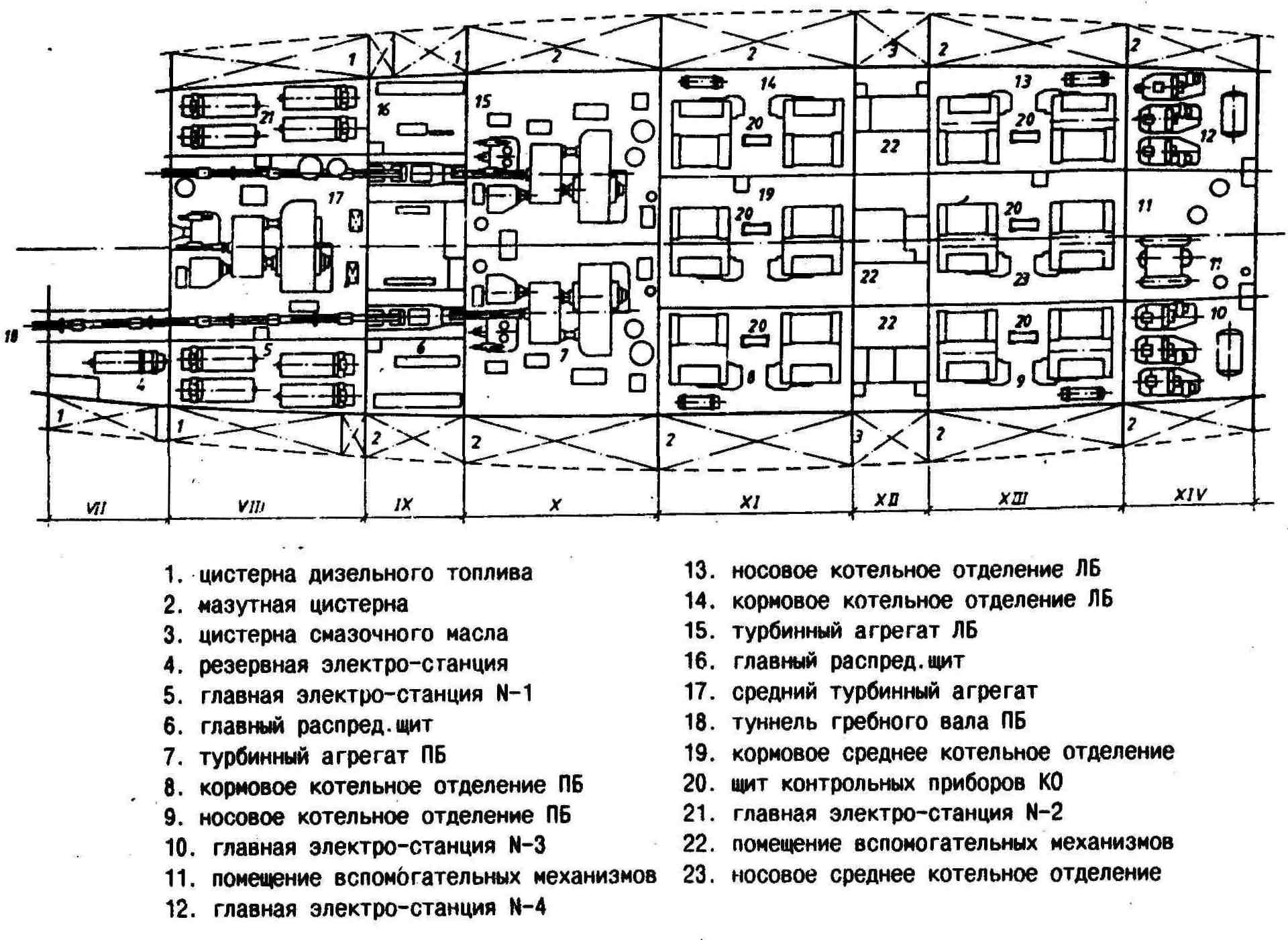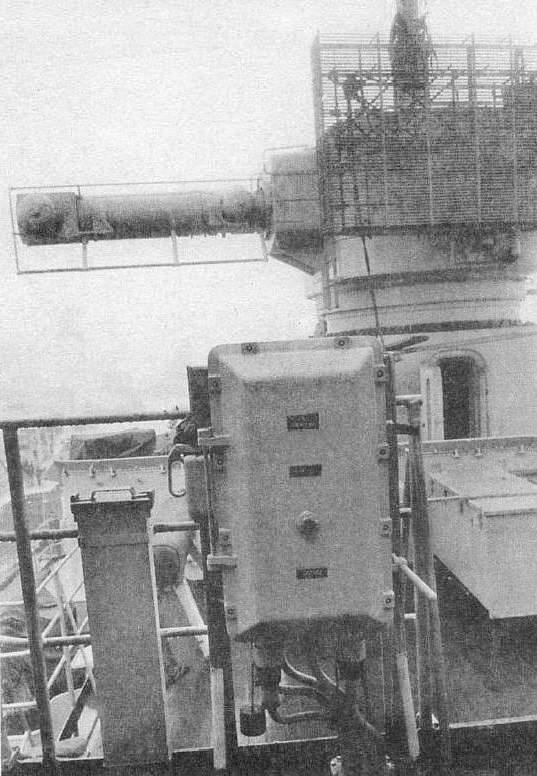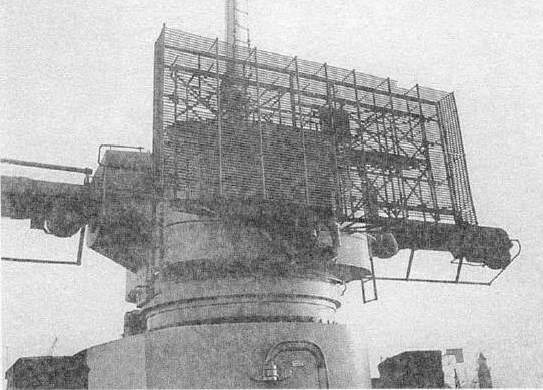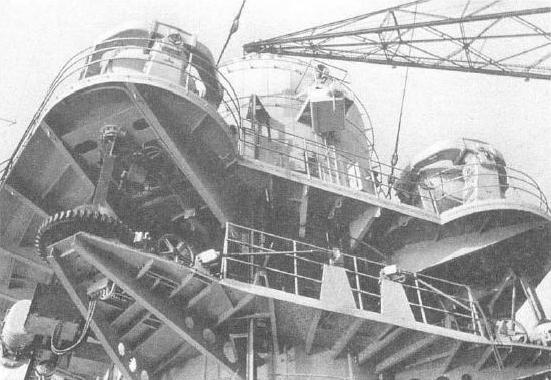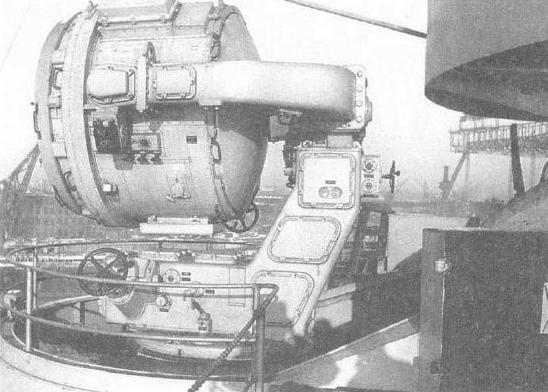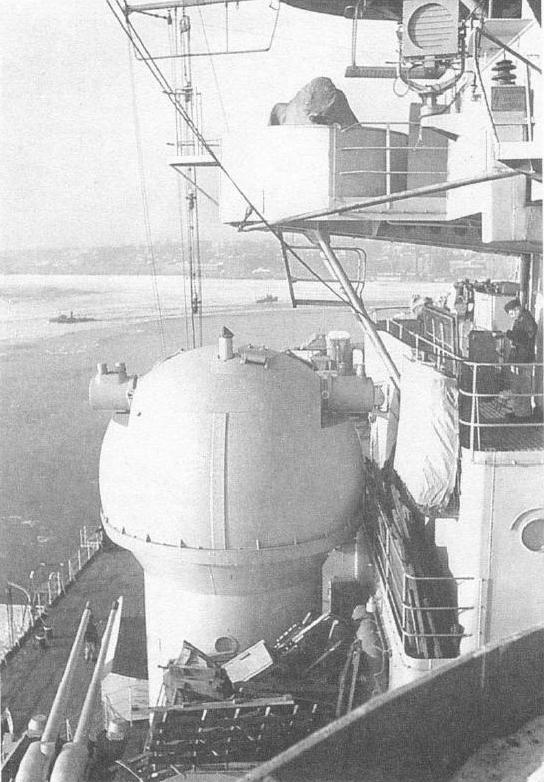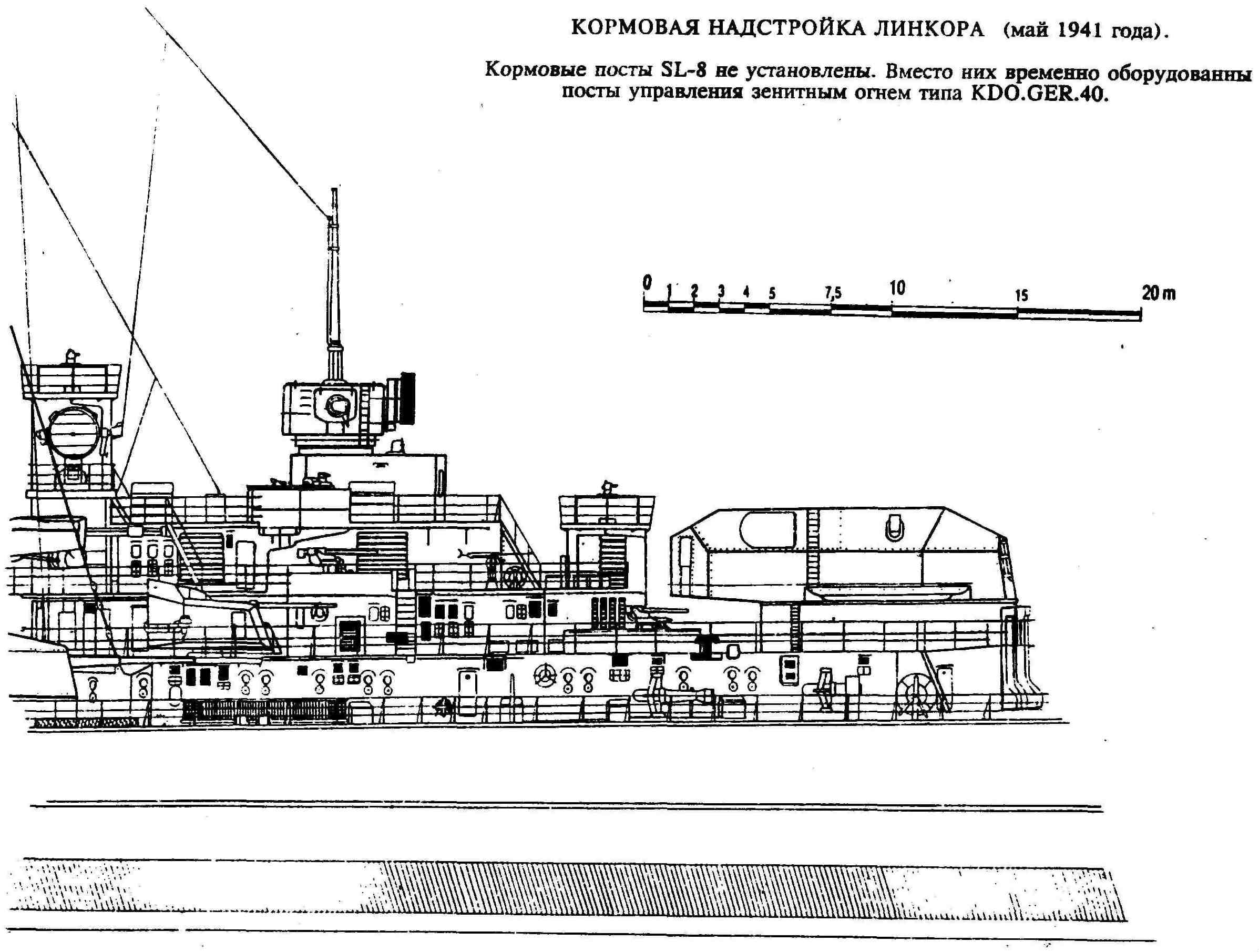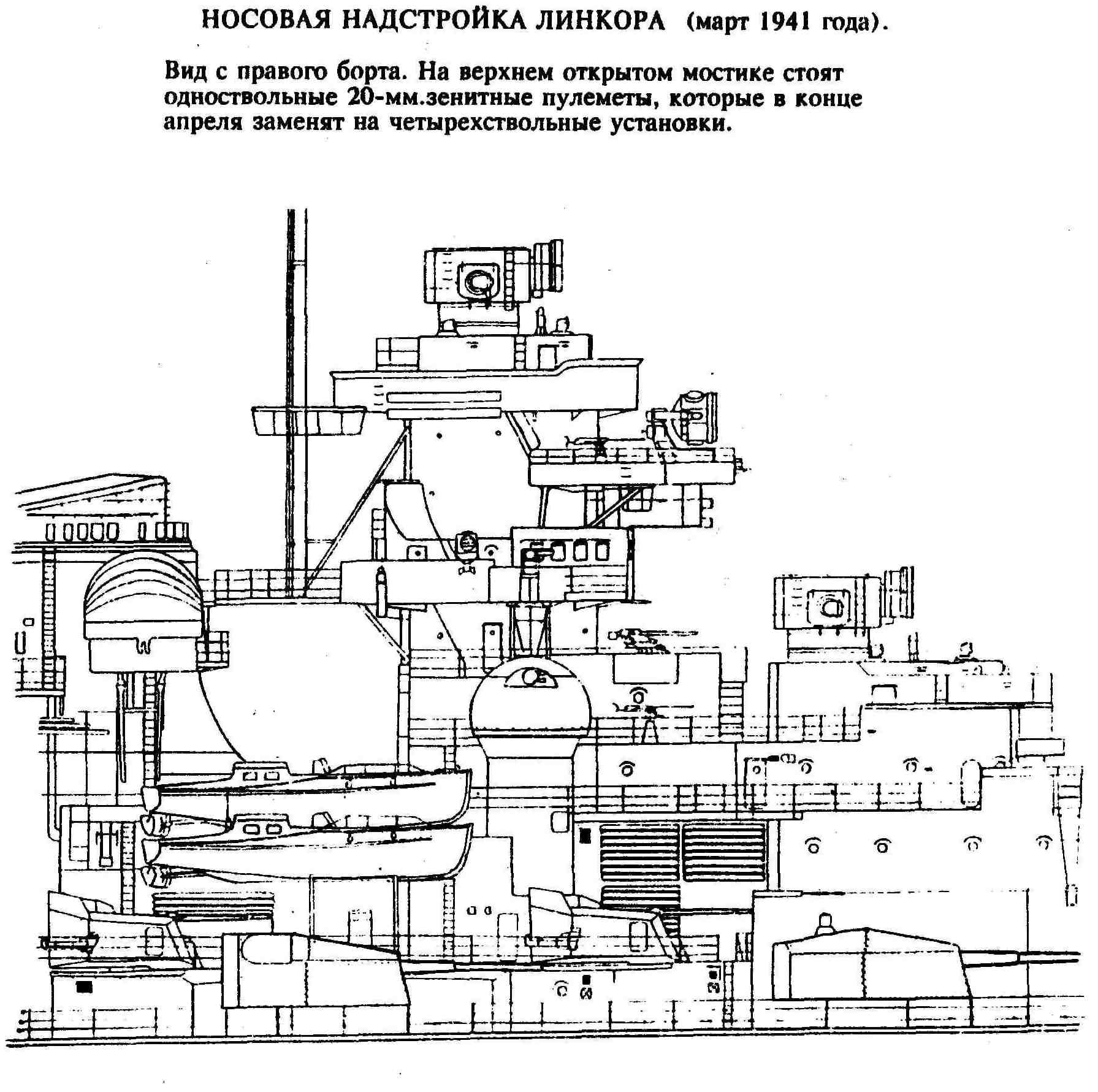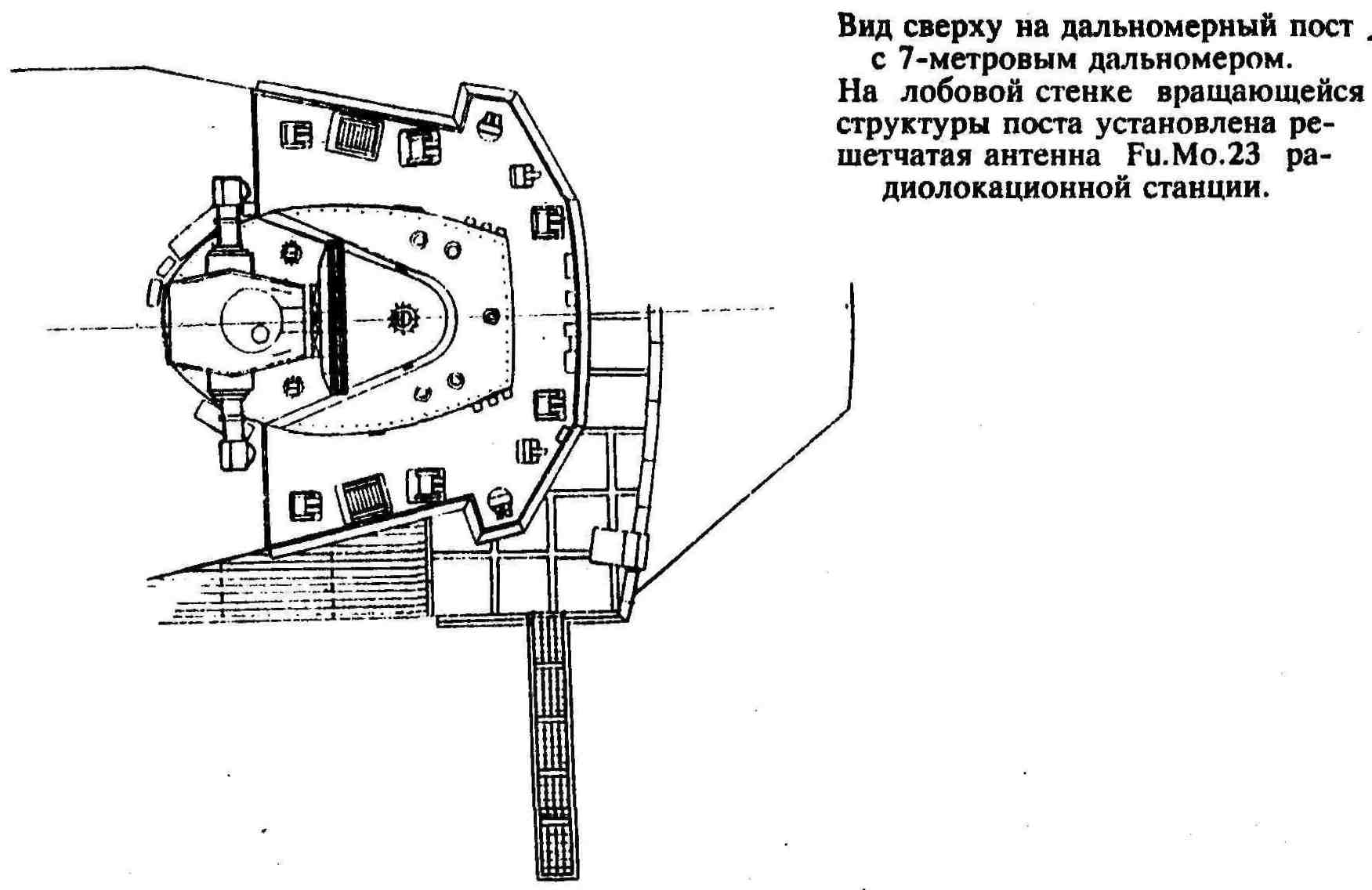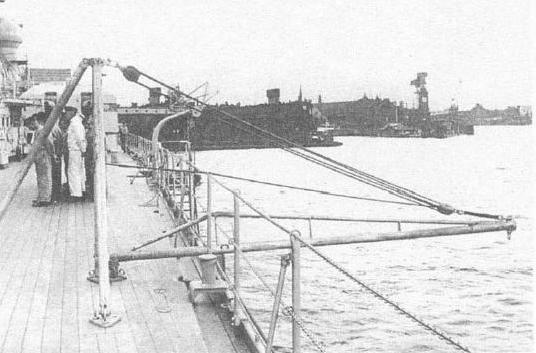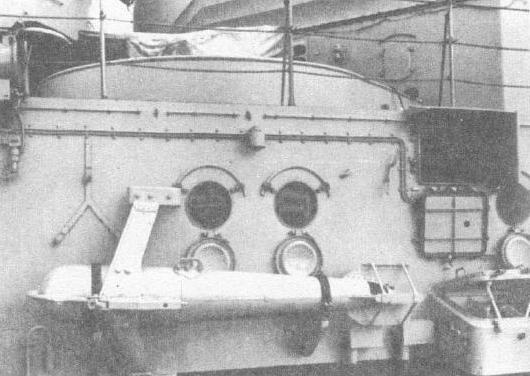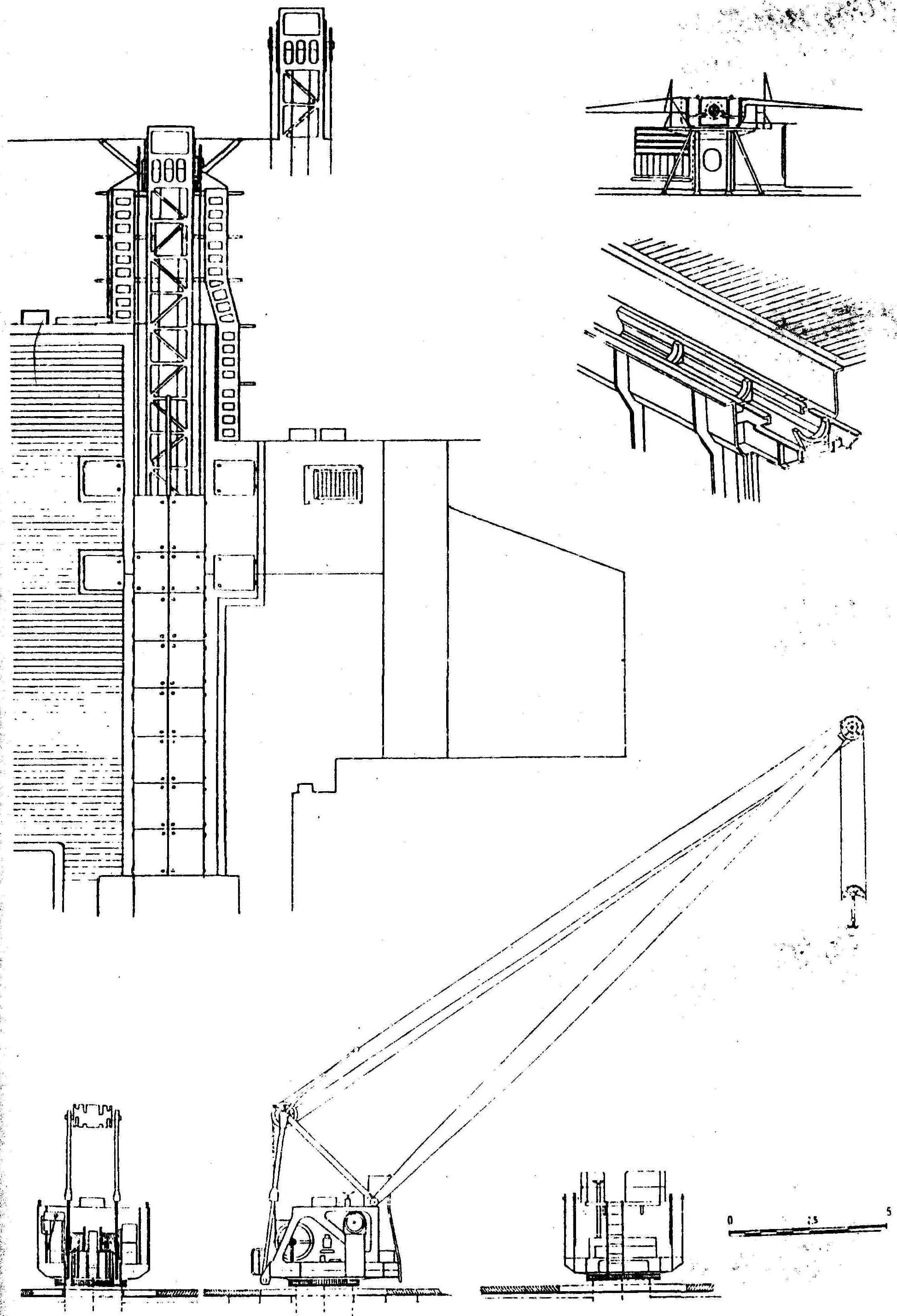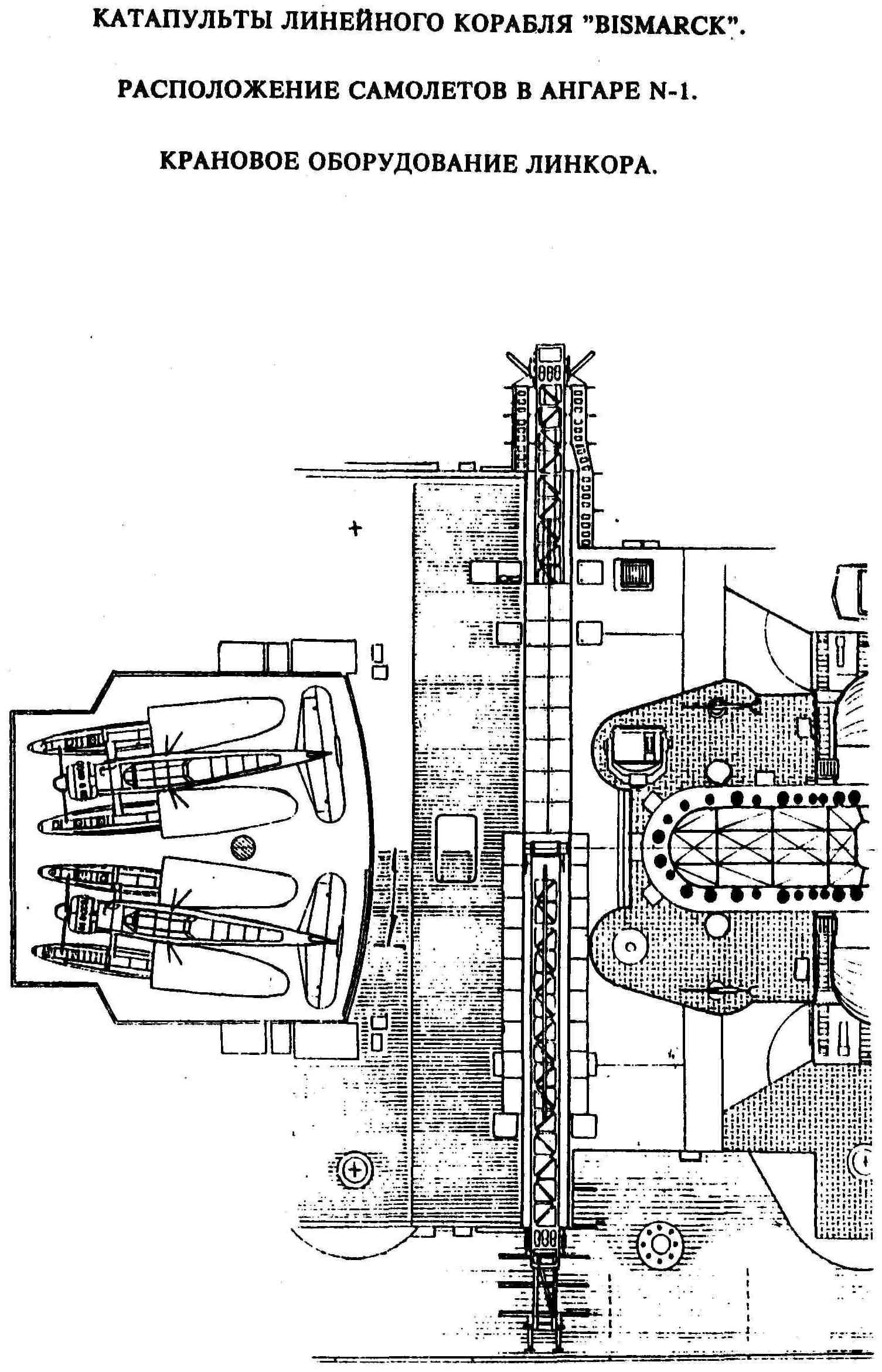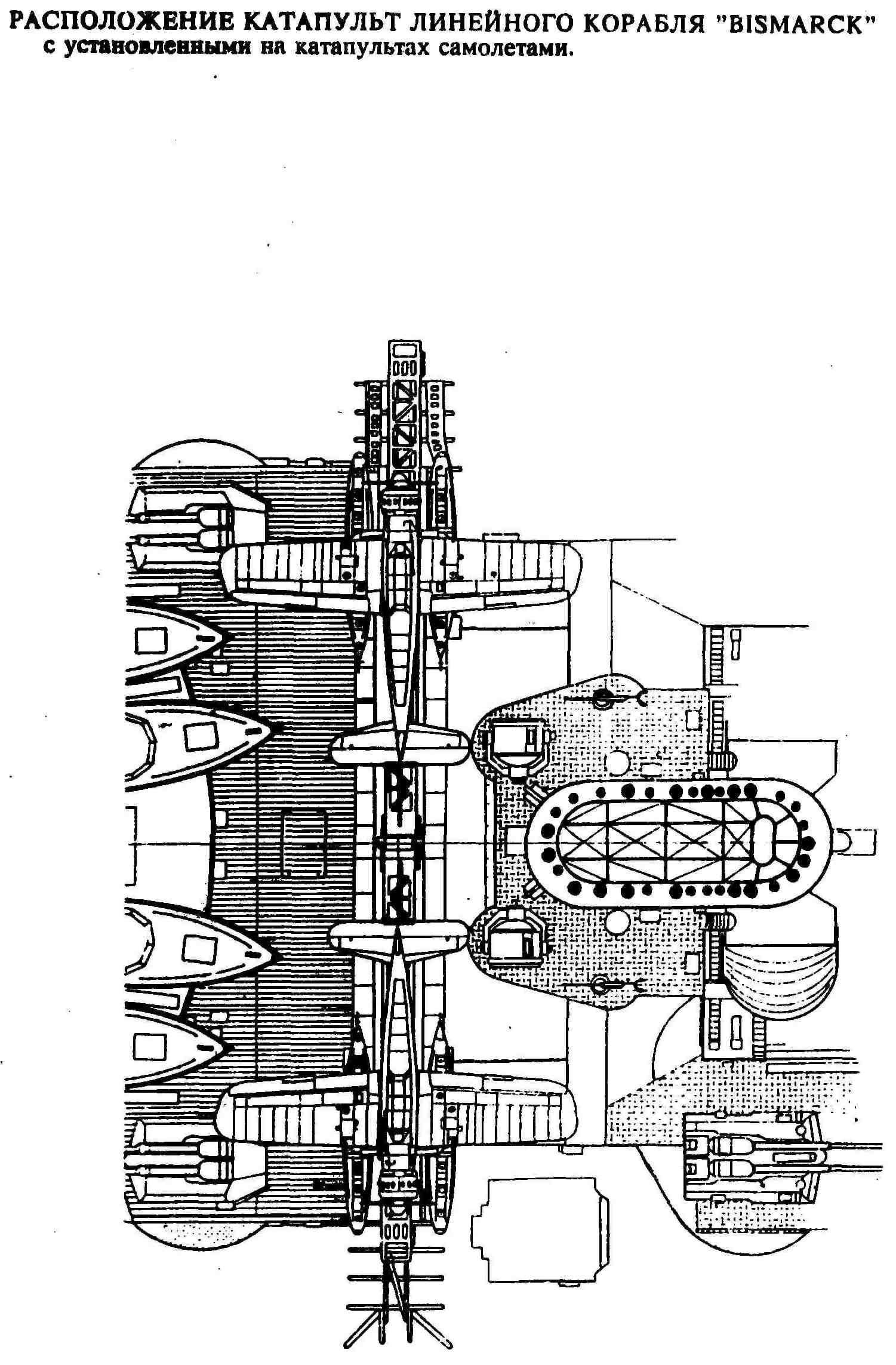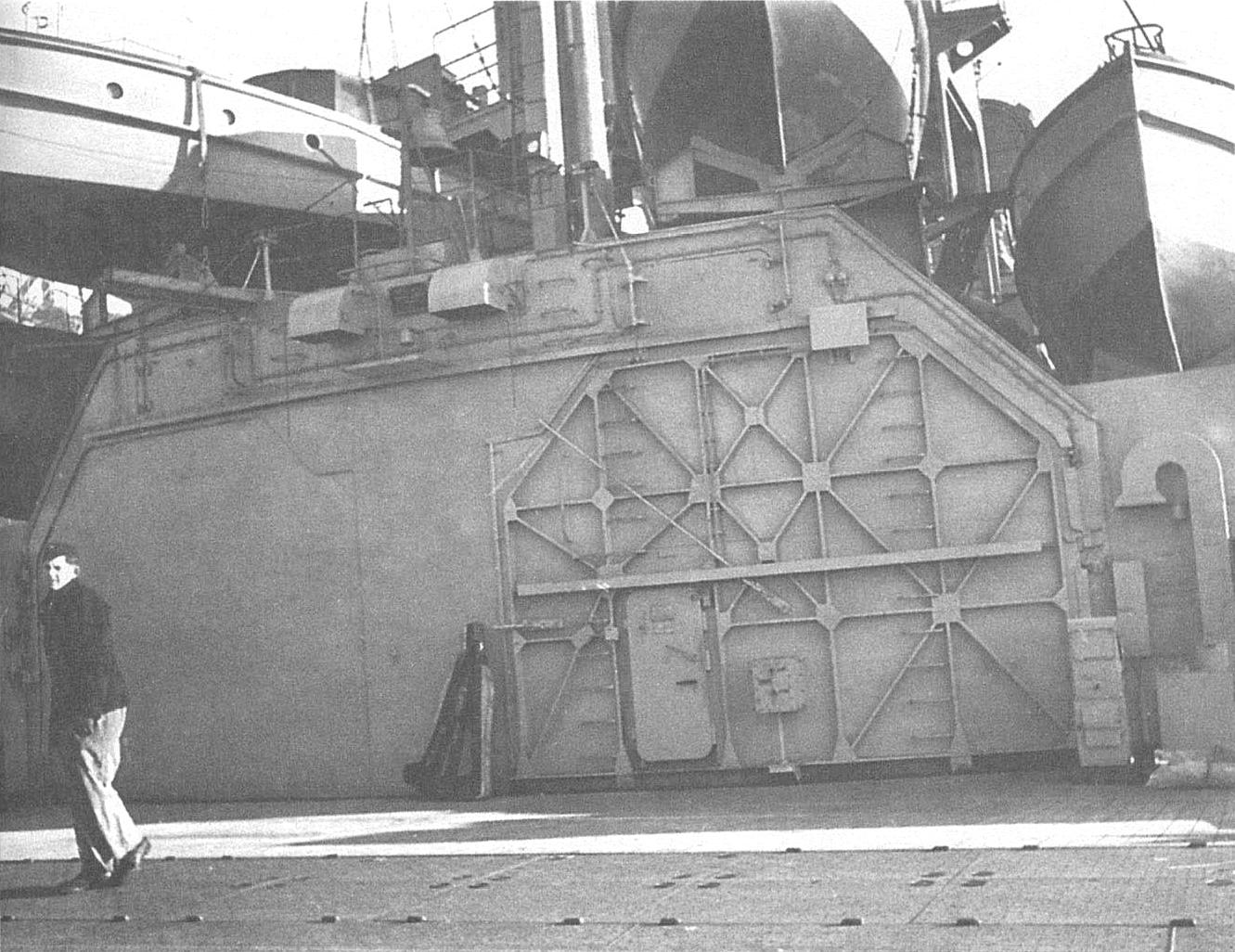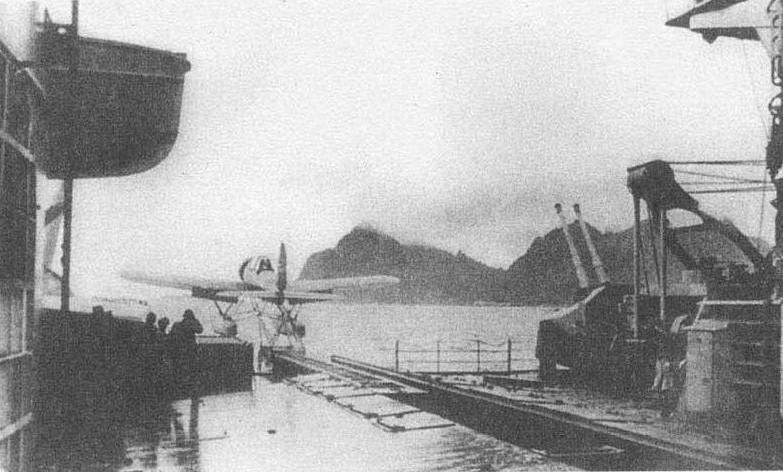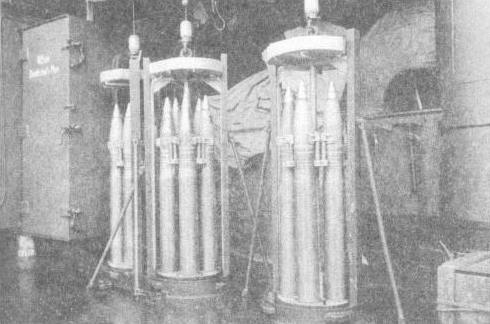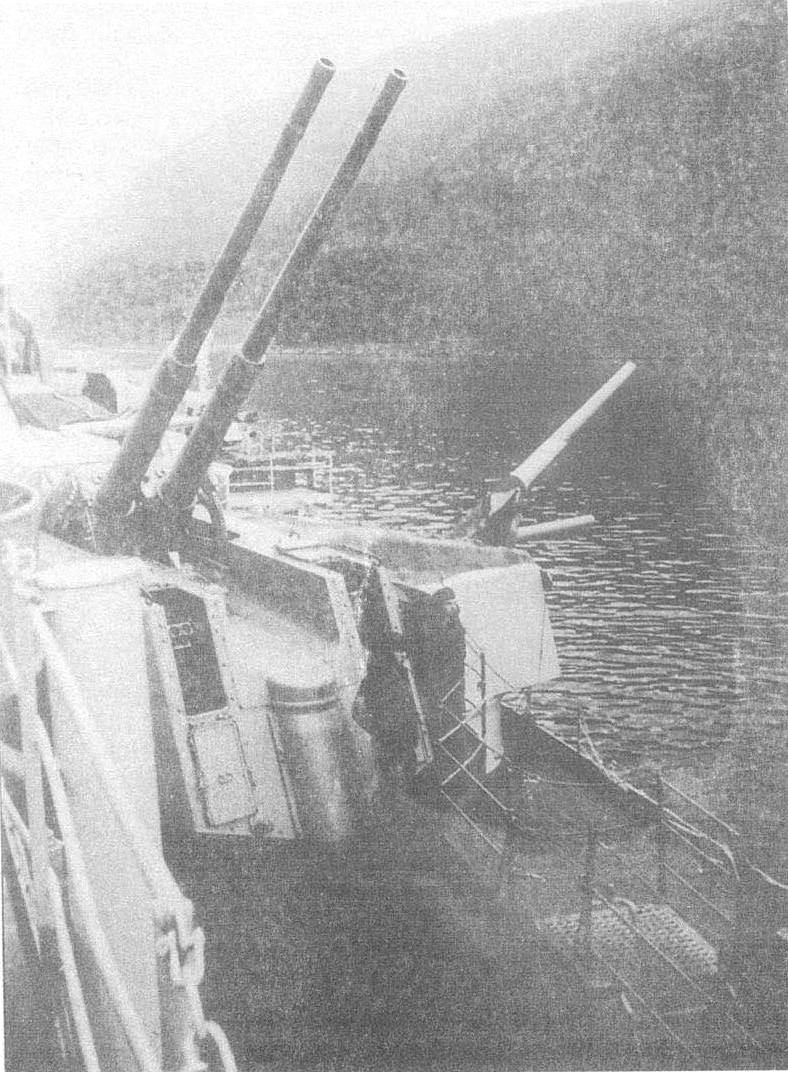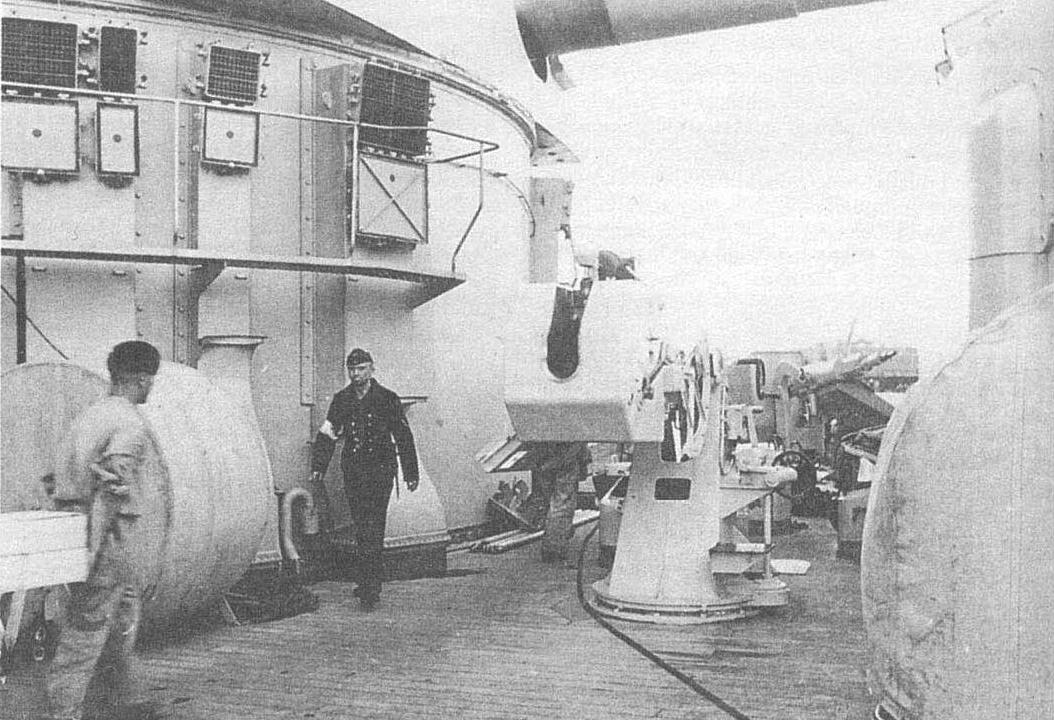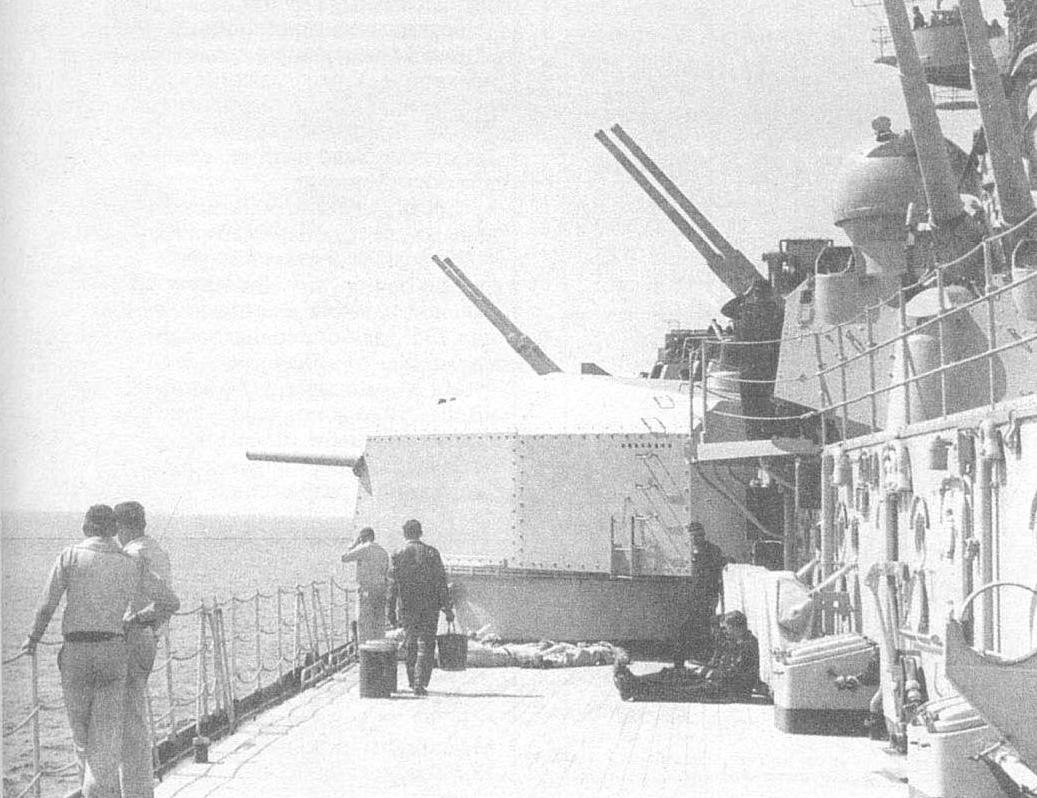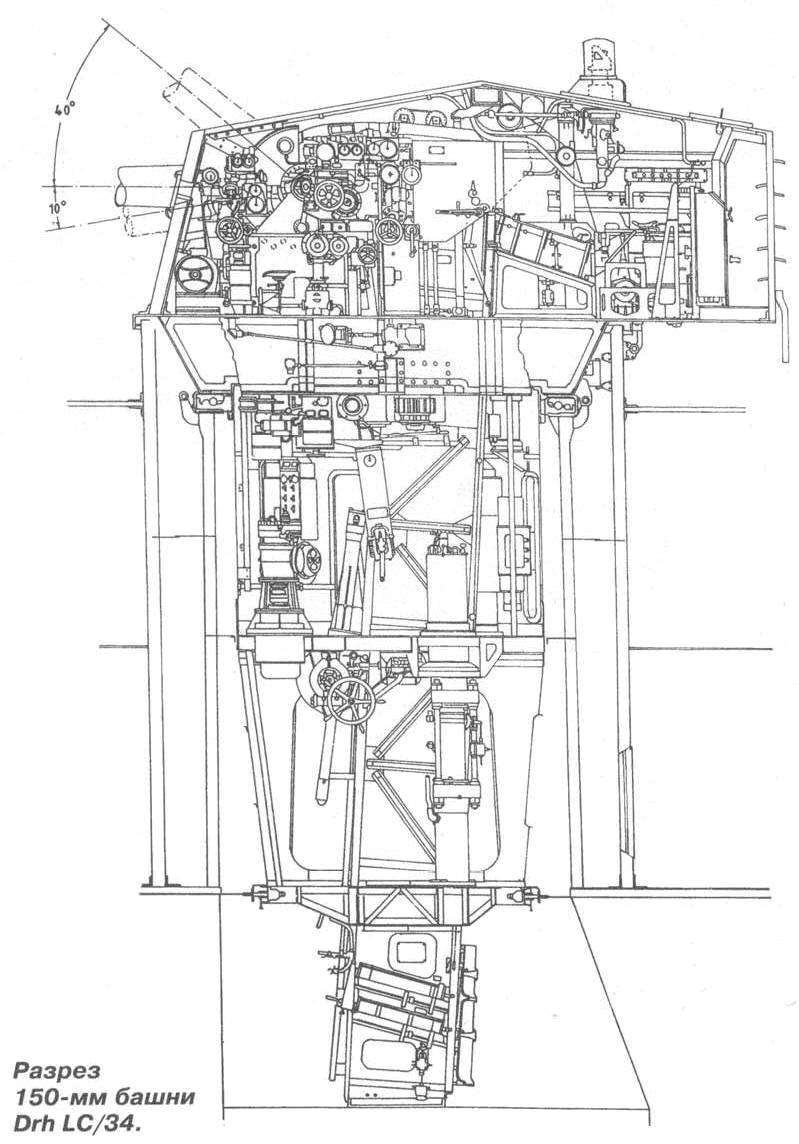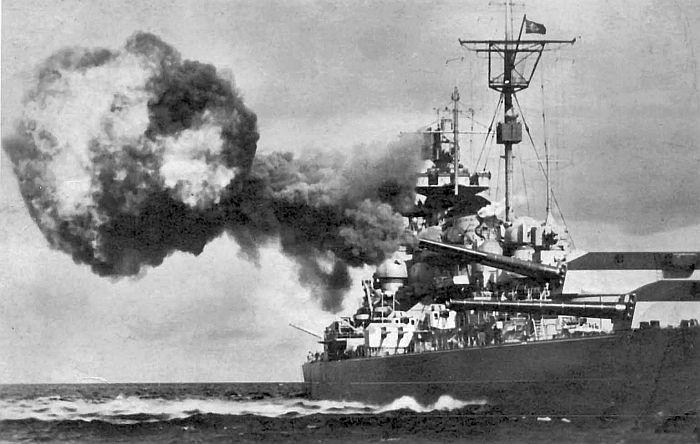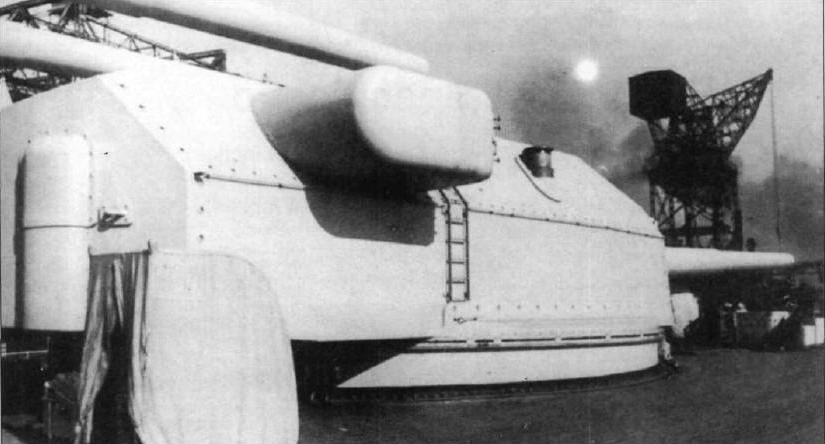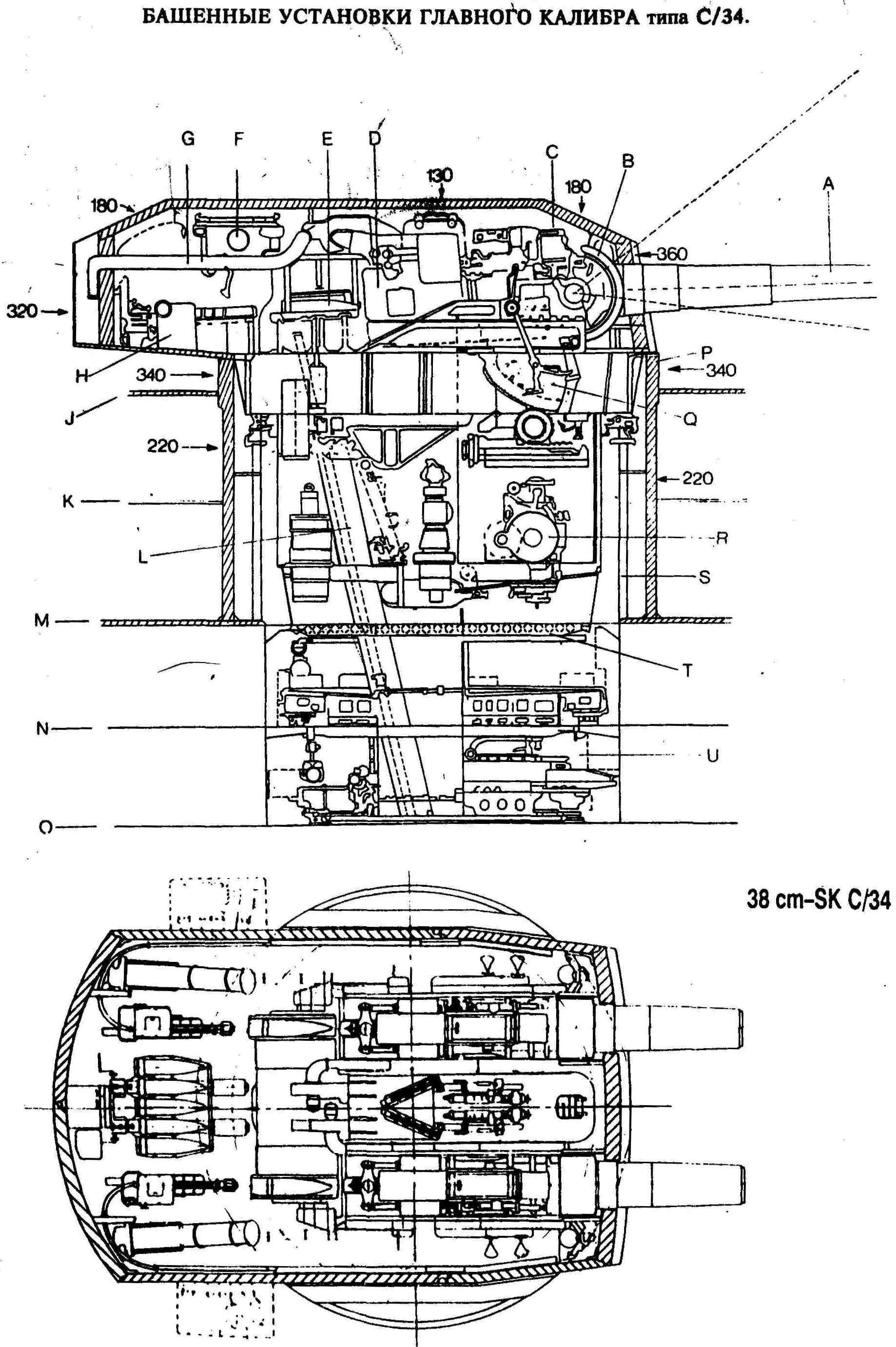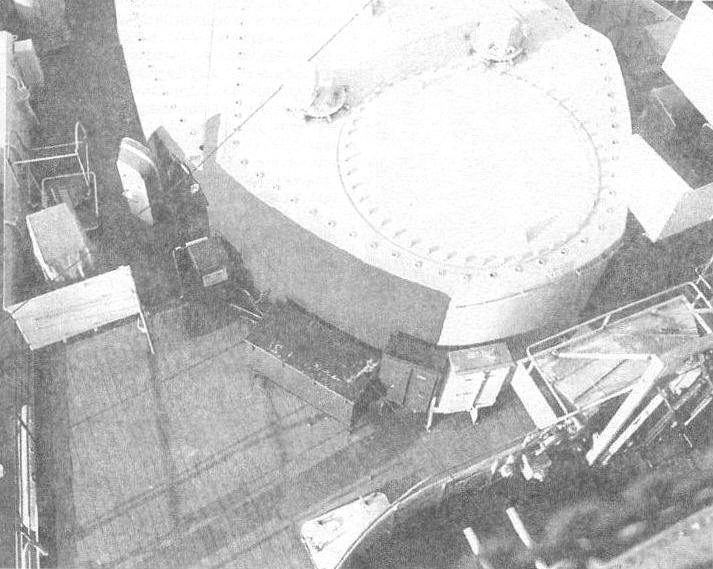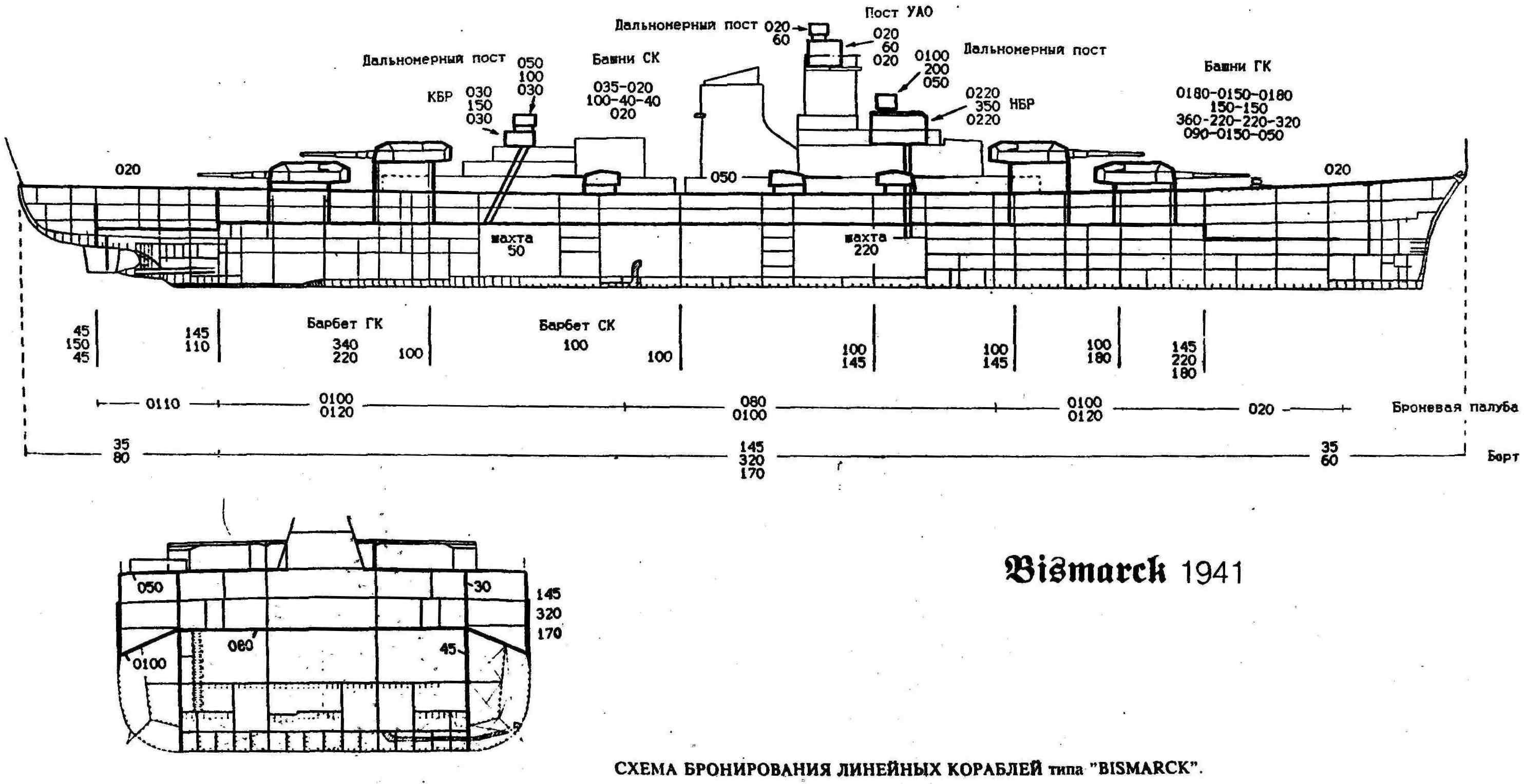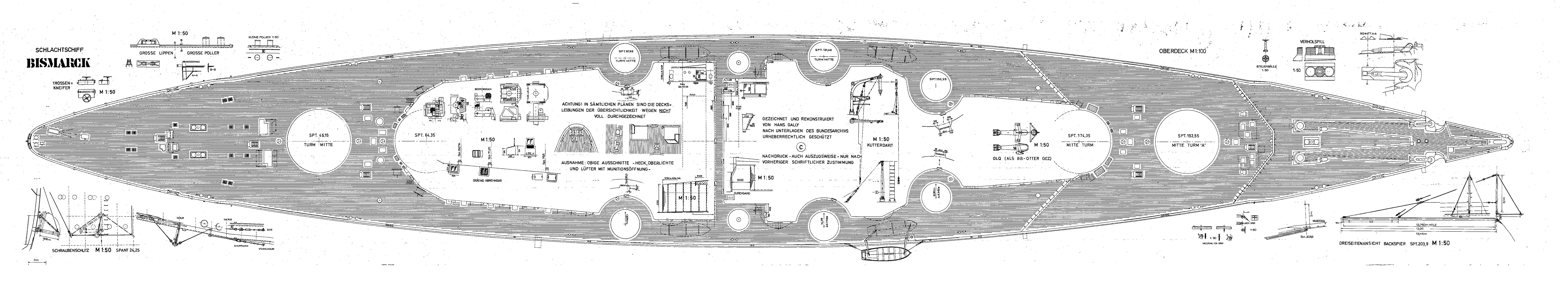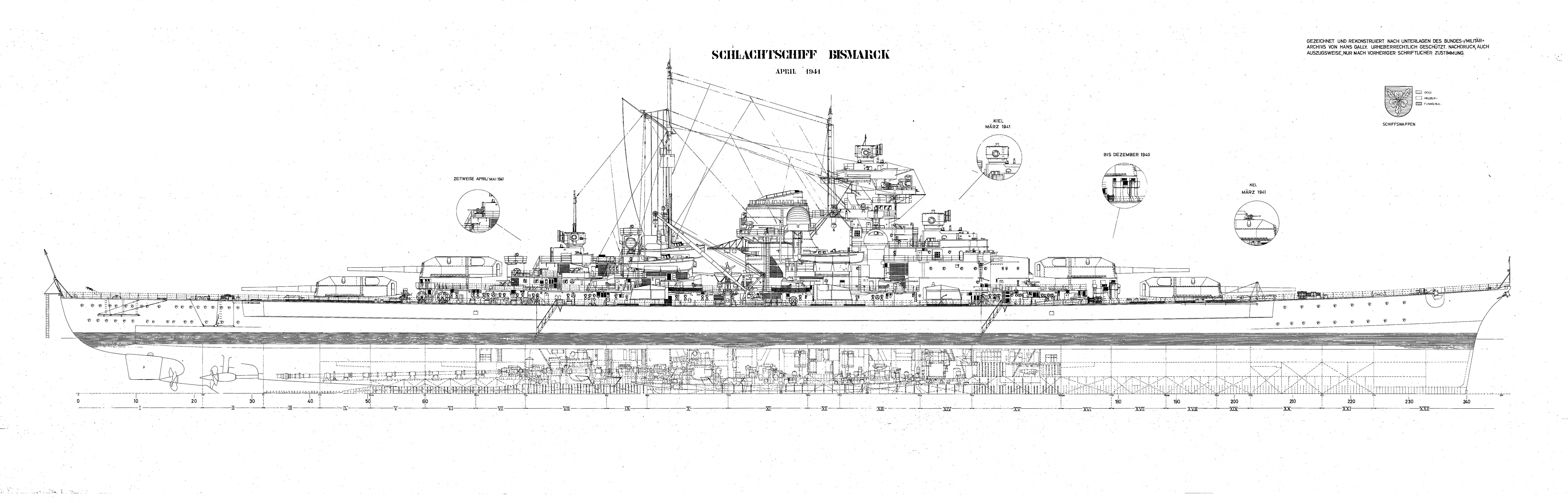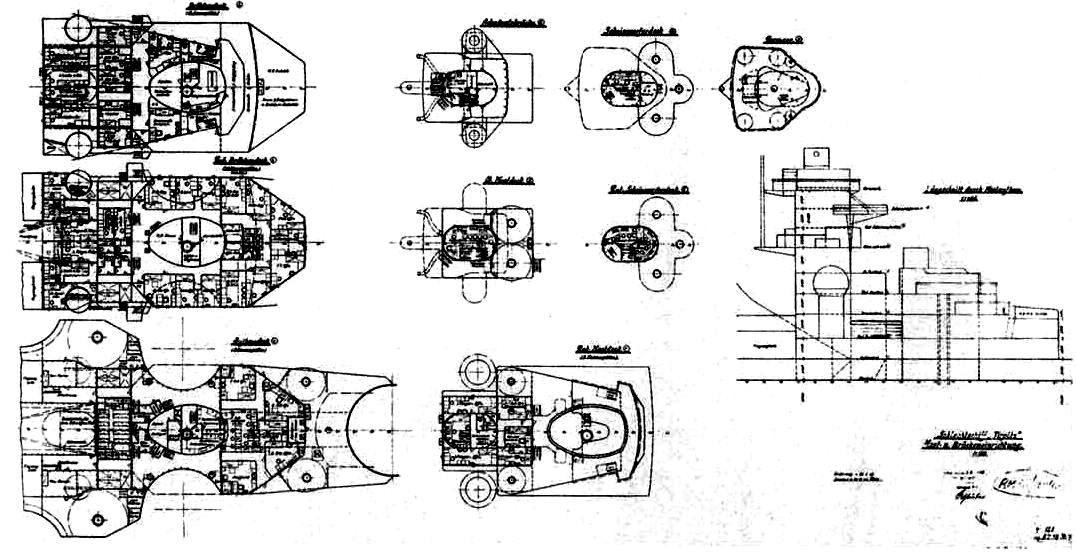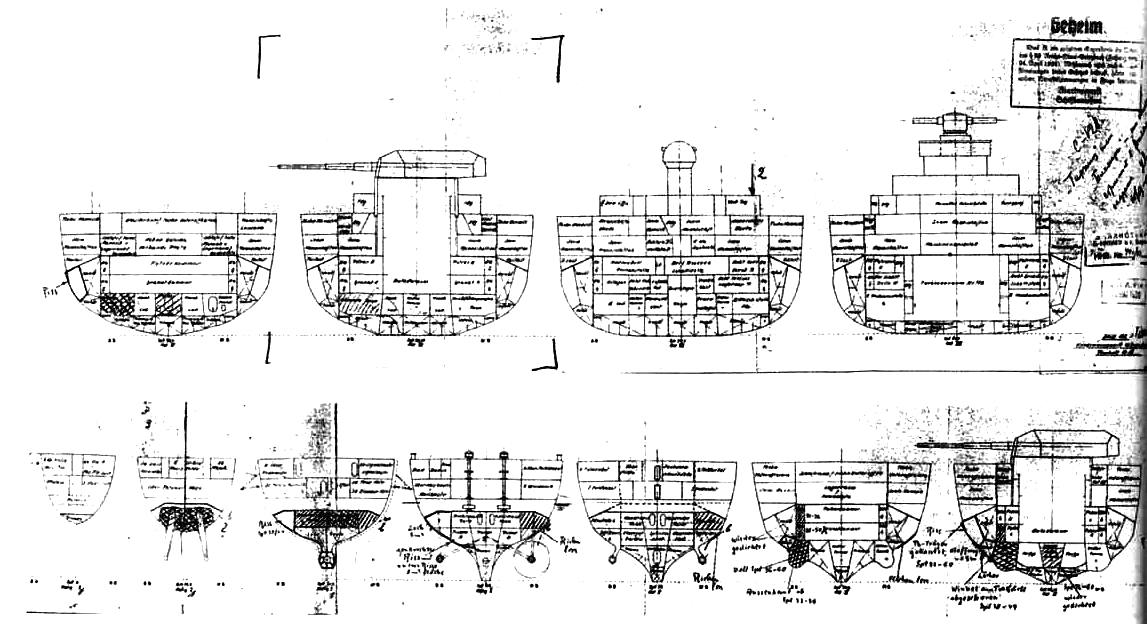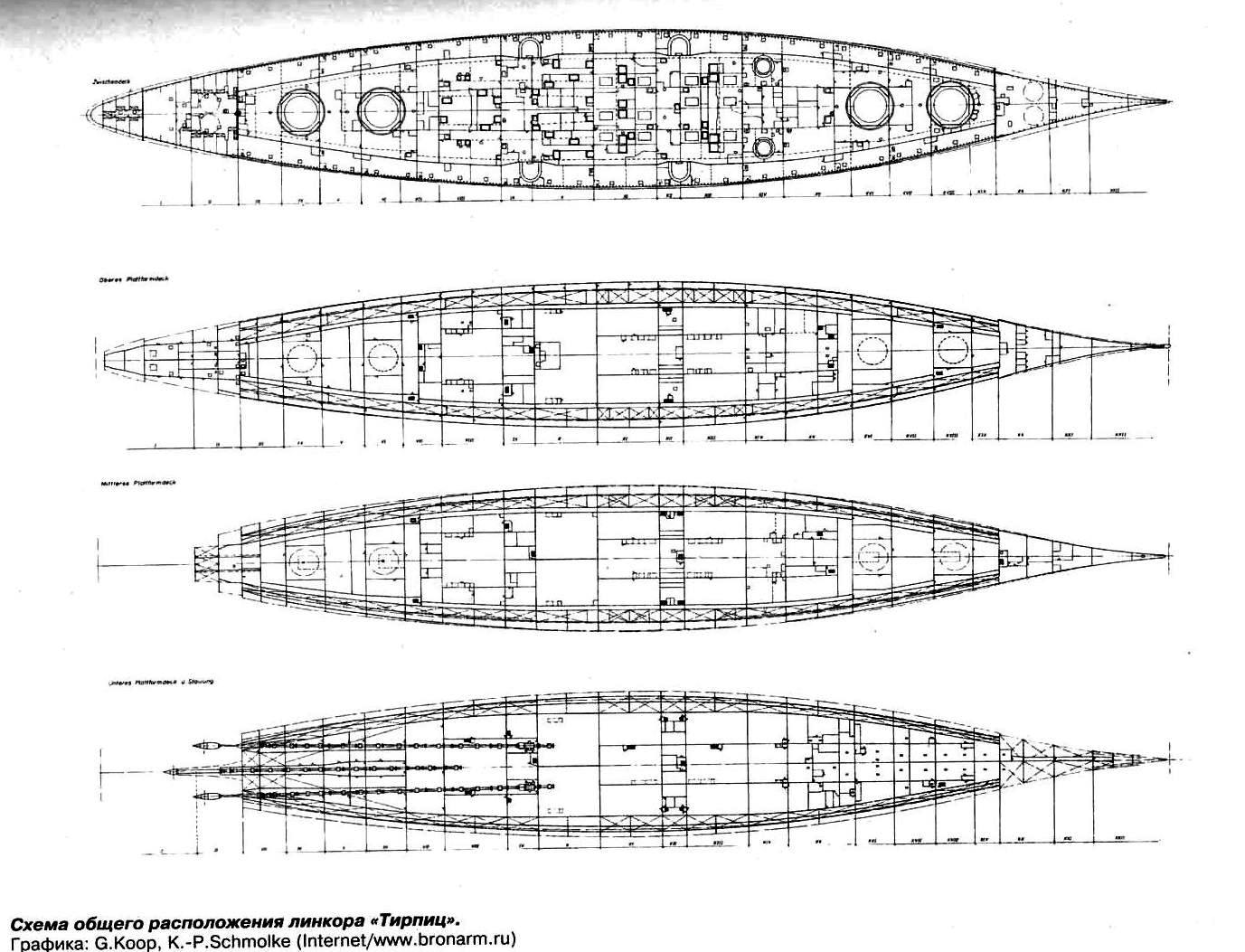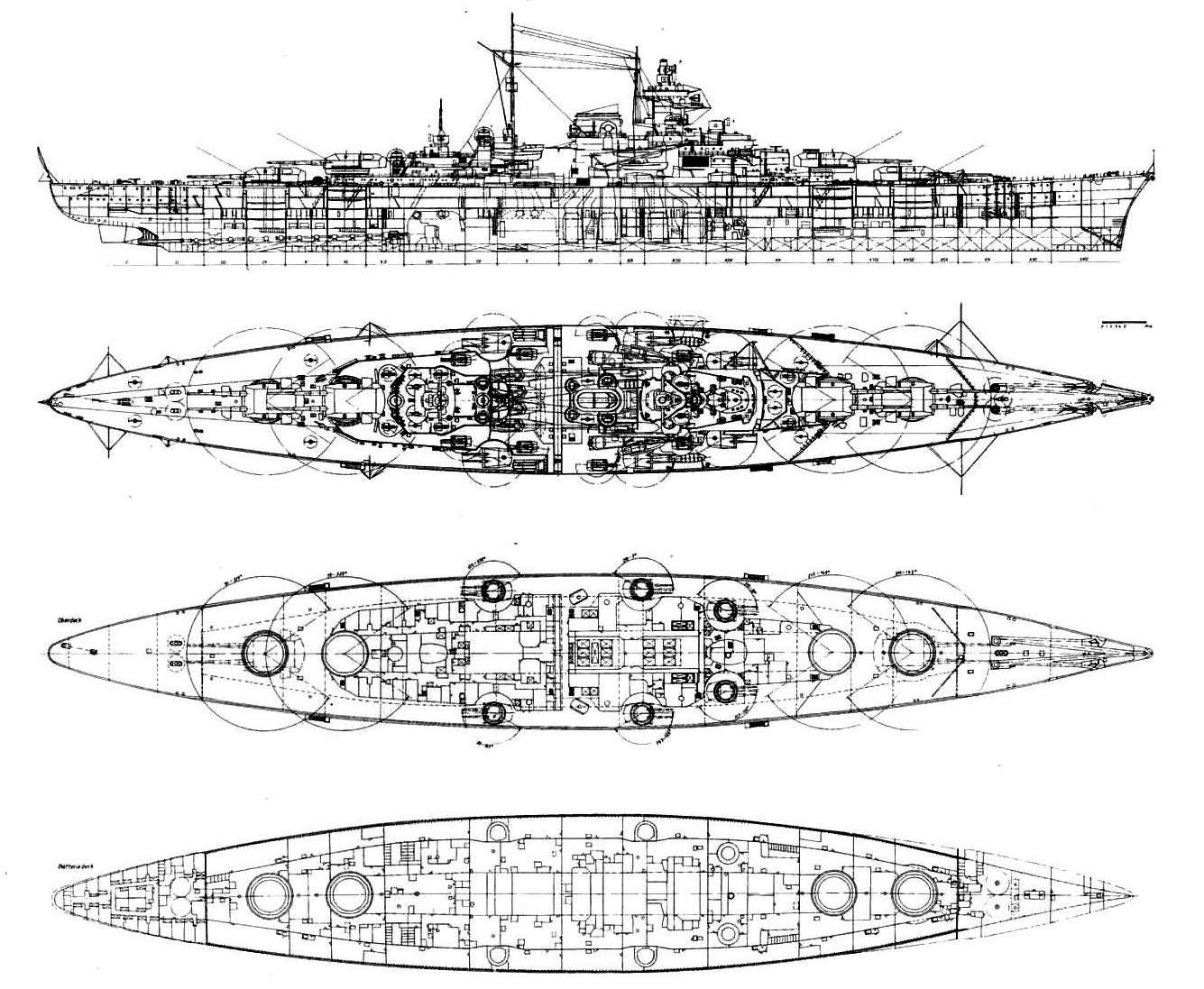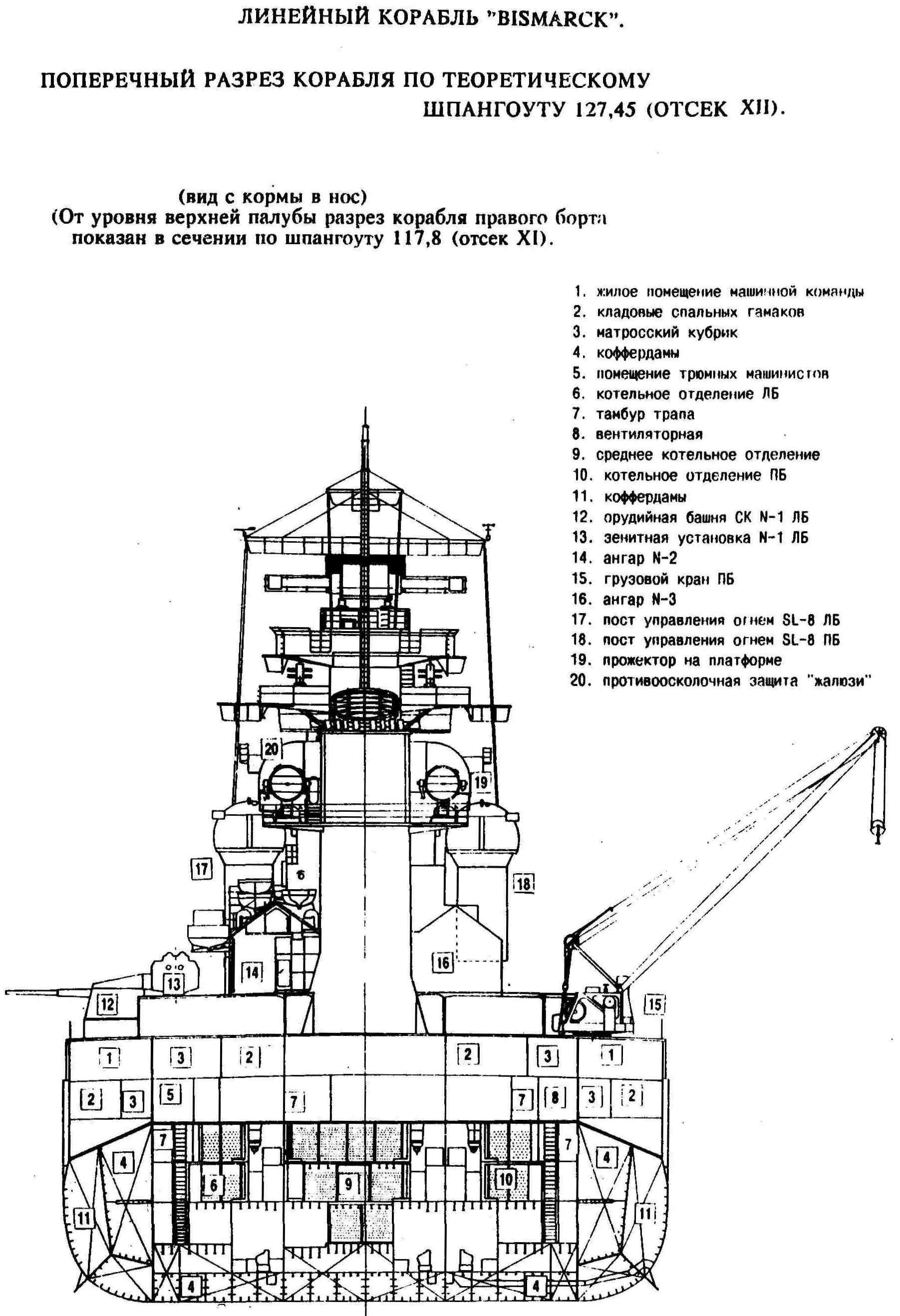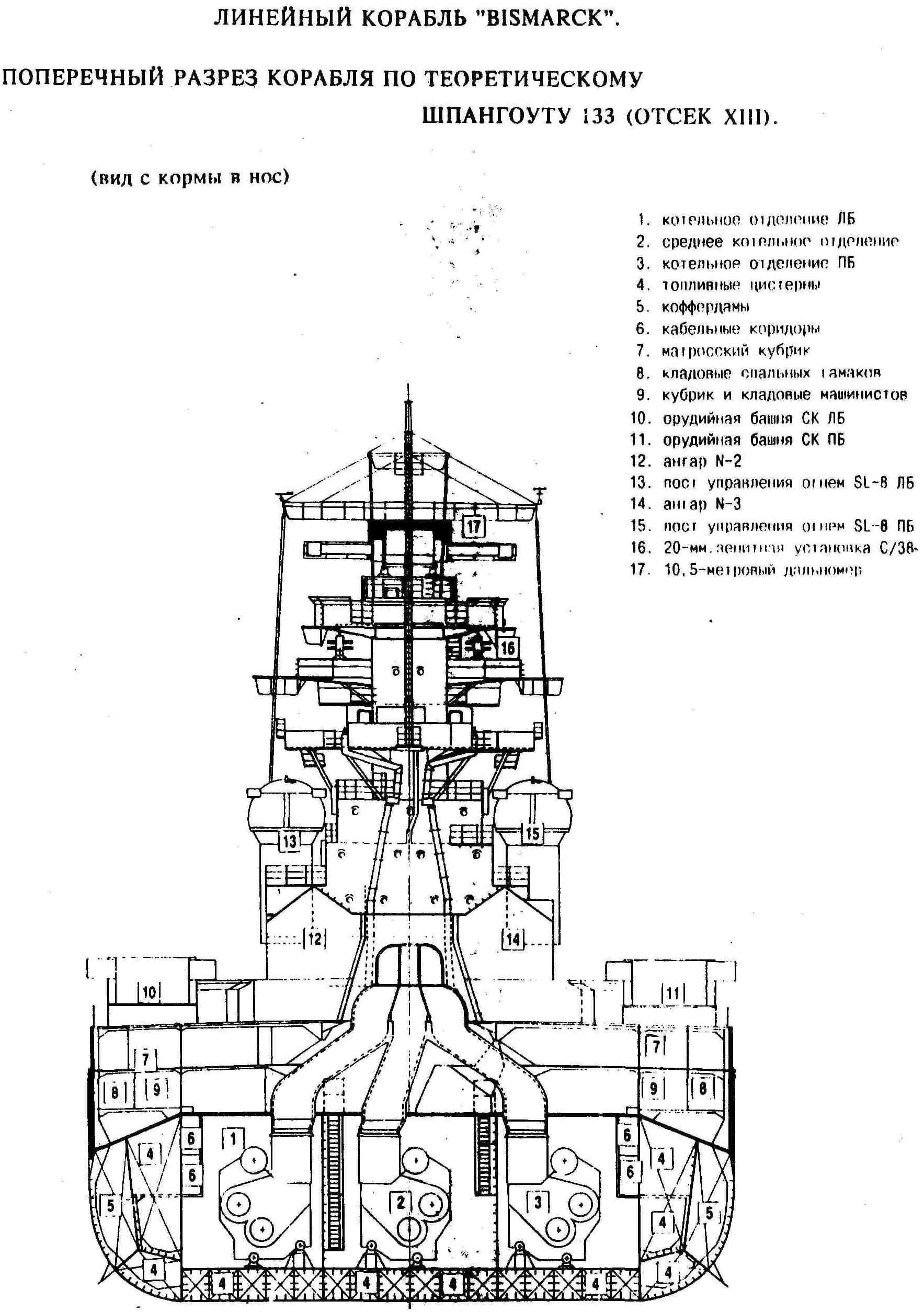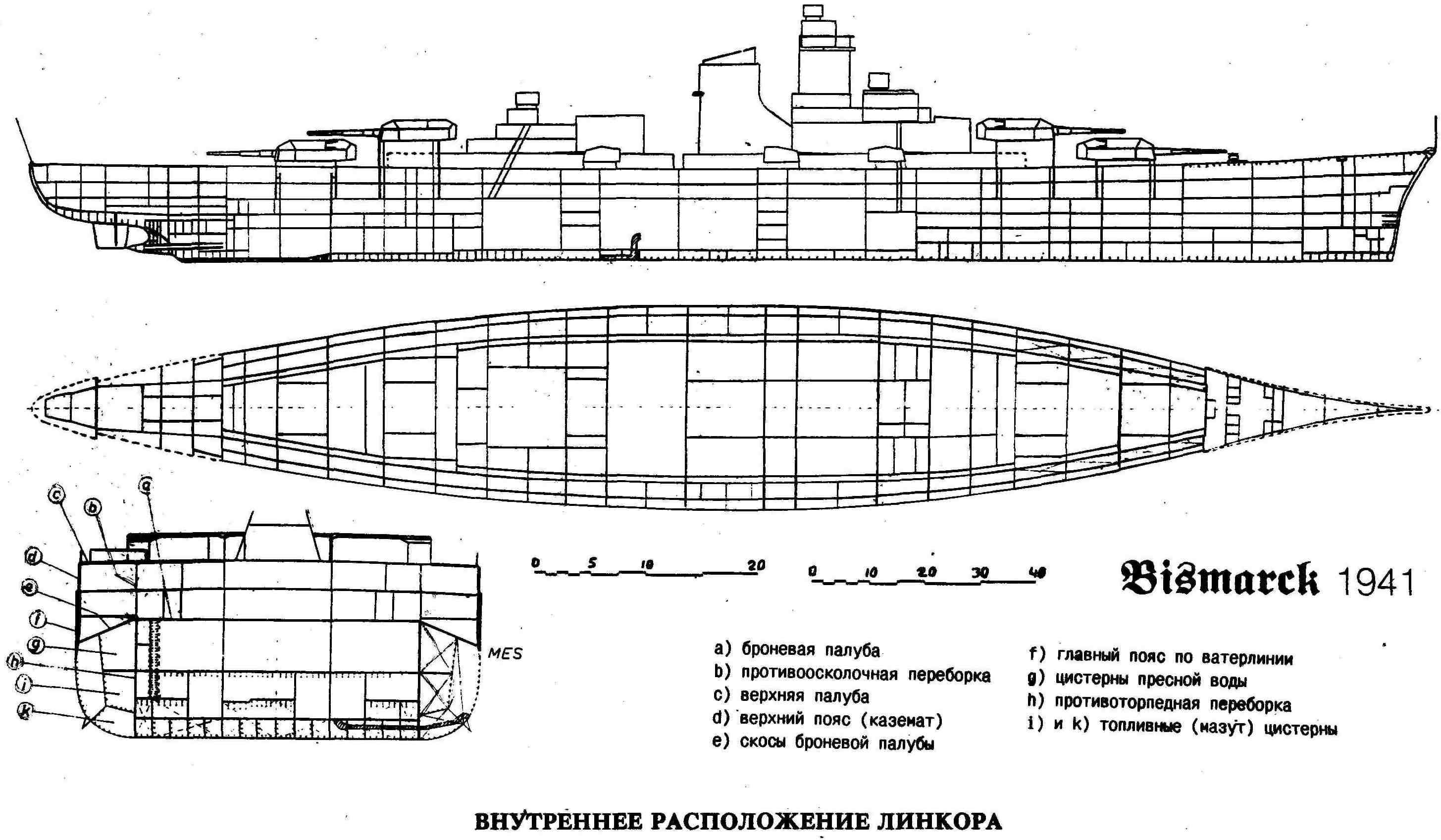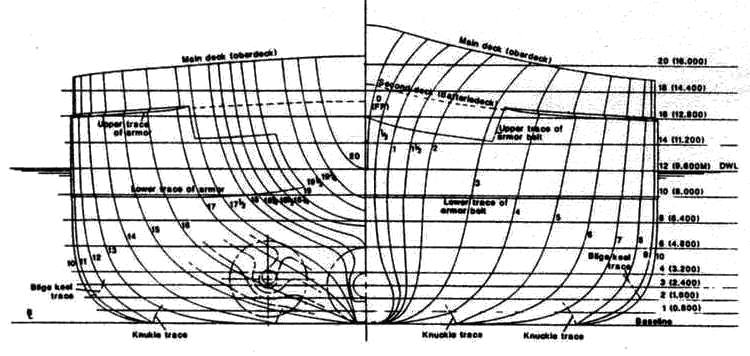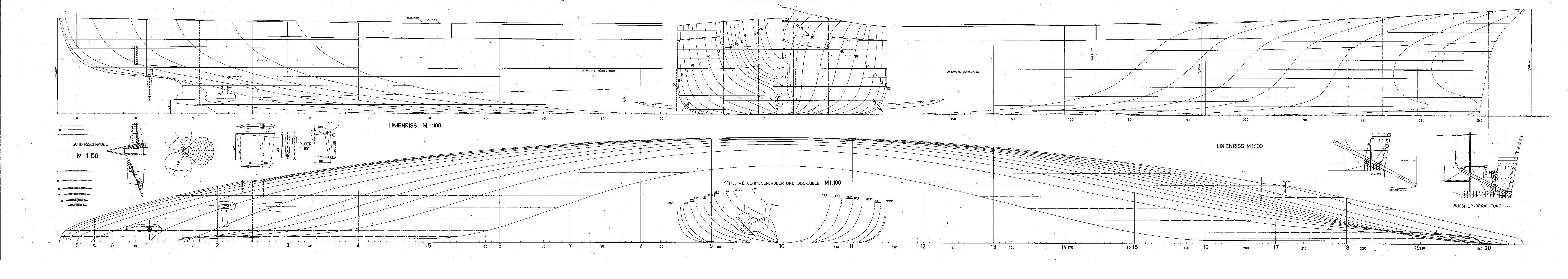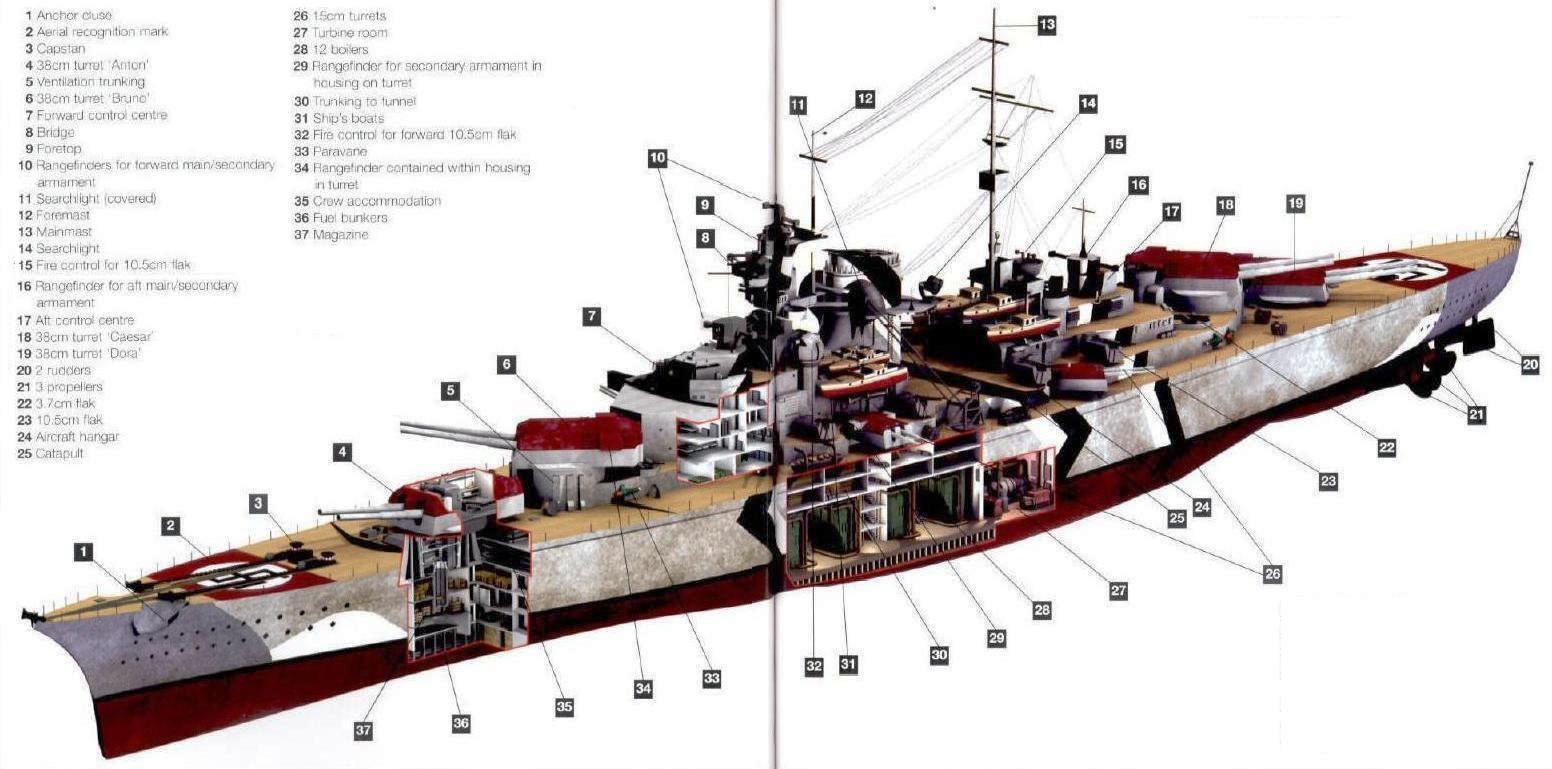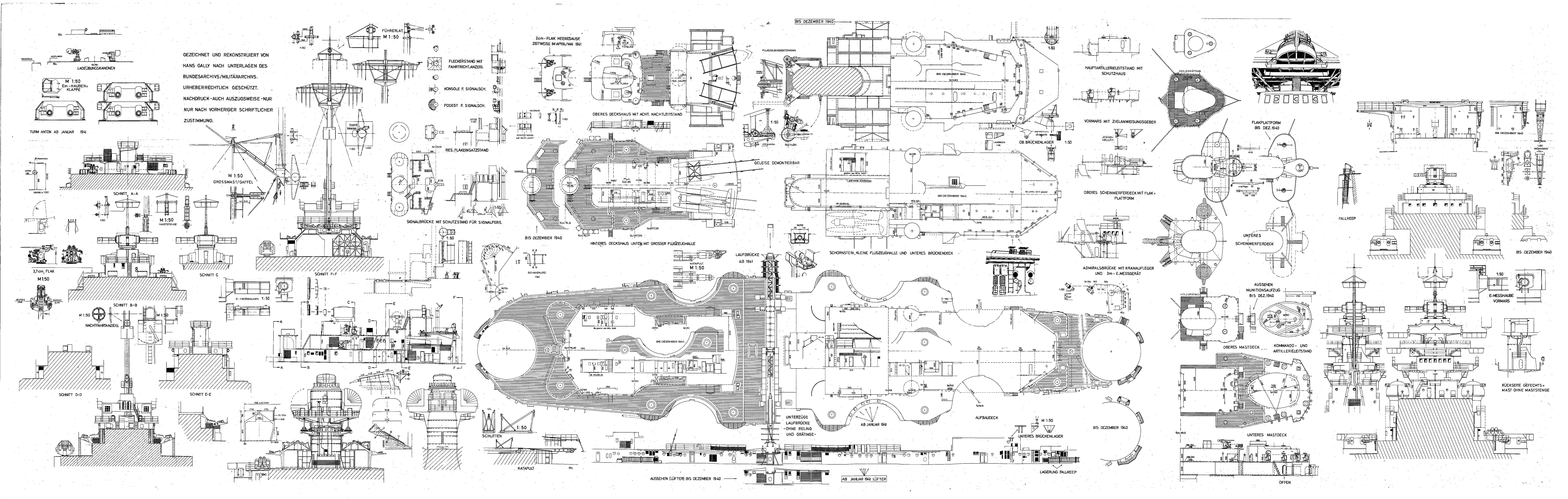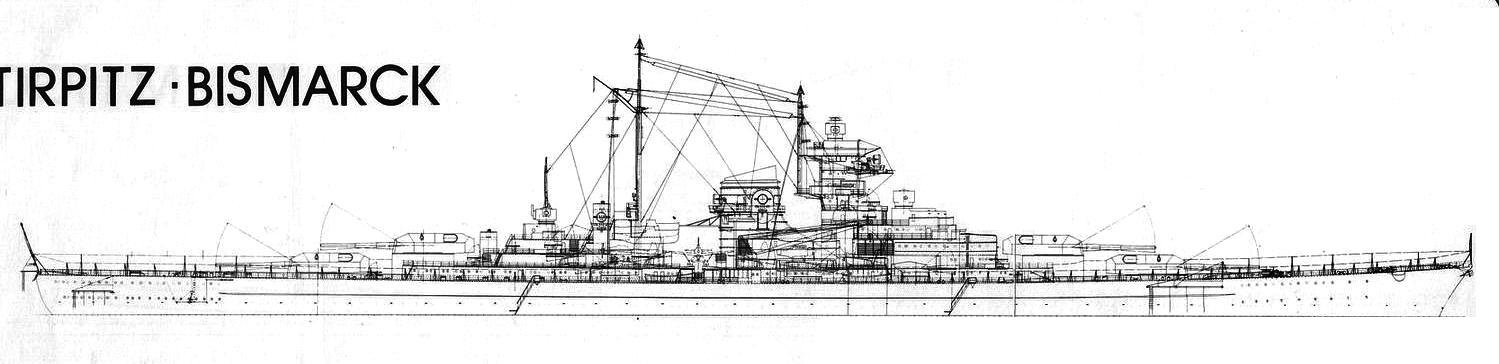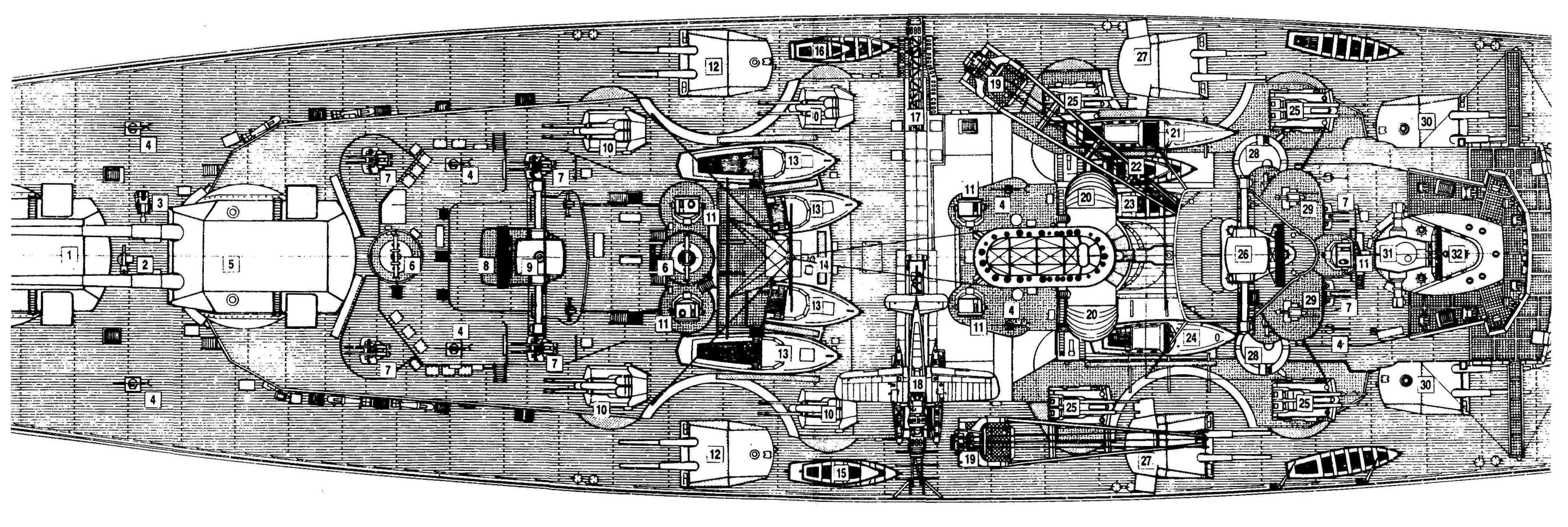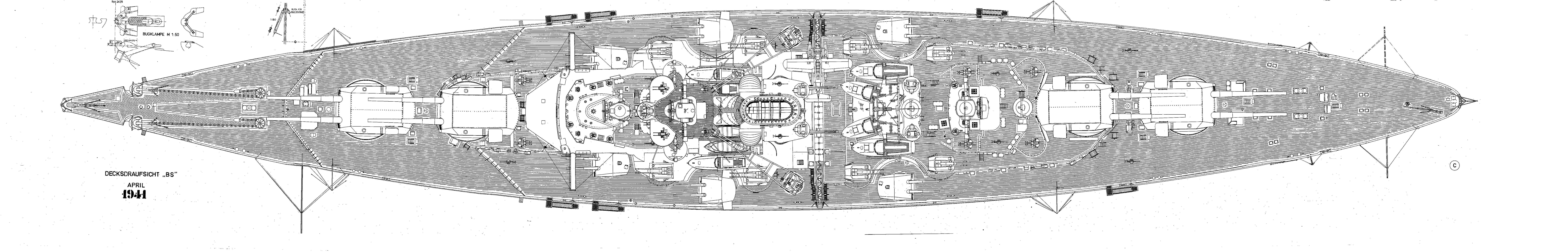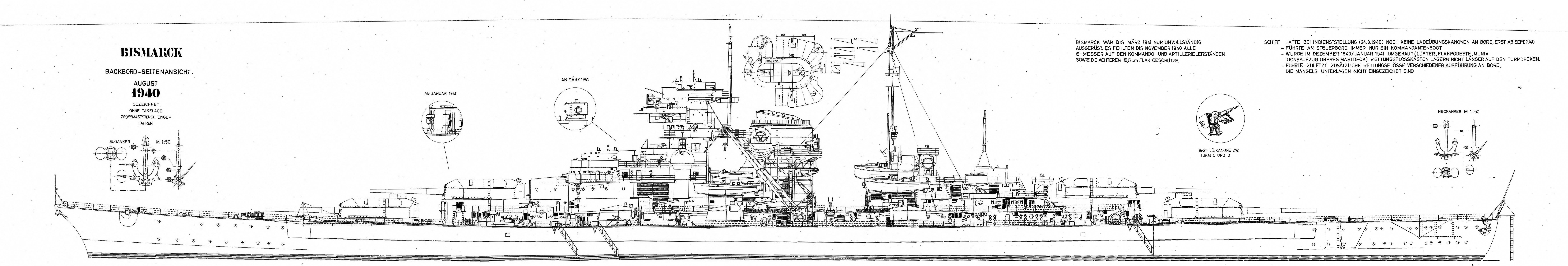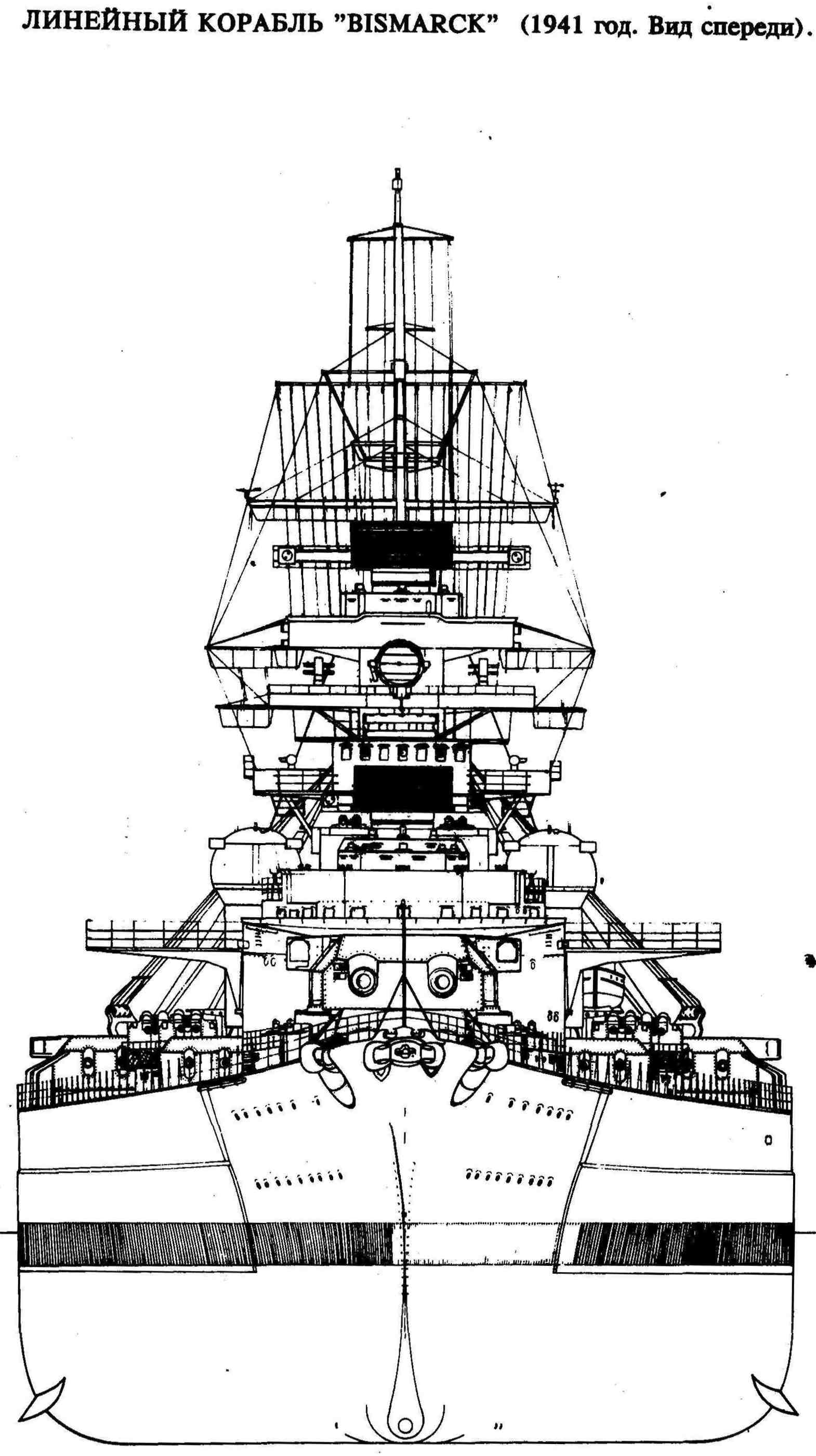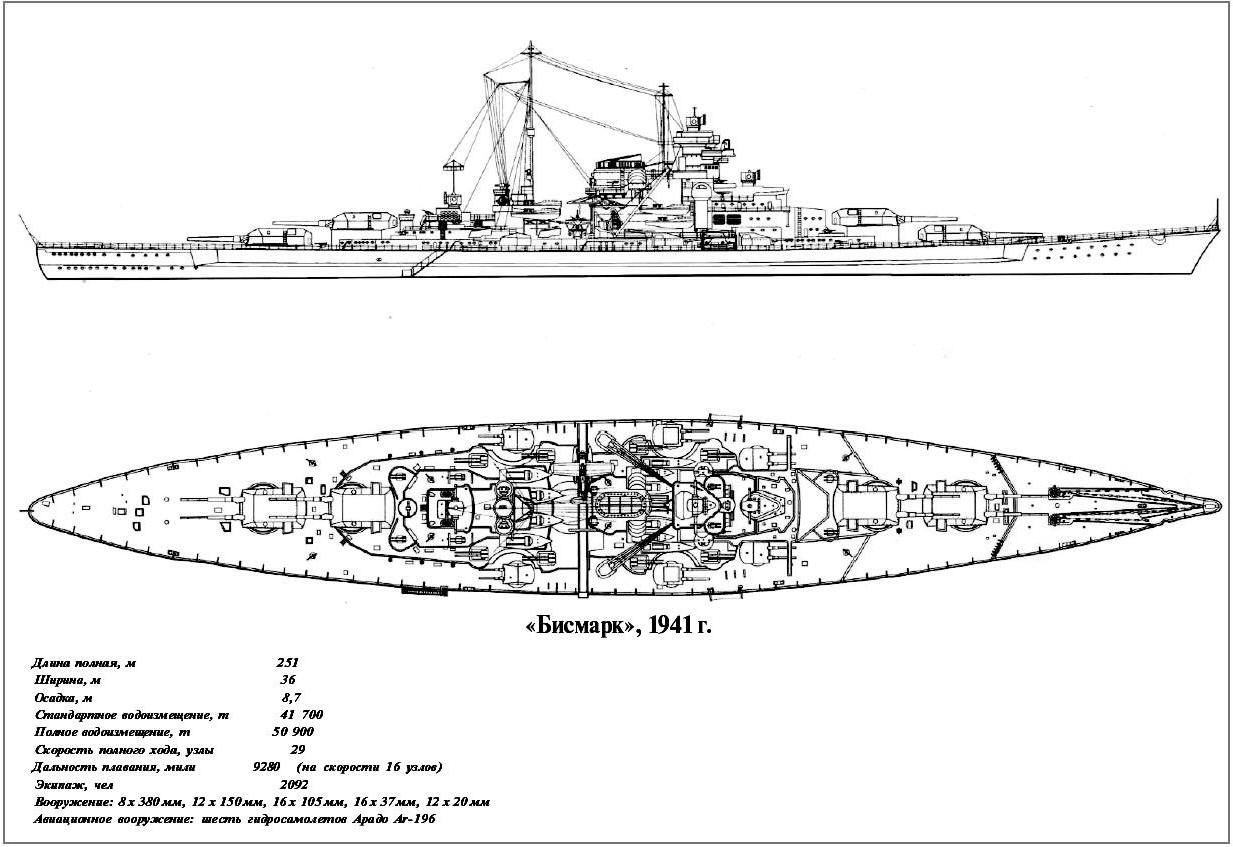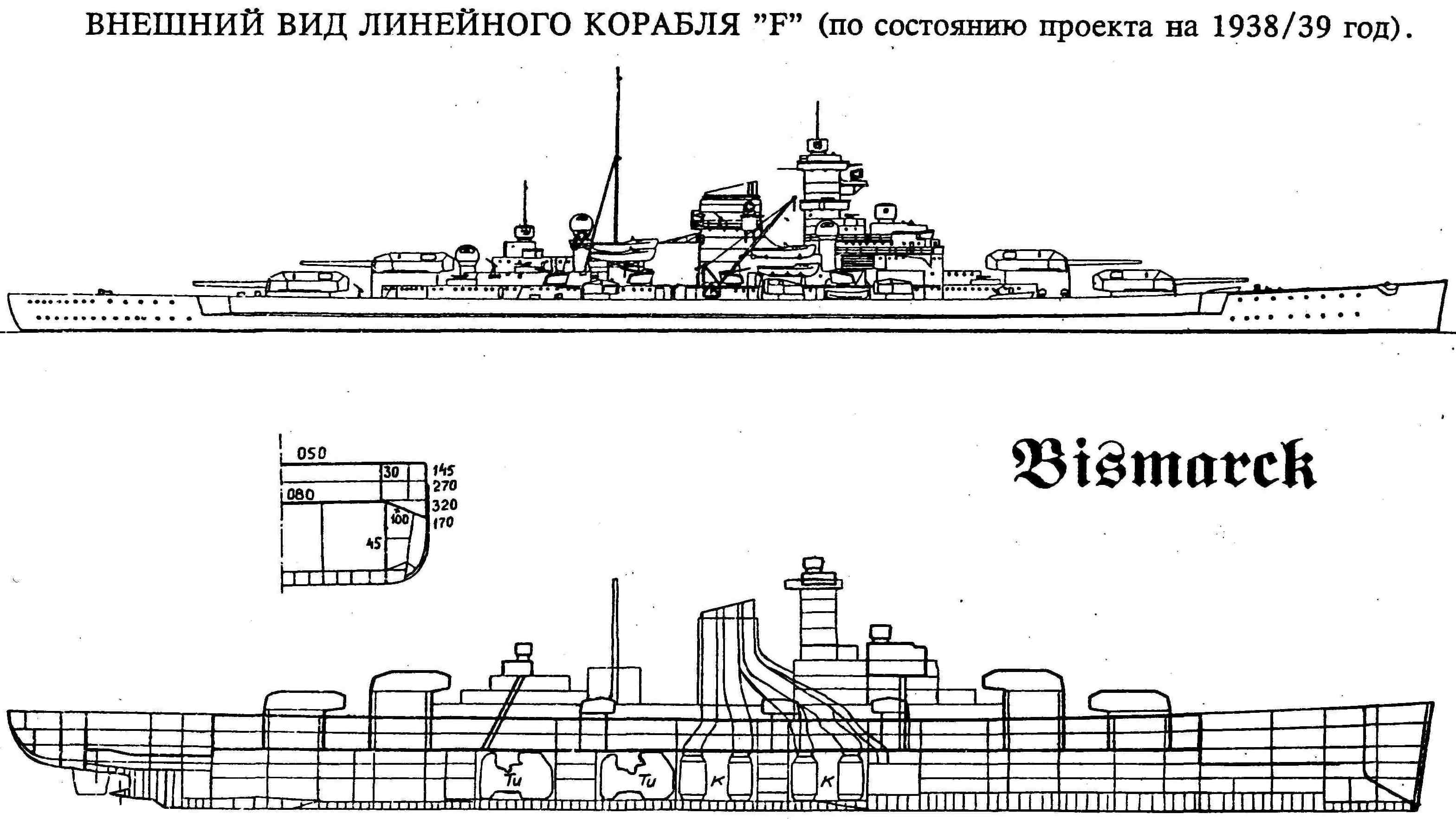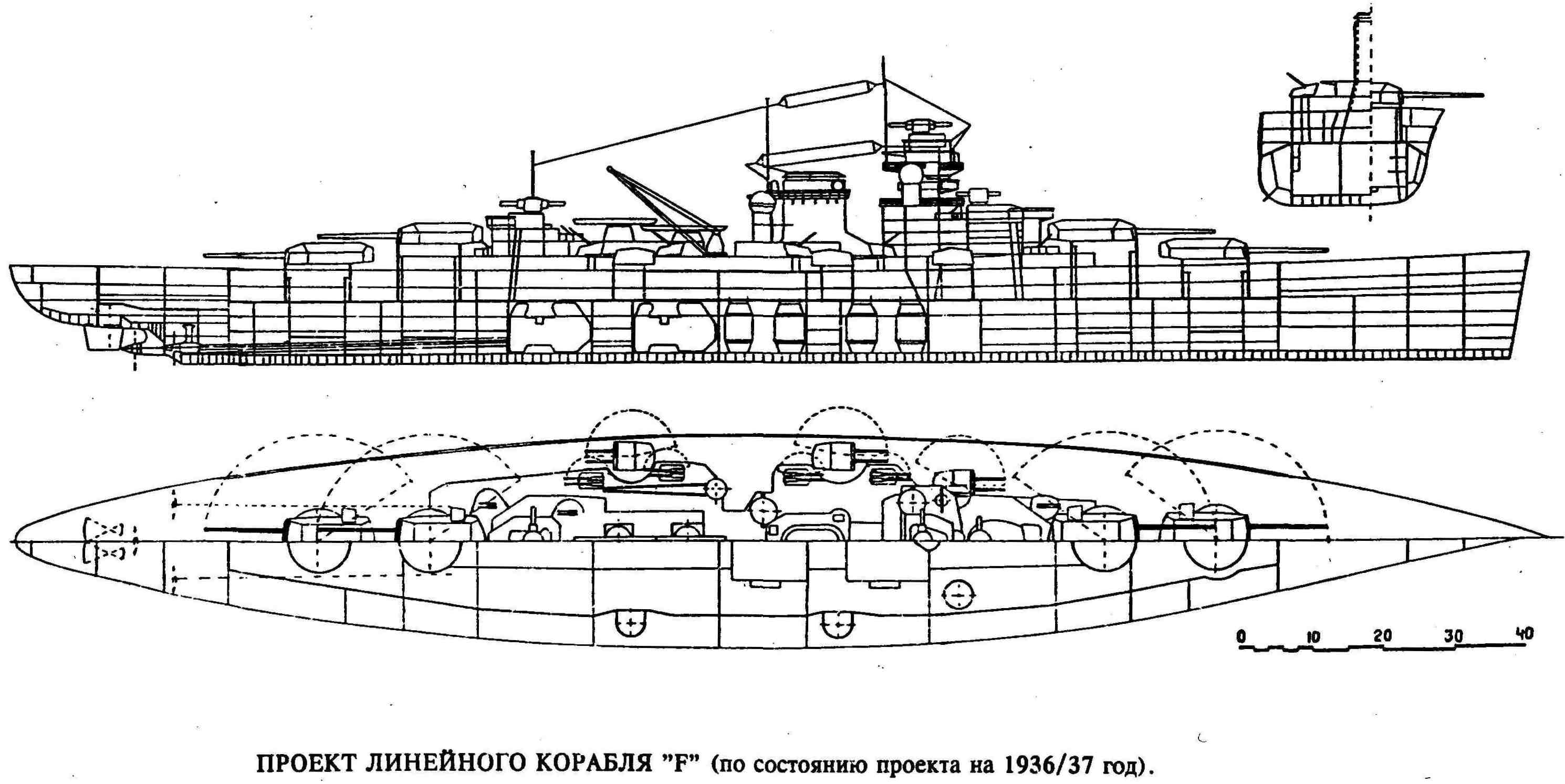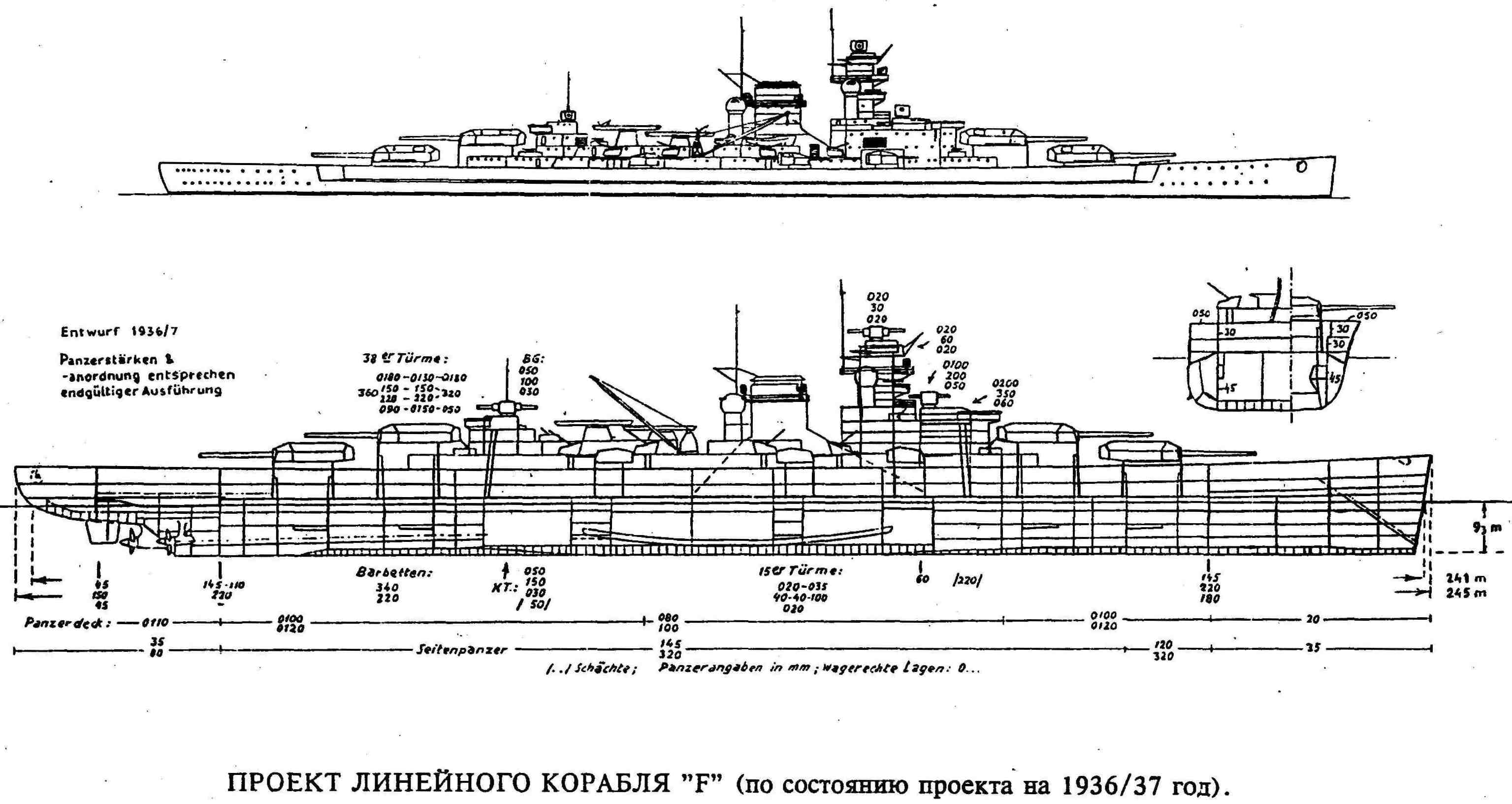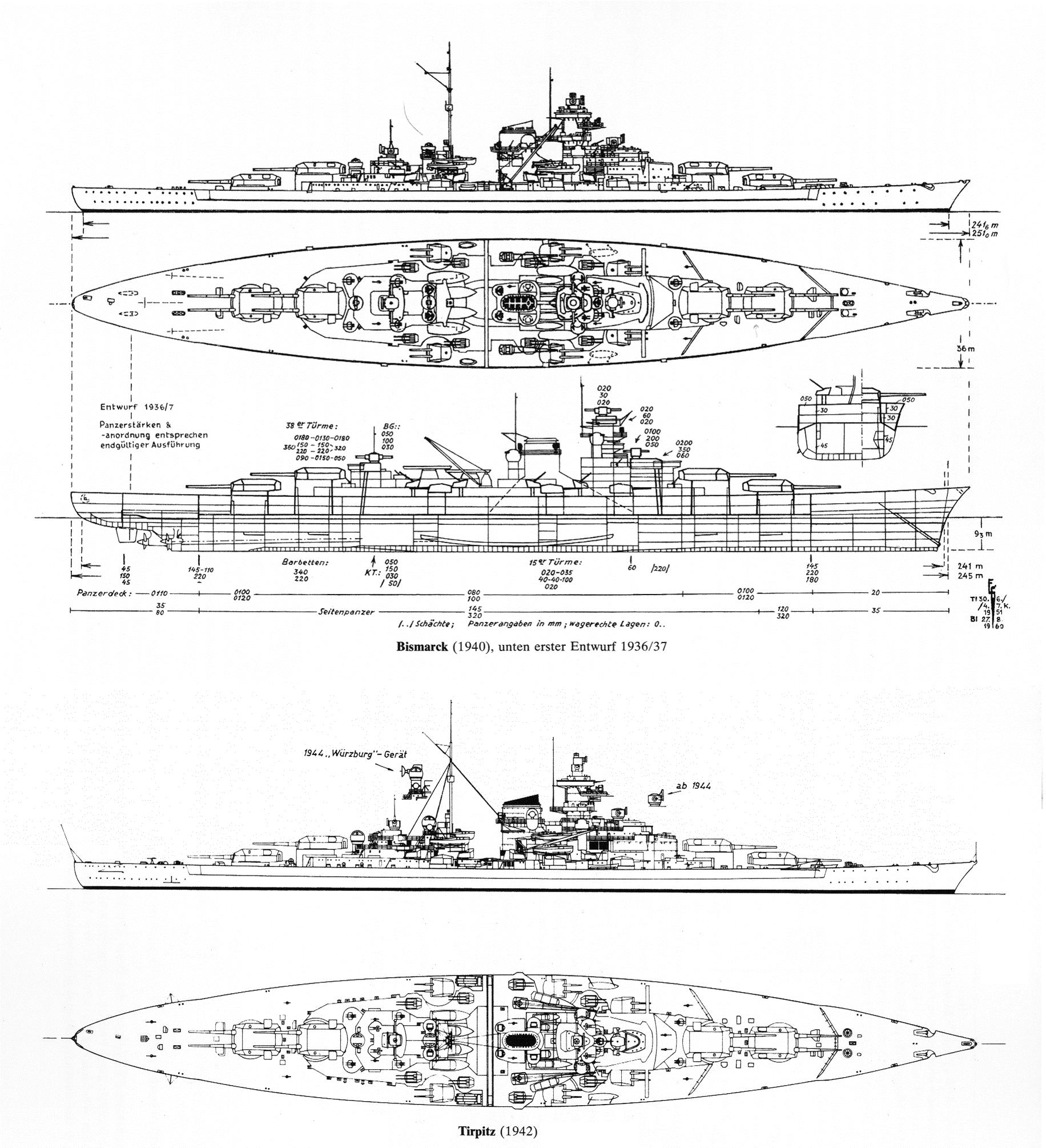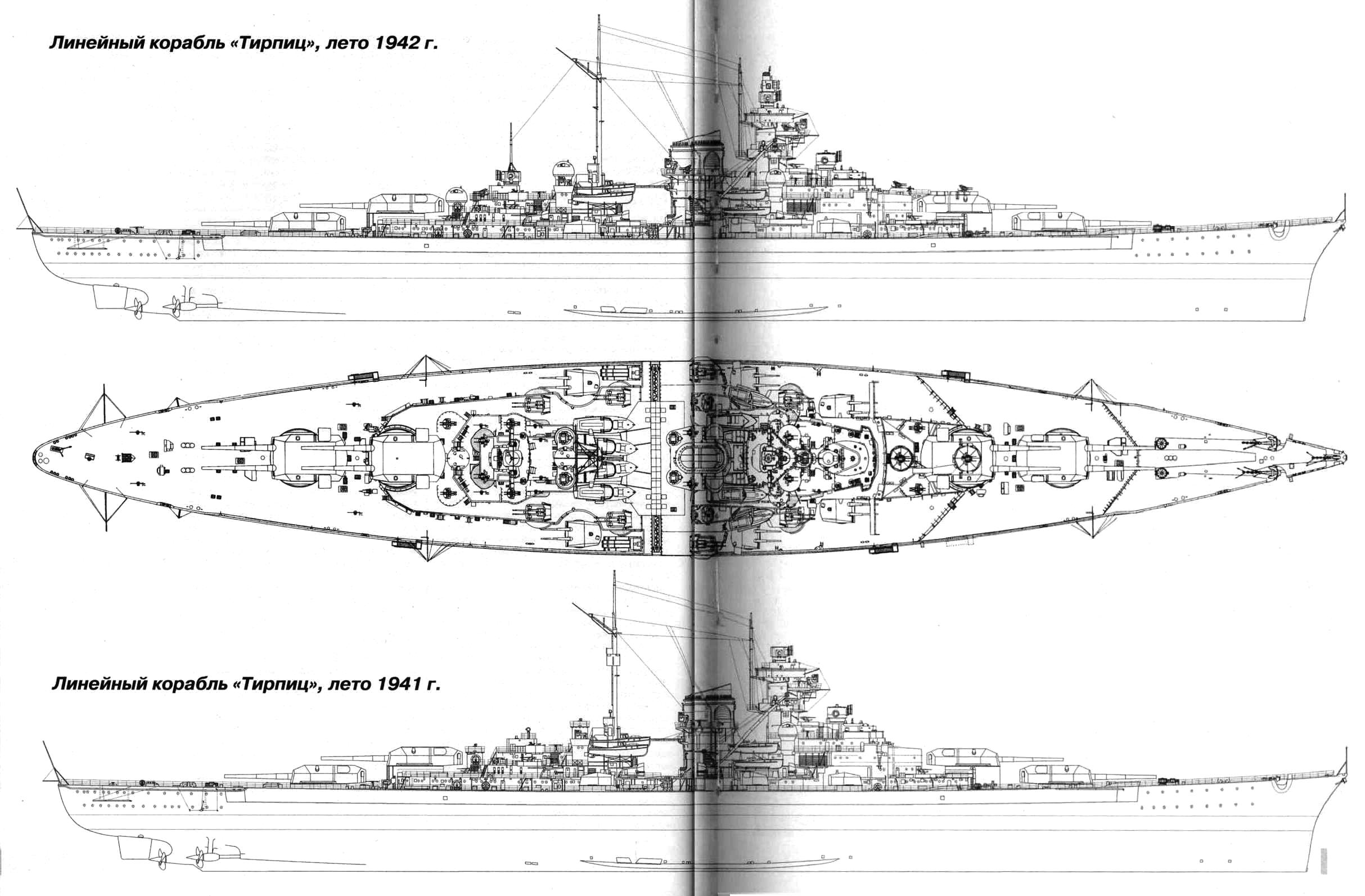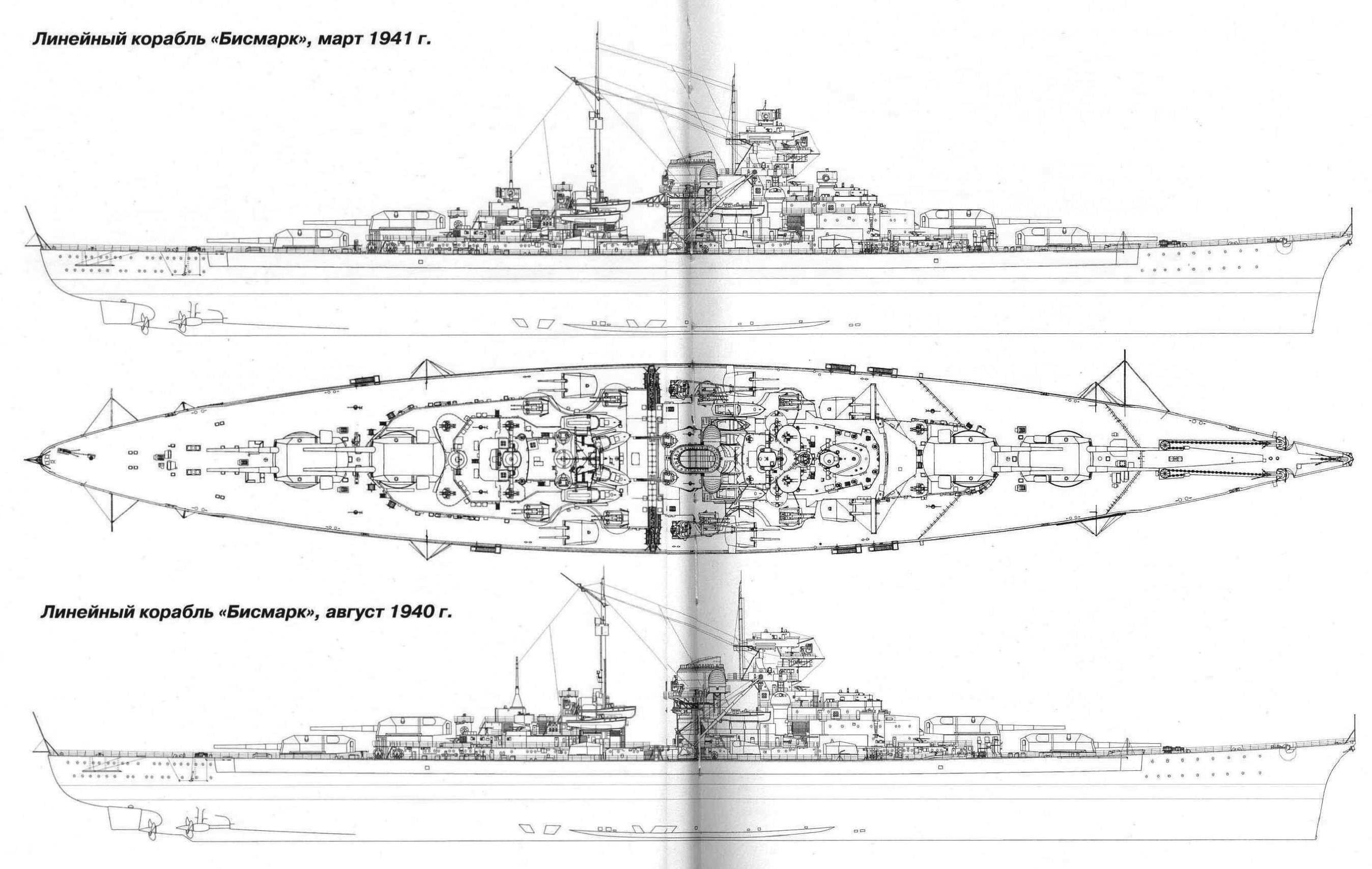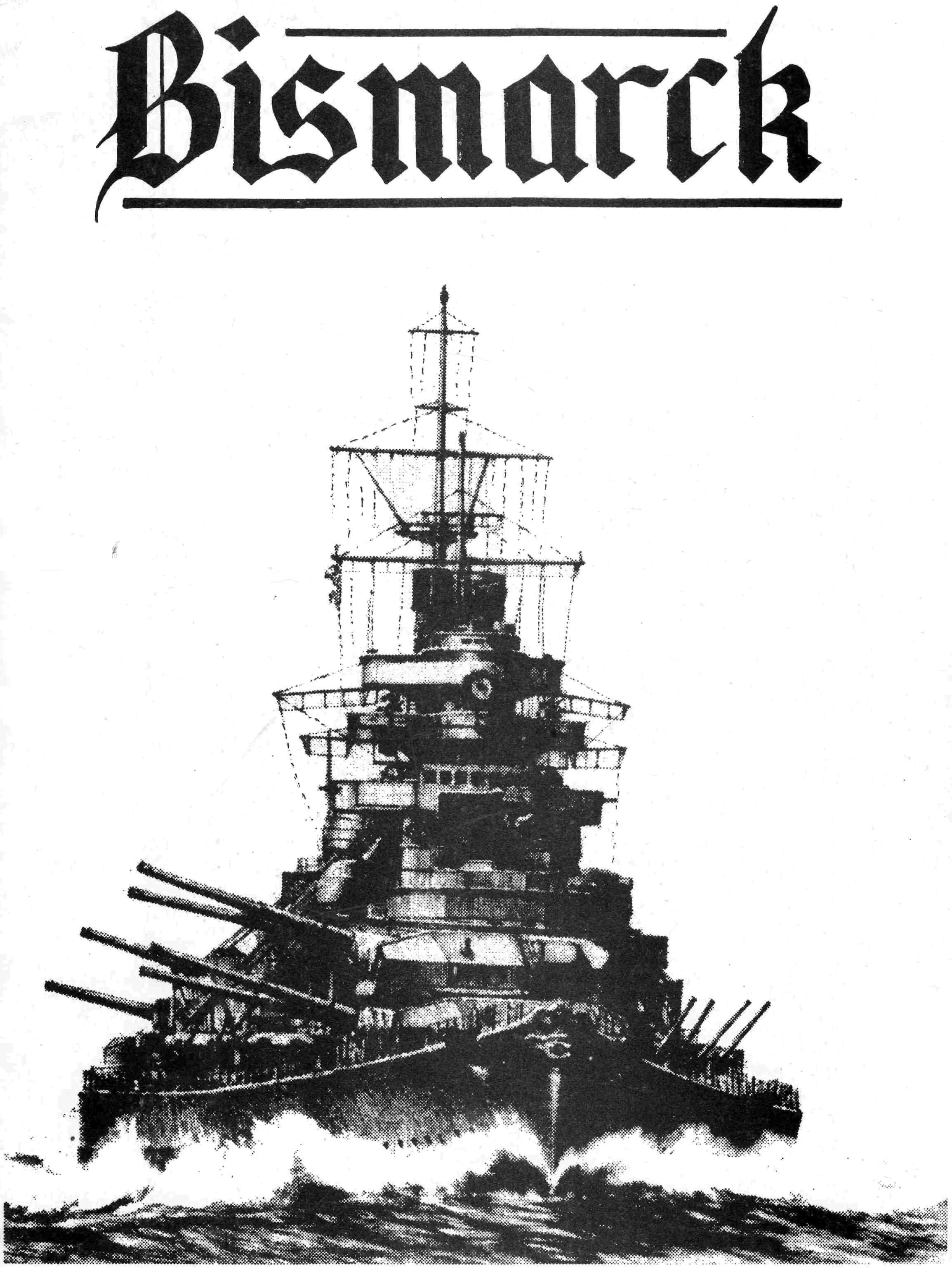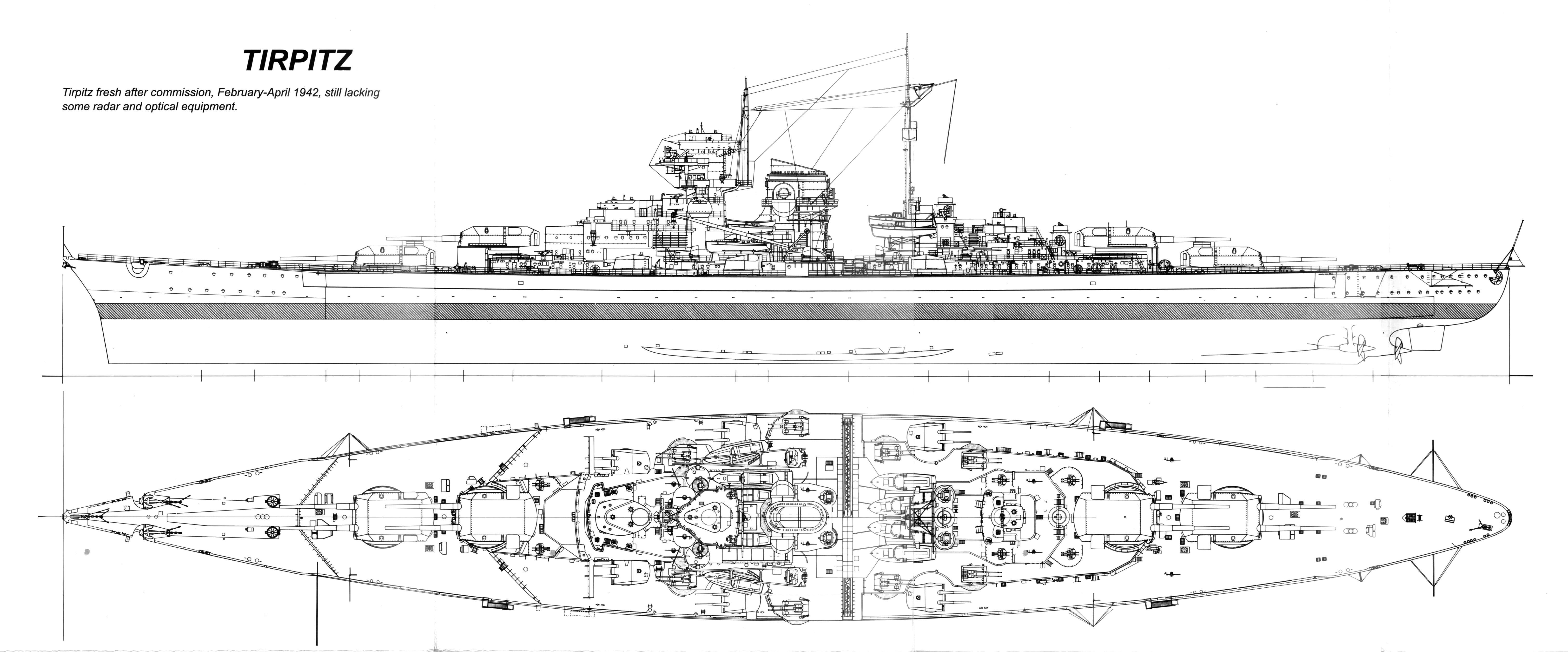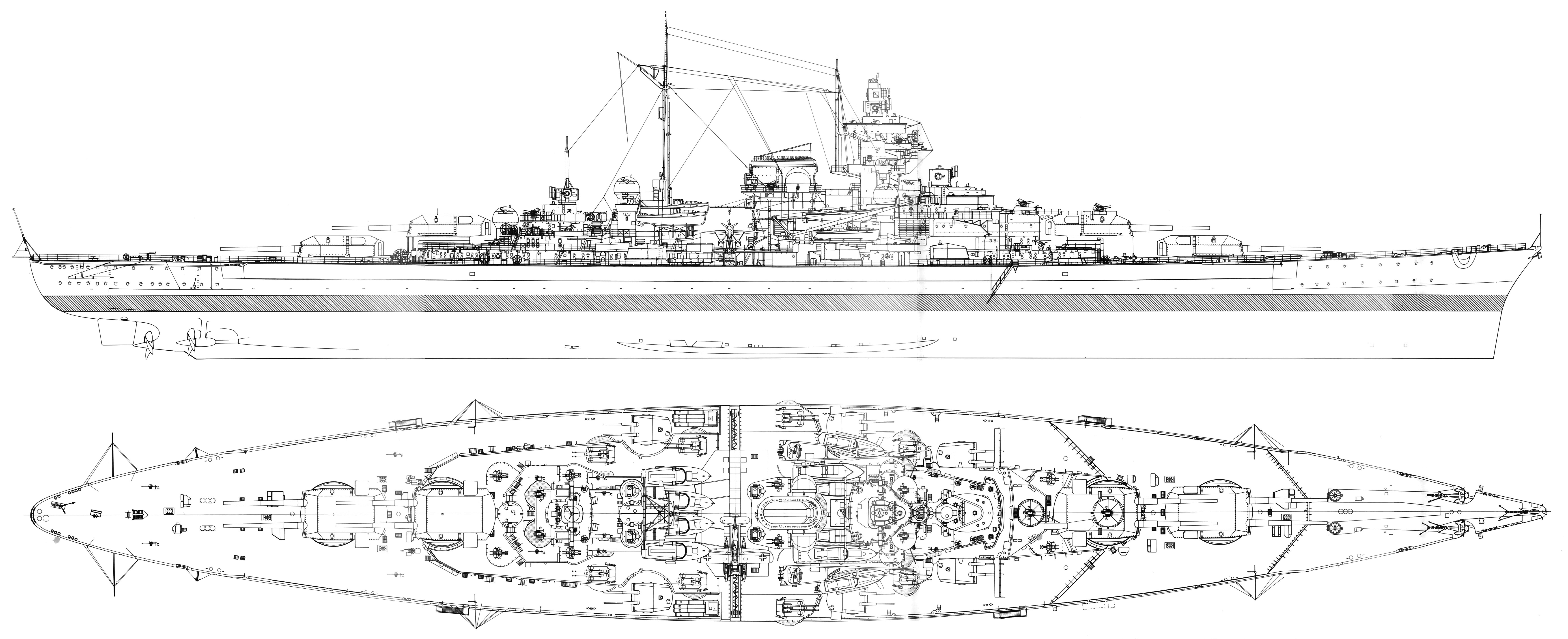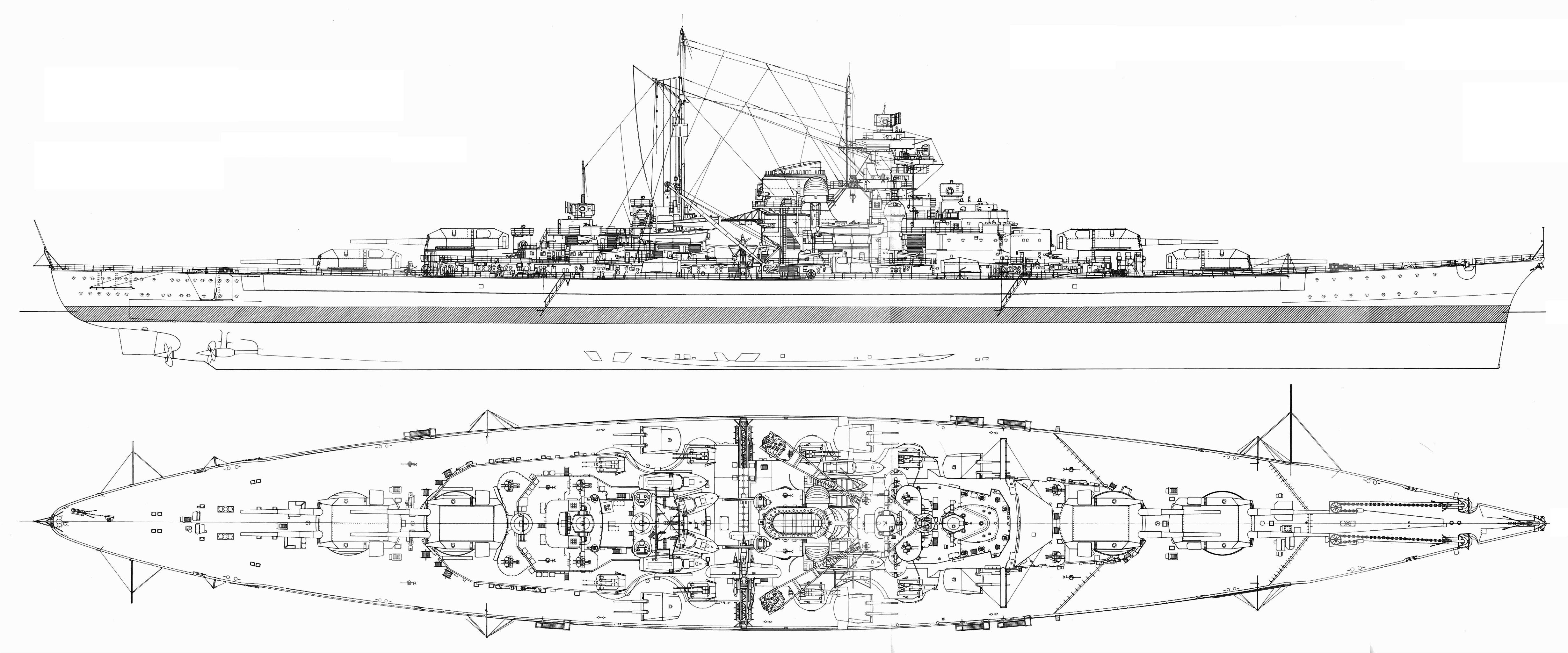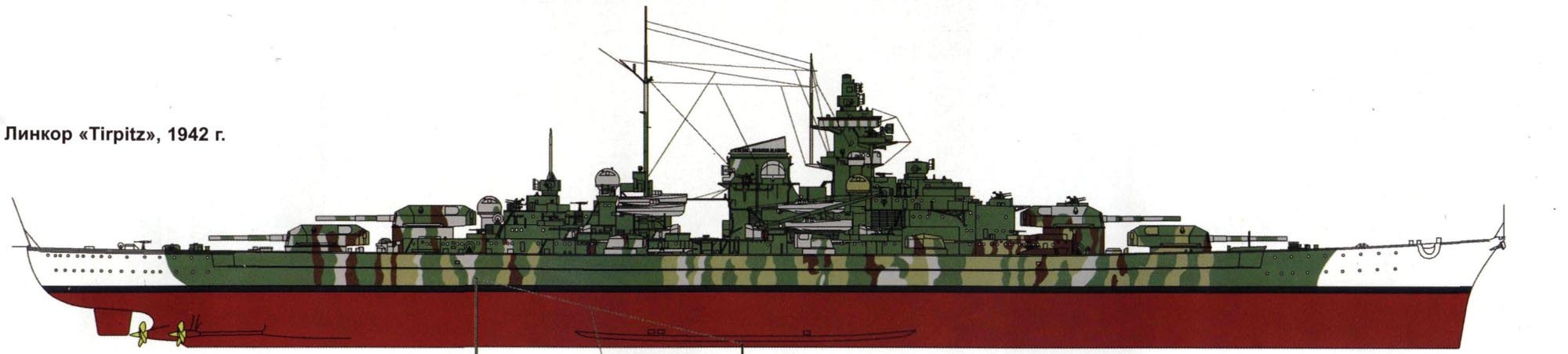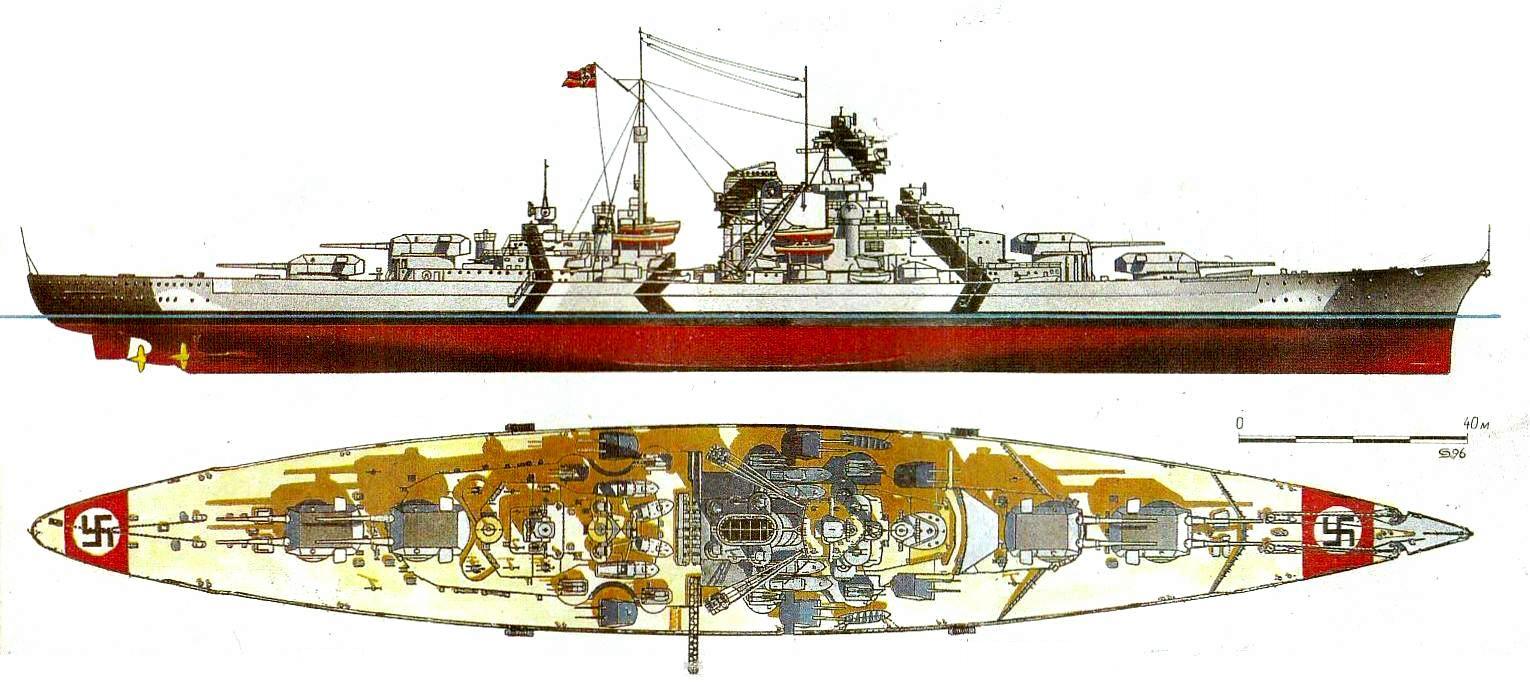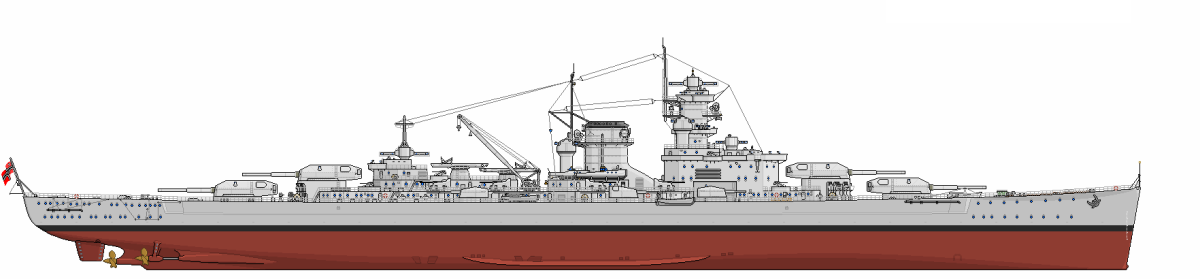
Оглавление → Броненосцы и линкоры → тип "Bismarck"

| Броненосцы |
| Классификация |
| По алфавиту |
| По годам |
| Соединения и операции |
| Разное |
Линейные корабли (Schlachtschiffe) типа
Германия, 1940-1941 гг. 2 ед. (проект "F" 1932-1935 гг.)
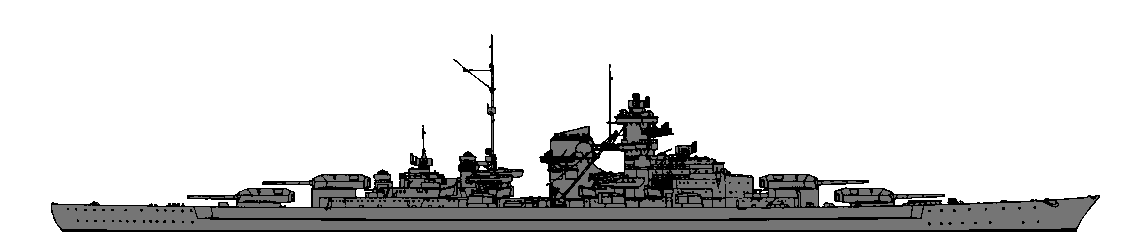
*
|
Германия, 1940-1941 гг. 2 ед. (проект "F" 1932-1935 гг.)
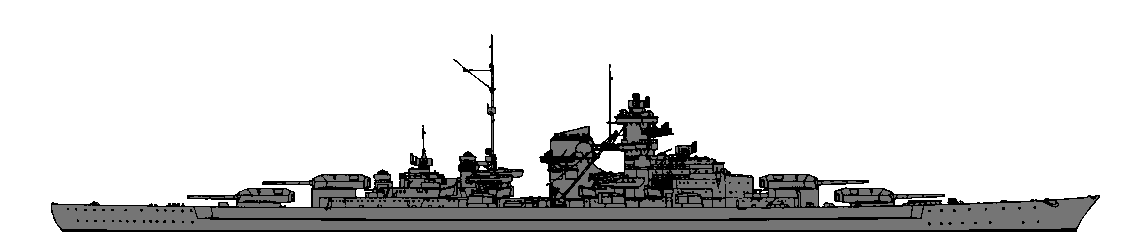
*
Bismarck
* Tirpitz
*
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
| № | имя | верфь | закладка /спуск /в строю | примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bismarck | <Blohm&Voss>, Гамбург, стр. № 509, "Ersatz Hannover", "Schlahtschiff F" | 1.07.1936 | 27 мая 1941 года потоплен главными силами британского флота в 300 милях к западу от Бреста (Франция). |
| 14.02.1939 | ||||
| 24.04.1940 | ||||
| 2 | Tirpitz | <Kriegsmarinewerft>, Вильгельмсхафен, стр. № 128., "Ersatz Schleswig-Holstein", "Schlahtschiff G" | 2.11.1936 | 12 ноября 1944 г. потоплен британской авиацией у Тромсе. В 1948-1957 гг. разобран. |
| 1.04.1939 | ||||
| 25.02.1941 |
ТТХ
| Bismarck (август 1940 г.) | Tirpitz (февраль 1941 г.) | |||
| Водоизмещение | пустого | 39517 т | 39539 т | |
| стандартное | 41700 т | 42900 т | ||
| нормальное | 45451 т | 45474 т | ||
| полное | 49406 т | 49429 т | ||
| максимальное боевое | 50405 т, в мае 1941 г. 50900 (50300?) т | 50425 т, в 1944 г. 53500 (52600?) т | ||
| регистровое | 28181 брт, 11110 нрт | 28160 брт | ||
| Размерения | длина | КВЛ | 241,55 м | 241,72 м |
| полная | 250,5 м | 250.6 м | ||
| ширина | полная | 36 м | 36 м | |
| осадка | по проекту | 8,63 м | 8,63 м | |
| при нормальном водоизмещении | 9,33 м | 9,9 м | ||
| при боевом водоизмещении | 10,2 м (при 49406 т) | 10,61 м (при 52890 т) | ||
| 1 см осадки = 57,3 т. водоизмещения | ||||
| высота борта | 15 м | 15 м | ||
| Энергетическая установка | состав и тип | 3 вала | 3х3-лопастных винта Ø 4,7 м |
|
| 3 МО | 3 ТЗА "Blohm & Voss" | 3 ТЗА "Brown-Boveri" | ||
| 6 КО | 12 ПК Вагнера (58 атм., 450°, 4560+1440 м²) |
|||
| мощность | проектная | 138 000 л.с. при 250 об/мин |
||
| Ходовые данные | скорость | проектная | 29 уз |
|
| на испытаниях | 30,12 уз. при 150170 лс, 265 об/мин | 30,81 уз при 163026 лс, 278 об/мин | ||
| запас топлива | 3000/7400 т нефти | 3200/7780 т нефти | ||
| дальность плавания | на 19 уз. | 8525 миль | 8870 миль | |
| на 24 уз. | 6640 миль | 6963 миль | ||
| на 28 уз. | 4500 миль | 4728 миль | ||
| Экипаж | 2065 чел. (103 оф.) в сентябре 1940 г., в последнем походе: 2092 чел.. | 2608 чел. (108 оф.) в 1943 г. | ||
| Дополнительные данные | корпус | стальной, на 90% сварной, с продольно-поперечным набором, с бульбом. 22 отсека, двойное дно на 83% длины корпуса, 4 доковых киля. |
||
| электроснабжение | 6 турбо-генераторов и 9 дизель-генераторов суммарной мощностью 7910 (8500) кВт (1 дизель-генератор х550 кВт, 8 дизель-генераторов х500 кВт, 5 турбо-генераторов х690 кВт, 1 турбо-генератор х460 кВт), 220 В. |
|||
| управление | 2 параллельных руля |
|||
| кренящий момент | 66903 мт |
|||
| плавсредства | 3 больших моторных катера, 4 малых моторных катера, 1 баркас, 2 вельбота, 2 катера, 2 яла, 2 шлюпки |
|||
| стоимость (в золотых марках) | 196 млн. 800 тыс. | 181 млн. 600 тыс. | ||
БРОНИРОВАНИЕ
| сталь Круппа (41,5% от водоизмещения) | |
| главный пояс | цитадель - 320 (на "Tirpitz" 315)-170 мм, в корме - 80 мм, в носу - 60 мм |
| верхний пояс | 145 мм (+ продольная переборка: 30-25 мм) |
| траверсы | 220-145 мм |
| башни ГК (лоб/бок/крыша) | 360/220/180 мм |
| барбеты ГК | 340 (на "Tirpitz" 340-220) мм |
| башни СК (лоб/бок/крыша) | 100/40/35 мм |
| барбеты СК | 80-20 мм |
| башни УнК | 10 мм |
| главная палуба | 95 (на "Tirpitz" 100) / 80 / 95 (на "Tirpitz" 100) мм, скосы 110 (на "Tirpitz" 100-120) мм |
| верхняя палуба | 80 / 50 / 80 мм |
| рулевое устройство | 110-150 мм |
| рубки (стенки/крыша/шахта) | носовая - 350/200/150 мм, кормовая150/100/50 |
| ПУС (марс) | 60/20 мм |
| ПТП | суммарно 53 (главная ПТП-45) мм, глубина 5,4 м |
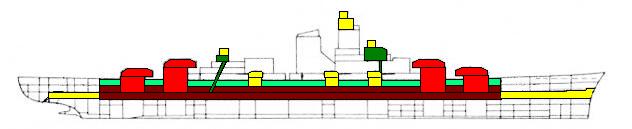 |
|
ВООРУЖЕНИЕ
| главный калибр (залп 6400 кг) | ||
| 8 (4x2) — 380 мм /52 | -8°+35°, 32600 м | 840-960 выстрелов |
| противоминный калибр | ||
| 12 (6x2) — 150 мм /55 | -10°+35°, 23000 м | 1800 выстрелов |
| зенитный калибр дальнего боя | ||
| 16 (8x2) — 105 мм /65 | +80° | 6720 выстрелов |
| средний зенитный калибр | ||
| 16 (8x2) — 37 мм /83 | 32000 (факт. 34100) выстрелов | |
| малый зенитный калибр | ||
| штат | 12 (12х1) — 20 мм /65 | 24 000 выстрелов |
| Bismarck с 04.1941 | 18 (2х4,10х1) — 20 мм /65 | |
| Tirpitz с 07.1941 | 14 (14х1) — 20 мм /65 | 32 000 выстрелов |
| Tirpitz с 09.1941 | 30 (4х4, 14х1) — 20 мм /65 | 54 000 выстрелов |
| Tirpitz с нач. 1942 | 36 (6х4, 12х1) — 20 мм /65 | |
| Tirpitz с 05.1942 | 44 (8х4, 12х1) — 20 мм /65 | |
| Tirpitz с 03.1943 | 52 (10х4, 12х1) — 20 мм /65 | |
| Tirpitz к 07.1944 | 78 (18х4, 6х1) — 20 мм /65 | до 90 000 выстрелов |
| торпедное вооружение | ||
| сперва отсутствовало, Tirpitz с 09.1941 г. 2х4-ТА-533 мм | 24 торпеды | |
| авиационное вооружение | ||
| 1х2 катапульта | 6 (фактически 4) гидросамолетов "Arado-196" | |
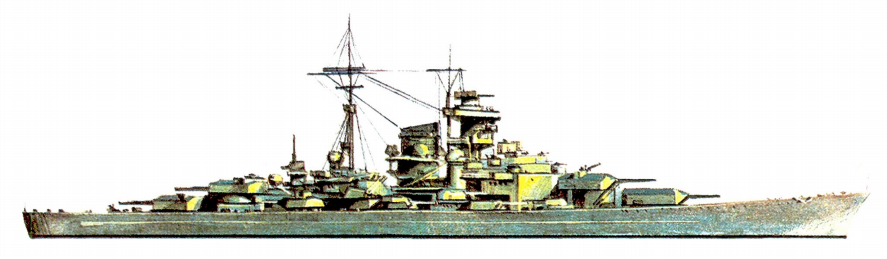
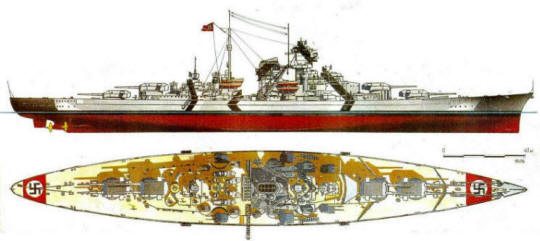 Самые мощные линкоры и самые крупные боевые корабли, построенные в Германии. Их постройка стала результатом заключенного 18.6.1935 англо-герм. морского соглашения, позволявшего Германии довести численность своего флота до 35% от британского. По политическим мотивам официально декларируемое водоизмещение кораблей было ограничено 35 000 т, что соответствовало нормам Лондонского договора 1936 г., но реально оказалось на 7000 т больше.
Самые мощные линкоры и самые крупные боевые корабли, построенные в Германии. Их постройка стала результатом заключенного 18.6.1935 англо-герм. морского соглашения, позволявшего Германии довести численность своего флота до 35% от британского. По политическим мотивам официально декларируемое водоизмещение кораблей было ограничено 35 000 т, что соответствовало нормам Лондонского договора 1936 г., но реально оказалось на 7000 т больше.
 Проект линкоров "F" и "G" утвержден 16.11.1935. Конструктивно они повторяли ЛК типа "Scharnhorst", принципиально отличаясь артиллерией ГК. Новое 380-мм/47 орудие С/34 могло вести огонь 800-кг снарядами на дальность 36,5 км, а на дистанциях до 21 км теоретически пробивало 350-мм броню. Разделение вспомогательной артиллерии на противоминную и зенитную сохранилось, но все 150-мм орудия устанавливались в башнях, а число 105-мм зениток было увеличено. Система управления огнем не изменилась.
Проект линкоров "F" и "G" утвержден 16.11.1935. Конструктивно они повторяли ЛК типа "Scharnhorst", принципиально отличаясь артиллерией ГК. Новое 380-мм/47 орудие С/34 могло вести огонь 800-кг снарядами на дальность 36,5 км, а на дистанциях до 21 км теоретически пробивало 350-мм броню. Разделение вспомогательной артиллерии на противоминную и зенитную сохранилось, но все 150-мм орудия устанавливались в башнях, а число 105-мм зениток было увеличено. Система управления огнем не изменилась.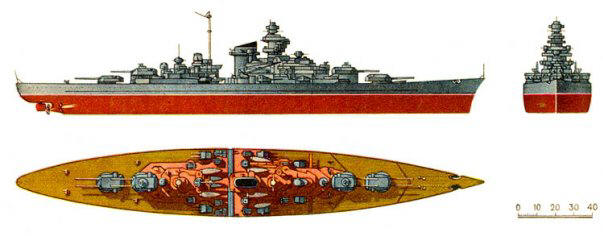
Броневой пояс высотой 5,2 м выполнялся наружным и прикрывал около 70 % ватерлинии (от погребов носовой до погребов кормовой башен ГК). По сравнению с "Scharnhorst", его толщина была уменьшена с 350 до 320 мм (170 мм к нижней кромке), зато толщина верхнего пояса увеличилась с 45 до 145 мм. Оба пояса замыкались траверсом, имевшим толщину 145, 220 и 180 мм на батарейной, главной и нижней палубах соответственно. Параллельно поясу шла внутренняя переборка, имеющая между верхней и главной палубами толщину 25 — 30 мм, а ниже переходившая в 45-мм ПТП. 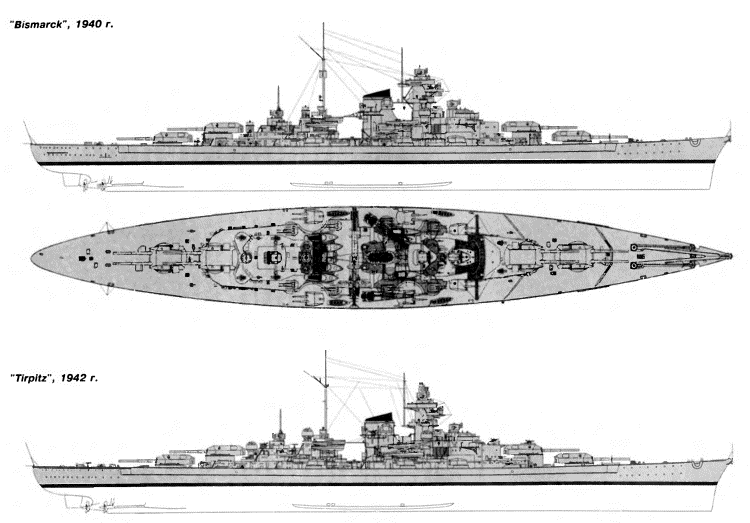 Традиционно защищались оконечности: носовая — 60-мм, кормовая — 80-мм броней. Броневых палуб было две: 50-мм (80-мм над погребами) верхняя и 80-мм главная со 110-мм скосами (над погребами 95-мм со 120-мм скосами), не доходившими до нижней кромки пояса. Барбеты башен ГК имели толщину 340 мм над верхней палубой и 220 мм под ней. Бронирование башен ГК: лобовая плита — 360 мм, стенки — 220 мм, наклонные плиты — 180 — 150 мм, крыша — 130 мм. Башни СК имели 100-мм лобовую броню и 40-мм с остальных сторон; их барбеты — 80-мм бронирование над верхней палубой и 20-мм под ней. Глубина ПТЗ составляла 5,4 м в районе миделя и 3,05 — 3,5 м в районе башен ГК. Общий вес брони — 18 700 т (44% водоизмещения).
Традиционно защищались оконечности: носовая — 60-мм, кормовая — 80-мм броней. Броневых палуб было две: 50-мм (80-мм над погребами) верхняя и 80-мм главная со 110-мм скосами (над погребами 95-мм со 120-мм скосами), не доходившими до нижней кромки пояса. Барбеты башен ГК имели толщину 340 мм над верхней палубой и 220 мм под ней. Бронирование башен ГК: лобовая плита — 360 мм, стенки — 220 мм, наклонные плиты — 180 — 150 мм, крыша — 130 мм. Башни СК имели 100-мм лобовую броню и 40-мм с остальных сторон; их барбеты — 80-мм бронирование над верхней палубой и 20-мм под ней. Глубина ПТЗ составляла 5,4 м в районе миделя и 3,05 — 3,5 м в районе башен ГК. Общий вес брони — 18 700 т (44% водоизмещения).
Не изменилась принципиально и силовая установка, которая по-прежнему была трехвальной и состояла из 12 ПК Вагнера (58 атм, 475°С) и 3 ТЗА ("Blohm und Voss" на "Bismarck" и "Brown-Boveri" на "Tirpitz"). Как и на всех герм, кораблях, использовавших ЭУ на паре высоких параметров, она отличалась низкой надежностью и экономичностью.  Так, на "Tirpitz" реальный расход топлива превышал расчетный на 10% на полном ходу и на 19% на экономическом, что привело к серьезному снижению дальности плавания. На испытаниях "Bismarck" развил 30,12 уз. при 150 070 л.с., "Tirpitz" — 30,8 уз. при 163026 л.с.
Так, на "Tirpitz" реальный расход топлива превышал расчетный на 10% на полном ходу и на 19% на экономическом, что привело к серьезному снижению дальности плавания. На испытаниях "Bismarck" развил 30,12 уз. при 150 070 л.с., "Tirpitz" — 30,8 уз. при 163026 л.с.
Оба корабля оборудовались поперечной спаренной катапультой (точнее — двумя неподвижными катапультами, развернутыми к противоположным бортам) и могли принимать до 6 гидросамолетов (4 в ангары, 2 на катапультах).
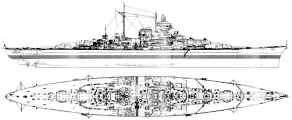 На "Tirpitz" в июле 1941 г. дополнительно установлено 4 20-мм автомата; в сентябре 1941 г. столько же снято, добавлено 6x4 20-мм автоматов и 2x4 533-мм ТА; в июне 1942 г. добавлено 2x4 20-мм; в марте 1943 г. — еще 2 х 4; в июле 1944 г. на линкоре имелось 78 20-мм автоматов (18 х4 и 6 х 1). Все 105-мм орудия на нем располагались в установках LC/37 (на "Bismarck" и всех предыдущих "капитальных" кораблях применялись LC/31), имевших более высокую скорость наведения.
На "Tirpitz" в июле 1941 г. дополнительно установлено 4 20-мм автомата; в сентябре 1941 г. столько же снято, добавлено 6x4 20-мм автоматов и 2x4 533-мм ТА; в июне 1942 г. добавлено 2x4 20-мм; в марте 1943 г. — еще 2 х 4; в июле 1944 г. на линкоре имелось 78 20-мм автоматов (18 х4 и 6 х 1). Все 105-мм орудия на нем располагались в установках LC/37 (на "Bismarck" и всех предыдущих "капитальных" кораблях применялись LC/31), имевших более высокую скорость наведения.
 "Bismarck" в бою в Датском проливе 24.5.1941 потопил брит. ЛК "Hood", но и сам был поврежден артиллерией ЛК "Hood" и "Prince of Wales", тем же вечером поврежден торпедоносцем с брит. АВ "Victorious"; 26.5.1941 поврежден торпедоносцами с брит. АВ "Ark Royal"; 27.5.1941 вступил в бой с брит, эскадрой, в ходе которого потоплен артиллерией ЛК "Rodney" и "King George V" и торпедами КРТ "Dorsetshire" в 400 милях от Бреста.
"Bismarck" в бою в Датском проливе 24.5.1941 потопил брит. ЛК "Hood", но и сам был поврежден артиллерией ЛК "Hood" и "Prince of Wales", тем же вечером поврежден торпедоносцем с брит. АВ "Victorious"; 26.5.1941 поврежден торпедоносцами с брит. АВ "Ark Royal"; 27.5.1941 вступил в бой с брит, эскадрой, в ходе которого потоплен артиллерией ЛК "Rodney" и "King George V" и торпедами КРТ "Dorsetshire" в 400 милях от Бреста.
"Tirpitz" 22.9.1943 поврежден подрывными зарядами брит, сверхмалых ПЛ Х-6 и Х-7 в Альтен-фьорде; там же поврежден самолетами с брит, авианосцев 3.4.1944 и 24.8.1944, затем брит, тяжелыми бомбардировщиками "Ланкастер" 15.9.1944; 12.11.1944 потоплен брит, бомбардировщиками "Ланкастер" с использованием сверхтяжелых бомб "Tallboy" в Тромсё-фьорде — в результате двух прямых попаданий и трех близких разрывов перевернулся и затонул.
| РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА |
 Программа восстановления имперского флота, принятая еще в Веймарской республике (еще как оборонительная и подтвержденная позже Гитлером), включала замену шести старых броненосцев на корабли новых типов. Так как Версальский договор запрещал немцам строительство линкоров водоизмещением свыше 10.000 тонн, морское командование увидело выход из создавшегося положения только в постройке дизельных кораблей типа "Deutschland", позже названных "карманными линкорами" в по существу являвшихся крупными тяжелыми крейсерами с большой дальностью плавания и скоростью 26-28 узлов - сравнительно низкой для крейсеров, но позволявшей уходить от существовавших в то время линкоров. Установленное на них вооружение позволяло выдерживать единоборство с любым кораблем, более быстроходным, чем немецкие корабли. Единственное исключение составляли английские линейные крейсеры "Hood", "Renown" и "Repulse" с их 380-мм пушками и скоростью более 30 узлов.
Программа восстановления имперского флота, принятая еще в Веймарской республике (еще как оборонительная и подтвержденная позже Гитлером), включала замену шести старых броненосцев на корабли новых типов. Так как Версальский договор запрещал немцам строительство линкоров водоизмещением свыше 10.000 тонн, морское командование увидело выход из создавшегося положения только в постройке дизельных кораблей типа "Deutschland", позже названных "карманными линкорами" в по существу являвшихся крупными тяжелыми крейсерами с большой дальностью плавания и скоростью 26-28 узлов - сравнительно низкой для крейсеров, но позволявшей уходить от существовавших в то время линкоров. Установленное на них вооружение позволяло выдерживать единоборство с любым кораблем, более быстроходным, чем немецкие корабли. Единственное исключение составляли английские линейные крейсеры "Hood", "Renown" и "Repulse" с их 380-мм пушками и скоростью более 30 узлов.
Реализация программы началась в 1929 году с закладки головного броненосца "А" (будущий "Deutschland"), а в течение следующих нескольких лет были заложены два других корабля "Admiral Scheer" (при закладке "В") и "Admiral Graf Spee" (при закладке "С"). Строительство еще одного броненосца "D" предусматривалось программой кораблестроения на 1931-34 годы, а во время встречи Гитлера с командующим имперским флотом адмиралом Эрихом Редером в декабре 1933 года по поводу рассмотрения бюджета на 1934 год, была утверждена постройка и пятого броненосца "Е". Во время встречи с Гитлером в июне 1934 года Редер настаивал на максимальном ускорении в выполнении программы постройки броненосцев. Гитлер не возражал и при этом выдвигал требование увеличить толщину бронирования, что вызвало бы рост водоизмещения до 19 тысяч тонн (напомним, что официально объявленное водоизмещение 10 тысяч тонн для первых трех кораблей было неверно и фактически водоизмещение было больше почти на 50 %). Редер не считал увеличение толщины бронирования необходимым и в свою очередь предлагал увеличить калибр и установить третью трехорудийную башню. Вопрос долго прорабатывался и лишь 27 июня 1934 года Гитлер на совещании с Редером дал согласие на установку третьей башни, но высказался категорически против увеличения калибра.
Эти колебания, вызвали замедление, а затем и полную остановку работ на уже заложенных кораблях "D" и "Е", а вскоре - тем же летом 1934 года в связи с кардинальным изменением проекта от их достройки вообще, отказались.  По измененному проекту, с учетом условий поставленных Гитлером, в 1934 году были заложены новые корабли "D" и "Е", при спуске получившие названия "Scharnhorst" и "Gneisenau". При их постройке были использованы средства, отпущенные в соответствии с контрактом на постройку прежних кораблей.
По измененному проекту, с учетом условий поставленных Гитлером, в 1934 году были заложены новые корабли "D" и "Е", при спуске получившие названия "Scharnhorst" и "Gneisenau". При их постройке были использованы средства, отпущенные в соответствии с контрактом на постройку прежних кораблей.
В начале 1934 года в Управлении Кораблестроения Имперского Морского ведомства приступили к разработке проекта новых линкоров типа "F". Руководил проектными работами немецкий конструктор Буркхард (Burkhardt). С самого начала предполагалось, что новые корабли будут явным нарушением всех существующих ограничений, в том числе и  Вашингтонского договора 1922 года, лимитировавшего стандартное водоизмещение линкоров пределом в 35 тысяч тонн. Главный калибр первоначально предполагался 406 мм, но позже был снижен до 330 мм (в окончательном виде, как известно 380 мм). Новые линкоры были сильнее своих предшественников "Scharnhorst" и "Gneisenau" по всем показателям. В то время Англия еще не принималась за явного потенциального противника и потому Германия стремилась к уравновешиванию своего флота с французским. В соответствии с этим технические данные новых немецких кораблей рассчитывались на "перекрывание" французских кораблей типа "Dunkerque", но это конечно не позволяет считать, что германские линкоры строились только в противовес новым кораблям своего соседа. Их проектные боевые в тактико-технические данные позволяли успешно вести бой с любыми новыми кораблями, строившимися или предполагавшимися к постройке в других странах, а очень большая расчетная дальность плавания достаточно ясно говорила о возможности их использования в качестве рейдера, что затрагивало в первую очередь интересы Британской империи с ее растянутыми коммуникациями и громадным коммерческим флотом.
Вашингтонского договора 1922 года, лимитировавшего стандартное водоизмещение линкоров пределом в 35 тысяч тонн. Главный калибр первоначально предполагался 406 мм, но позже был снижен до 330 мм (в окончательном виде, как известно 380 мм). Новые линкоры были сильнее своих предшественников "Scharnhorst" и "Gneisenau" по всем показателям. В то время Англия еще не принималась за явного потенциального противника и потому Германия стремилась к уравновешиванию своего флота с французским. В соответствии с этим технические данные новых немецких кораблей рассчитывались на "перекрывание" французских кораблей типа "Dunkerque", но это конечно не позволяет считать, что германские линкоры строились только в противовес новым кораблям своего соседа. Их проектные боевые в тактико-технические данные позволяли успешно вести бой с любыми новыми кораблями, строившимися или предполагавшимися к постройке в других странах, а очень большая расчетная дальность плавания достаточно ясно говорила о возможности их использования в качестве рейдера, что затрагивало в первую очередь интересы Британской империи с ее растянутыми коммуникациями и громадным коммерческим флотом.
 Весной 1934 года был рассмотрен предварительный вариант проекта, который вырисовывался в следующем виде:
Весной 1934 года был рассмотрен предварительный вариант проекта, который вырисовывался в следующем виде:
стандартное водоизмещение 35.000 тонн;
артиллерия - 8 330-мм, 12 150-мм и 16 105-мм орудий;
броня борта - цитадель 356 мм, нос и корма 150 мм;
 броня палуб - верхней палубы 50 мм, главной 100 мм (скосы 120 мм);
броня палуб - верхней палубы 50 мм, главной 100 мм (скосы 120 мм);
барбеты - башен ГК 350 мм, башен СК 150 мм;
боевая рубка - 400 мм.
Однако последующие перерасчеты выявили необходимость снижения веса бронирования. Броня цитадели была уменьшена до 320 мм, а в оконечностях утоньшена почти вдвое - в носу до 70 мм, в корме до 90 мм.
 2 октября 1934 года на совещании командования встал вопрос о скорости корабля. Было решено, что новые корабли должны ходить не менее 33 узлов при форсировании механизмов и 30 узлов в долговременном режиме и превосходить линкоры типа "Dunkerque" с их 31 узлом. Для обеспечения такой скорости была выбрана турбоэлектрическая энергетическая установка мощностью 100.000 л.с. на валах. Экономическая скорость предполагалась 21 узел. Несмотря на такое решение ставки все расчеты показывали, что превысить 29 узлов вряд ли удастся, так как водоизмещение уже превысило 37.200 тонн, а Редер к тому же выдвинул ряд новых требований, в числе которых было увеличение калибра до 350 мм, что одно только вызвало бы новое увеличение водоизмещения на 1600 тонн. Через три месяца, в январе 1935 года, Редер добился и окончательно утвердил в качестве главного калибра 350-мм орудия, потребовав выполнения следующих показателей для орудий:
2 октября 1934 года на совещании командования встал вопрос о скорости корабля. Было решено, что новые корабли должны ходить не менее 33 узлов при форсировании механизмов и 30 узлов в долговременном режиме и превосходить линкоры типа "Dunkerque" с их 31 узлом. Для обеспечения такой скорости была выбрана турбоэлектрическая энергетическая установка мощностью 100.000 л.с. на валах. Экономическая скорость предполагалась 21 узел. Несмотря на такое решение ставки все расчеты показывали, что превысить 29 узлов вряд ли удастся, так как водоизмещение уже превысило 37.200 тонн, а Редер к тому же выдвинул ряд новых требований, в числе которых было увеличение калибра до 350 мм, что одно только вызвало бы новое увеличение водоизмещения на 1600 тонн. Через три месяца, в январе 1935 года, Редер добился и окончательно утвердил в качестве главного калибра 350-мм орудия, потребовав выполнения следующих показателей для орудий:
начальная скорость вылета снаряда - 875 м/сек.
вес снаряда - 625 кг.
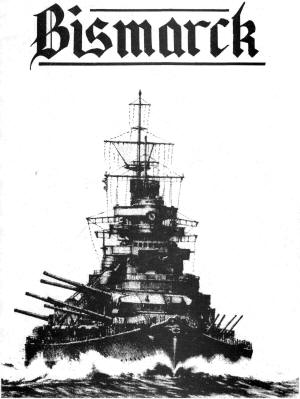 вес заряда - 232 кг.
вес заряда - 232 кг.
скорострельность - 2,3 выстр/мин.
вес орудия - 114,9 т.
скорострельность при полных залпах - 18,4 выстр/мин.
Главную энергетическую установку предполагалось разделить на три автономные установки, каждая из которых включала бы 1 турбогенератор и 2 котла в раздельных помещениях. Соответственно предполагалось и три винта.
В начале апреля 1935 года в Главном Штабе Командования ВС рассматривался вопрос о возможности войны с Великобританией. Это вызвало новые колебания в отношении калибра главной артиллерии. Для получения достаточно эффективного огня было необходимо принять калибр не менее 380 мм, что давало минимальное водоизмещение готовых кораблей 39.000 тонн и никак не попадало в рамки 35-тысячетонных ограничений. Для сокрытия этих данных Редер дал секретное распоряжение во всех документах указывать стандартное водоизмещение 35.000 тонн.
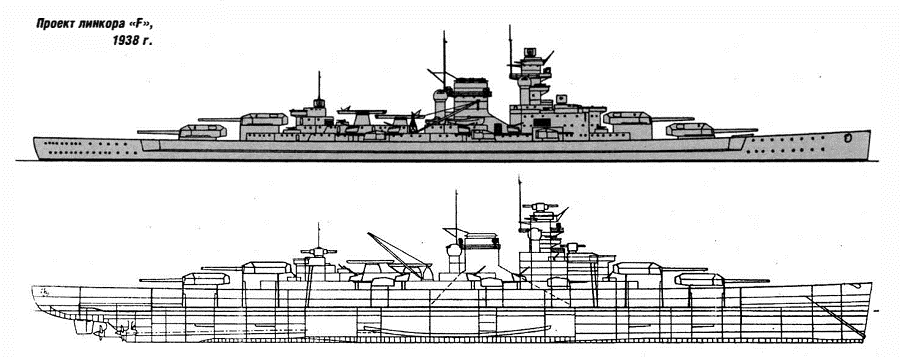 Остро встала еще одна проблема, решить которую простым изменением проекта было невозможно. Громадные размеры и наибольшая из всех линкоров мира ширина корабля ограничивали возможность докования (не говоря уже о трудностях прохода Кильским каналом). Такую работу могло произвести лишь несколько доков. Это плавающий док Ллойда ("Kaieerdock" в Бремене, плавающий док V/VI фирмы "Blohm und Voss" в Гамбурге и 60-тонный плавающий док фирмы "Deutsche Wercke" в Киле. Еще один док (на государственной верфи в Вильгельмсхафене) мог принять линкор лишь максимально разгруженным, так как грузоподъемность дока не превышала 40.000 тонн, а принятый в то время проект линкора при длине 250 м, ширине 36 м и неизменной толщине бронирования доходил по стандартному водоизмещению до 43.00 тонн.
Остро встала еще одна проблема, решить которую простым изменением проекта было невозможно. Громадные размеры и наибольшая из всех линкоров мира ширина корабля ограничивали возможность докования (не говоря уже о трудностях прохода Кильским каналом). Такую работу могло произвести лишь несколько доков. Это плавающий док Ллойда ("Kaieerdock" в Бремене, плавающий док V/VI фирмы "Blohm und Voss" в Гамбурге и 60-тонный плавающий док фирмы "Deutsche Wercke" в Киле. Еще один док (на государственной верфи в Вильгельмсхафене) мог принять линкор лишь максимально разгруженным, так как грузоподъемность дока не превышала 40.000 тонн, а принятый в то время проект линкора при длине 250 м, ширине 36 м и неизменной толщине бронирования доходил по стандартному водоизмещению до 43.00 тонн.
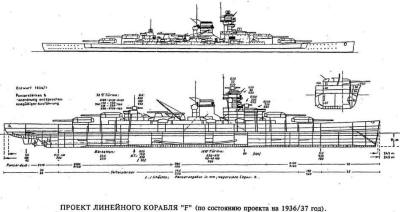 В мае 1935 года был окончательно решен вопрос о силовой установке. Так как Главное командование германского флота приняло решение об оснащении всех новых кораблей паротурбинными установками с повышенными параметрами пара, были выбраны паротурбинные агрегаты с зубчатой передачей и котлы высокого давления (12 котлов в шести КО). Произведенные расчеты давали скорость не более 30 узлов, дальность плавания 8000 миль 19-узловым ходом.
В мае 1935 года был окончательно решен вопрос о силовой установке. Так как Главное командование германского флота приняло решение об оснащении всех новых кораблей паротурбинными установками с повышенными параметрами пара, были выбраны паротурбинные агрегаты с зубчатой передачей и котлы высокого давления (12 котлов в шести КО). Произведенные расчеты давали скорость не более 30 узлов, дальность плавания 8000 миль 19-узловым ходом.
Тогда же решился и вопрос с вооружением корабля: четыре двухорудийные башни главного 380-мм калибра. Средний калибр выбран в 150 мм, зенитная артиллерия дальнего действия - 105 мм, ближнего действия - 37 мм, зенитные автоматы.
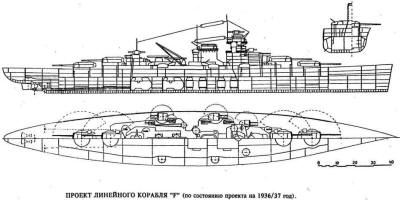 При выбранной толщине броня могла выдерживать прямое попадание снаряда 380-мм калибра с расстояния 20-30 км и взрыв торпеды с весом заряда 250 кг ТНТ.
При выбранной толщине броня могла выдерживать прямое попадание снаряда 380-мм калибра с расстояния 20-30 км и взрыв торпеды с весом заряда 250 кг ТНТ.
Характерно отсутствие бортовой авиация на первом этапе проектирования, которая была включена в проект позже и состояла в то время из катапульты и нескольких гидросамолетов.
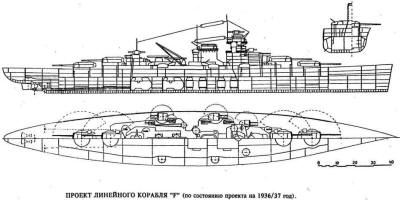 С постройкой кораблей такой величины тоже возникли некоторые проблемы, так как только четыре верфи имели подходящие стапели, а именно: казенная верфь "Kriegsmarine" в Вильгельмсхафене, "Deutsche Werke" в Киле, "Blohm und Voss" в Гамбурге и "A.G. Weser" в Бремене, из которых две первых вели постройку линкоров "Scharnhorst" и "Gneisenau", то само собой в расчет приходилось принимать только верфи в Гамбурге и Бремене, которым и предполагалось заказать постройку двух кораблей нового типа. Головной корабль "F" был заказан верфи "Blohm und Voss" в Гамбурге и в бюджетных документах он проходил под наименованием "Ersatz Hannover". Контракт на строительство второго корабля "G" получила освободившая свой стапель казенная верфь в Вильгельмсхафене. В бюджетных документах он проходил под наименованием "Ersatz Schleswig-Holstein".
С постройкой кораблей такой величины тоже возникли некоторые проблемы, так как только четыре верфи имели подходящие стапели, а именно: казенная верфь "Kriegsmarine" в Вильгельмсхафене, "Deutsche Werke" в Киле, "Blohm und Voss" в Гамбурге и "A.G. Weser" в Бремене, из которых две первых вели постройку линкоров "Scharnhorst" и "Gneisenau", то само собой в расчет приходилось принимать только верфи в Гамбурге и Бремене, которым и предполагалось заказать постройку двух кораблей нового типа. Головной корабль "F" был заказан верфи "Blohm und Voss" в Гамбурге и в бюджетных документах он проходил под наименованием "Ersatz Hannover". Контракт на строительство второго корабля "G" получила освободившая свой стапель казенная верфь в Вильгельмсхафене. В бюджетных документах он проходил под наименованием "Ersatz Schleswig-Holstein".
| *** | "Bismarck" (август 1940 г.) | "Tirpitz" (февраль 1941 г.) |
| Водоизмещение, т: | ||
| пустого | 39 517 | 39 539 |
| проектное | 45 451 | 45 474 |
| полное | 49 406 | 49 429 |
| максимальное боевое
|
50 405 | 50 425 |
| (50 900 в мае 1941 г.) | (53 500 в 1944 г.) | |
| Размерения, м: | ||
| длина наибольшая | 250.5 | 250.6 |
| длина по ватерлинии | 241,55 | 241,72 |
| ширина наибольшая | 36 | 36 |
| осадка при проектном водоизмещении | 9,33 | 9,9 |
| осадка при боевом водоизмещении | 10,2 | 10,61 |
| при 49 406 т | при 52 890 т | |
| Характеристики корпуса при проектном углублении: | ||
| водоизмещение, т | 45 451 | 45 474 |
| высота корпуса (от киля до верхней палубы на миделе), м | 15 | 15 |
| высота борта на форштевне (по проекту), м | 8,8 | 8,8 |
| высота борта на миделе (по проекту), м | 5,67 | 5,67 |
| отношение длины к ширине (L./B) | 6,71 | 6,71 |
| отношение длины к высоте | ||
| борта(L/H) | 16,1 | 16,1 |
| отношение ширины к осадке (В/Т) | 3,86 | 3,64 |
| призматический коэффициент | 0,56 | 0,56 |
| коэффициент полноты ватерлинии | 0,66 | 0,66 |
| коэффициент полноты мидель-шпангоута | 0,97 | 0,97 |
| вес, требующийся для увеличения осадки на 1 см | 57,3 | 57,3 |
| Энергетическая установка: | ||
| число и тип котлов | 12 Вагнера | 12 Вагнера |
| рабочее давление пара, атм. | 55 | 55 |
| рабочая температура пара | 450°С | 450°С |
| число и тип T3A | 3 "Blohm & Voss" | 3 "Brown-Boveri" |
| проектная мощность, л.с. | 138 000 | 138 000 |
| скорость хода наибольшая, уз. | 30 | 30 |
| частота вращения валов на полном ходу, об/мин | 278 | 278 |
| максимальная мощность на испытаниях, л.с. | 150 170 | 163 026 |
| максимальная скорость на испытаниях, уз. | 30,12 | 30,81 |
| Емкость топливных цистерн макс, м³ | 7 400 | 7 780 |
| Дальность плавания, миль (при скорости, уз.) | 8 525 (19) | 8 870 (19) |
| 6 640 (24) | 6 963 (24) | |
| 4 500 (28) | 4 728 (28) | |
| Броневая защита, мм: | ||
| главный пояс | 320 | 315 |
| верхний пояс (каземат) | 145 | 145 |
| пояс в оконечностях (нос / корма) | 60/80 | 60/80 |
| главная палуба | ||
| (над машинами / погребами — скос) | 80/95- 110 | 80/ 100 - 110-120 |
| верхняя палуба (над машинами / погребами) | 50/80 | 50/80 |
| рулевое устройство | 110-150 | 110-150 |
| башни ГК (лоб - борт - крыша) | 360-220- 180 | 360-220- 180 |
| барбеты ГК | 340 | 340-220 |
| башни СК (лоб - борт - крыша) | 100-40-35 | 100-40-35 |
| боевая рубка (стенки - крыша) | 350 - 200 | 350 - 200 |
| противоторпедная переборка | 45 | 45 |
| Вооружение: число установок х стволов - калибр / длина ствола в калибрах | 4x2 - 380-мм/52 | |
| 6x2 - 150-мм/55 | ||
| 8x2 - 105-мм/65 | ||
| 8x2 - 37-ММ/83 | ||
| 12x1 - 20-мм/65 | ||
| 2 катапульты, 4 гидросамолета | ||
| Экипаж, чел. (в т.ч. офицеров) | 2065 (103) - (в сентябре 1940 г.) | 2608 (108) - (в 1943 г.) |
| Вариант проекта | ед. изм. | 1 | 2 | ||
| Вариант вооружения ГК | 8-350 мм | 8 - 380 мм | |||
| Водоизмещение | т. | основн. 41000 | основн. 43000 | ||
| уменьш. 39000 | уменьш. 39800 | ||||
| Проектная осадка | м. | 9,25 | 8,80 | 9,40 | 8,80 |
| Длина по КВЛ | м. | 243 | 243 | 250 | 250 |
| Ширина по КВЛ | м. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Проектная скорость | уз. | 27/28 | 28 | 27/28 | 28 |
| Броня борта в средней части | мм. | 320 | 290 | 320 | 260 |
| Броня борта в носовой части | мм. | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Броня борта в кормовой части | мм. | 90 | 80 | 90 | 80 |
| Броня барбетов башен ГК | мм. | 320 | 290 | 320 | 255 |
| Броня барбетов башен СК | мм. | 150 | 125 | 150 | 125 |
| Броня боевой рубки | мм. | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Противоторпедная переборка | мм. | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Броня палуб над боепогребами | мм. | 100 | 90 | 100 | 90 |
| Броня палуб над румпельным отделением | мм. | 100 | 85 | 100 | 85 |
| Броня верхней палубы | мм. | 50 | 45 | 50 | 45 |
Проектные весовые нагрузки линкора (по состоянию проекта на 16.03.1940) |
|
| корпус | 11691,0 |
| главные механизмы | 2800,0 |
| вспомогат. механизмы | 1428,0 |
| броня | 7540,0 |
| артиллерия | 5973,0 |
| минно-заградит. оружие | 8,0 |
| авиационное оружие | 83,0 |
| устройства и общ. системы | 369,4 |
| навигац. инструменты | 8,6 |
| такелаж | 30,0 |
Пустое судно с устройствами (с водой и топливом в глав. и всп. механизмах) |
39931,2 |
| артиллерийский боезапас | 1510,4 |
| минно-заградительный боезапас | 2,5 |
| расходный запас топлива | 155,4 |
| личный состав и багаж | 243,6 |
| провиант | 194,2 |
| питьевая вода | 139,2 |
| мытьевая вода | 157,0 |
Водоизмещение стандартное |
42343,5 |
| 1/2 котельн. воды (в гл . цистернах ) | 187,5 |
| 1/2 жидкого топлива | 3226,0 |
| 1/2 солярового масла | 96,5 |
| 1/2 смазочного масла | 80,0 |
| основной запас авиац. топлива | 17,0 |
Водоизмещение конструктивное |
45950,5 |
| расходные материалы | 187,5 |
| жидкое топливо | 3226,0 |
| соляровое масло | 96,5 |
| смазочное масло | 80,0 |
| резервный запас авиац. топлива | 17,0 |
| резервная пресная вода | 389,2 |
Водоизмещение полное |
49946,7 |
Водоизмещение с наибольшим запасом жидкого топлива |
50955,7 |
Проектные весовые нагрузки линкора (по состоянию проекта на 19.10.1940) (в скобках для сравнения показаны нагрузки линкоров типа "Scharnhorst" ) |
т |
% |
| корпус | 12700 | 27,0 (23,6) |
| главные механизмы | 3030 | 6,4 (7,4) |
| вспом. механизмы | 1400 | 3,0 (3,1) |
| броня | 18700 | 40,0 (40,2) |
| артиллерия | 5550 | 11,8 (14,7) |
| минно-заградит. оружие | 100 | 0,2 |
| авиационное оружие | 100 | 0,2 |
| топливо | 4000 | 8,4 (7,0) |
| снаряжение | 920 | 2,0 (4,0) |
| вода | 530 | 1,0 |
| Всего | 47000 | 100 (100) |
| Основные технические данные по корпусу | ||
| Водоизмещение | ||
| порожнего корпуса | 41 234 т. | |
| стандартное | 42 958 т. | |
| проектное | 47 253 т. | |
| максимальное | 50 585 т. | |
| боевое | 52 328 т. | |
| Длина | ||
| по КВЛ | 241,55 м. | |
| наибольшая | 250,50 м. | |
| Ширина по КВЛ | 36,0 м. | |
| Высота борта | 15,0 м. | |
| Осадка | ||
| при станд. водоизмещении | 8,7 м. | |
| при проектн. водоизмещении | 9,3 м. | |
| при боевом водоизмещении | 10,17 м. | |
| Соотношение | ||
| L/В | 6,71 | |
| В / Т | 3,85 | |
| L / Н | 16,1 | |
| Коэффициент полноты | ||
| водоизмещения | 0,55 | |
| миделя | 0,97 | |
| ватерлинии | 0,66 | |
| Метацентрич. высота при 46455 т. | 4,00 м | |
| Распределение весовых нагрузок (в метрических тоннах) |
Bismarck (август 1940 г.) | Tirpitz (февраль 1941 г.) |
| Корпус | 11 691 | 11 691 |
| Бронирование (без учета брони башен) | 17 540 | 17 540 |
| Вооружение с броней башен | 5 973 | 5 973 |
| Энергетическая установка | 2 800 | 2 800 |
| Вспомогательные механизмы и оборудование | 1 428 | 1 428 |
| Авиационное вооружение | 83 | 80 |
| Оборудование пассивной защиты | со | 8 |
| Оборудование общего назначения | 369,4 | 361 |
| Шкиперское оборудование | 8,6 | 9 |
| Рангоут и такелаж | 30 | 30 |
| Пустой корпус с оборудованием | 39 931,2 | 39 931 |
| Боезапас | 1 510,4 | 1 510 |
| Оборудование пассивной защиты | 2.5 | 3 |
| Расходные материалы | 155,4 | 156 |
| Экипаж | 243,6 | 247 |
| Провизия | 194,2 | 194 |
| Типовое водоизмещение | 42 343,5 | 42 077 |
| Питьевая вода | 139,2 | 139 |
| Вода для умывания | 167 | 167 |
| Вода для котлов | 187,5 | 188 |
| Нефть | 3 226 | 3 226 |
| Дизельное топливо | 96,5 | 94 |
| Смазочное масло | 80 | 80 |
| Авиационный бензин и охладитель | 17 | 17 |
| Конструктивное водоизмещение | 45 950,5 | 45 951 |
| Вода для котлов | 187,5 | 188 |
| Нефть | 3 226 | 3 226 |
| Дизельное топливо | 96,5 | 94 |
| Смазочное масло | 80 | 80 |
| Авиационный бензин и охладитель | 17 | 17 |
| Резерв пресной воды | 389,2 | 389,2 |
| Полное водоизмещение | 49 946,7 | 49 948 |
| Дополнительный запас нефти | 1 009 | |
| Полное боевое водоизмещение | 50 955,7 |
| КОНСТРУКЦИЯ |
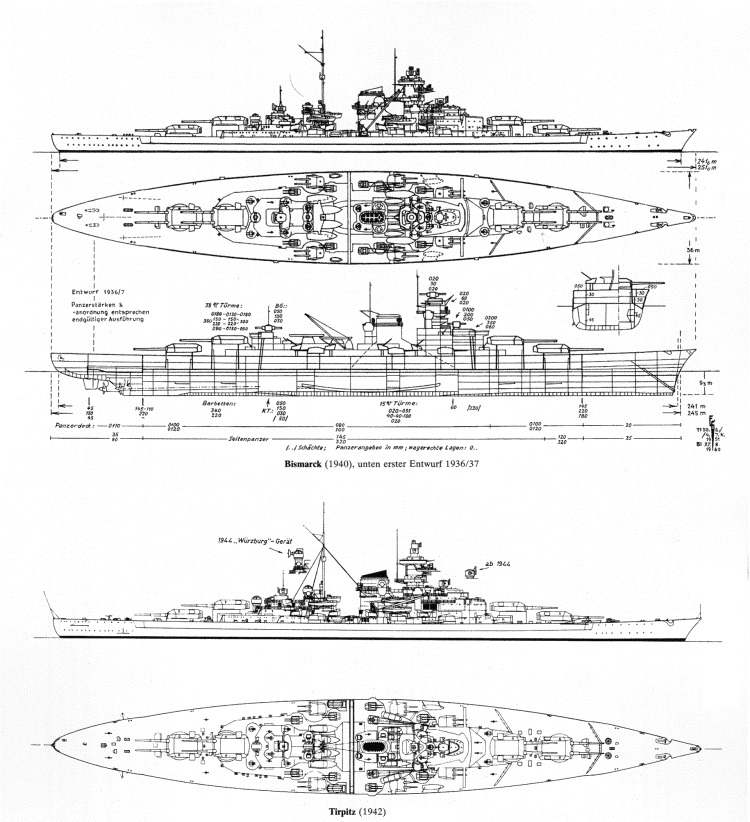
Несмотря на то, что проект разрабатывался в течении нескольких лет, уже после закладки головного корабля в конструкцию было внесено множество изменений, которые, впрочем, в большей части относились к форме и размещению надпалубных помещений и оборудования. Так, первоначальный проект предусматривал более короткую (на 5 м) носовую надстройку, а также короткую радиоантенну вместо фок-мачты позади башенноподобной надстройки. В окончательном виде мостики были приподняты на один ярус, так что надстройка между ними и орудийной башней "В" образовала характерную "ступеньку". Этим устранили воздействие дульных газов на основные посты управления кораблем. Дымовая труба была перенесена на 7 м к носу, а грот-мачта (первоначально однодревковая) — на 17 м в корму.
Ангар для самолетов в первоначальном проекте отсутствовал, а для их запуска предназначались две ступенчато расположенные поворотные катапульты в корму от грот-мачты. Хранение гидросамолетов на катапультах вызывало вполне обоснованную критику, поэтому весь комплекс авиационного вооружения претерпел существенные изменения — катапульты перенесли на палубу спардека и жестко зафиксировали перпендикулярно продольной плоскости, а по бокам от дымовой трубы оборудовал и два ангара. В целом подобное решение повторяло английскую схему размещения бортовой авиации, впервые появившуюся на модернизированном в 1933 — 1936 гг. линейном крейсере "Repulse".

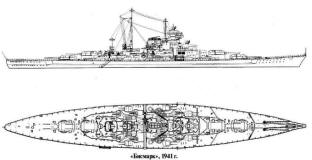 , давал кораблям хорошую мореходность в тяжелых условиях Северного моря и Атлантики. Во время боя в Датском проливе "Bismarck" не имел особых проблем с заливанием носа и даже с обширными затоплениями в носовой части поддерживал ход в 26 узлов.
, давал кораблям хорошую мореходность в тяжелых условиях Северного моря и Атлантики. Во время боя в Датском проливе "Bismarck" не имел особых проблем с заливанием носа и даже с обширными затоплениями в носовой части поддерживал ход в 26 узлов.
Вместе с "атлантическим" форштевнем было изменено и расположение якорей. Теперь один якорь размешался прямо на форштевне, а два других лежали на верхней палубе вместо обычного расположения в бортовых якорных клюзах. Это расположение было надежным, безопасным и не создавало лишних брызг. Якоря сбрасывались за борт при помощи механических устройств. Четвертый якорь был установлен в корме по левому борту в обычном клюзе.
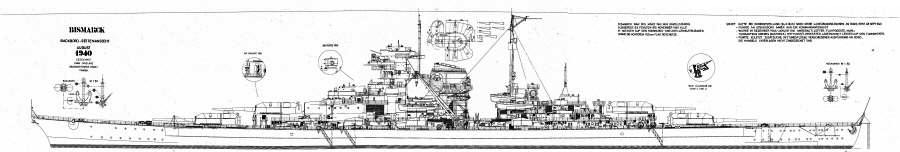
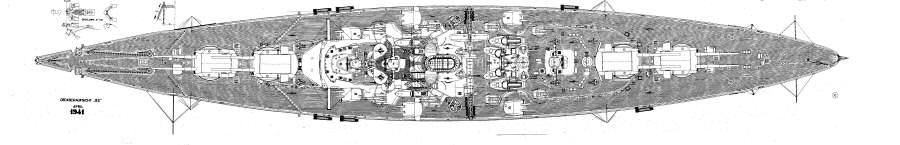
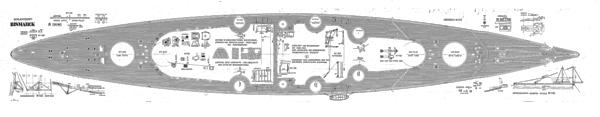
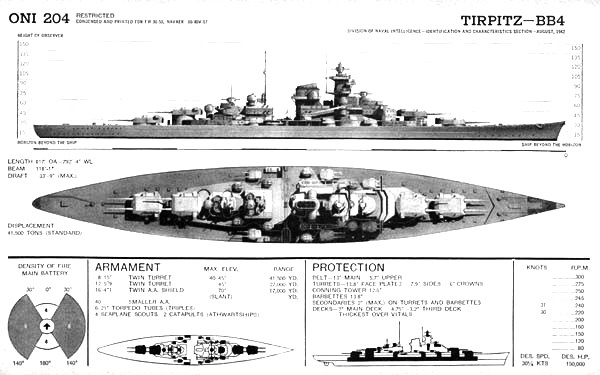
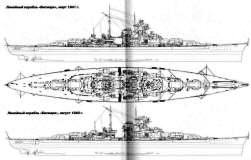
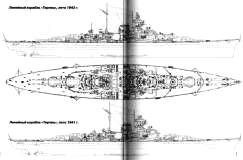

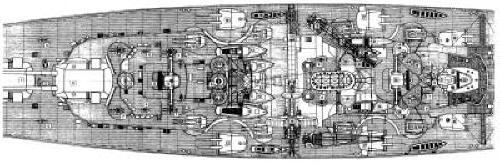
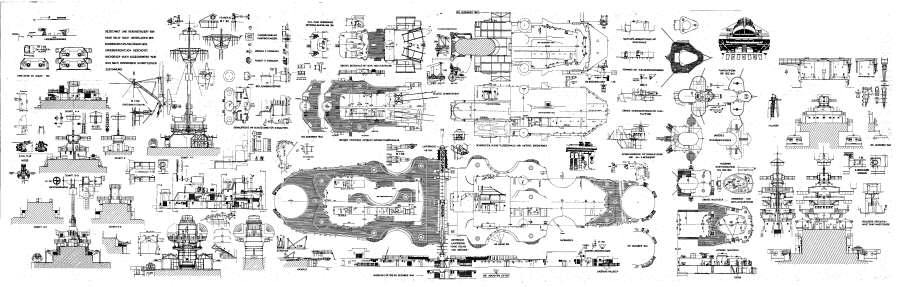

Корпус новых линкоров имел характерную для германских крупных надводных кораблей веретенообразную форму. По проекту он был гладкопалубным, с почти вертикальным форштевнем и округлой кормой; в средней части имелась заметная седловатость, так как оконечности были несколько приподняты для улучшения мореходности. Размеры корабля по окончательному проекту: длина 241,6 м, ширина 36 м. При проектировании особое внимание уделялось обводам и снижению сопротивления корпуса, о чем свидетельствует очень низкий призматический коэффициент — 0,56.  В носу в подводной части обводы корпуса имели выраженное бульбовидное утолщение для уменьшения волнообразования.
В носу в подводной части обводы корпуса имели выраженное бульбовидное утолщение для уменьшения волнообразования.
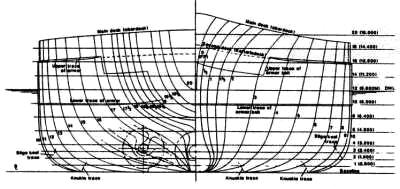 Важным элементом проектирования корпуса был тщательный подбор материалов. Для конструкций толщиной 20 мм и более использовалась сталь высокого напряжения марки Schiffbaustahl 52 или St.52, для элементов меньшей толщины и, как правило, сложной формы применялась более мягкая St.45. При постройке использовались все новейшие достижения того времени, прежде всего — электросварка, опыт применения которой немцы уже хорошо изучили и теоретически, и практически. На обоих кораблях при помощи электросварки собиралось 90—95 % всех конструкций, в том числе набор, обшивка и нецементированная броня (с применением специального электрода для этого типа брони) за исключением ПТП и нижней броневой палубы. Основные палубы также были сварными. Клепанными оставались лишь некоторые наиболее ответственные узлы конструкции.
Важным элементом проектирования корпуса был тщательный подбор материалов. Для конструкций толщиной 20 мм и более использовалась сталь высокого напряжения марки Schiffbaustahl 52 или St.52, для элементов меньшей толщины и, как правило, сложной формы применялась более мягкая St.45. При постройке использовались все новейшие достижения того времени, прежде всего — электросварка, опыт применения которой немцы уже хорошо изучили и теоретически, и практически. На обоих кораблях при помощи электросварки собиралось 90—95 % всех конструкций, в том числе набор, обшивка и нецементированная броня (с применением специального электрода для этого типа брони) за исключением ПТП и нижней броневой палубы. Основные палубы также были сварными. Клепанными оставались лишь некоторые наиболее ответственные узлы конструкции. 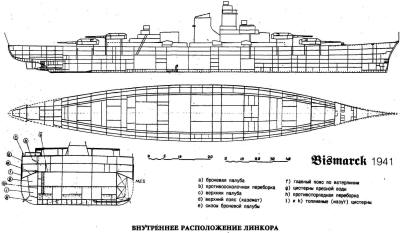 Кроме того, как и на более ранних немецких кораблях, широко использовались легкие сплавы. Мебель в каютах и кубриках делалась из алюминия, за исключением стульев, для которых применение алюминия не давало до статочной экономии веса для оправдания высокой стоимости. В конструктивных перегородках алюминий не применялся. В целом же электросварка наряду с применением более прочных марок стали давала значительную экономию веса по сравнению с проектами периода Первой мировой войны.
Кроме того, как и на более ранних немецких кораблях, широко использовались легкие сплавы. Мебель в каютах и кубриках делалась из алюминия, за исключением стульев, для которых применение алюминия не давало до статочной экономии веса для оправдания высокой стоимости. В конструктивных перегородках алюминий не применялся. В целом же электросварка наряду с применением более прочных марок стали давала значительную экономию веса по сравнению с проектами периода Первой мировой войны.
Корпус корабля набирался по смешанной продольно-поперечной схеме. Центральный киль имел две секции — между шпангоутами 47,6 и 154,6 в корме и от шп. 224 до форштевня (Нумерация шпангоутов в германской флоте традиционно велась с кормы в нос и была условной — через 1 метр, поэтому многие шпангоуты имели дробные номера). Между шп. 154,6 и 224 киль был заменен центральной продольной переборкой, а в корме до шп. 47,6 — стрингерами. Для докования киль был подкреплен пластинами, приваренными с интервалом 500 мм. Штевни линкоров — литые, составные.
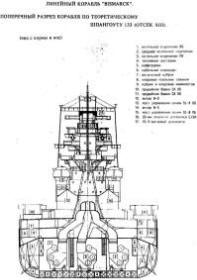
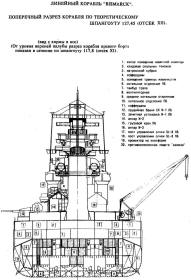 Двойное дно занимало 83 % длины корпуса и имело высоту 1700 мм (1200 мм в оконечностях). Оно имело сварную конструкцию и отделения для хранения нефти или воды. Набор двойного дна собирался по бракетной системе с восемью неразрезными стрингерами с каждой стороны от киля. Стрингеры 111 и VI11 каждого борта были сделаны водо- нефтенепроницаемыми, причем стрингер VIII соединялся с противоторпедной переборкой, а стрингер III был подкреплен для нагрузок докования до шпангоута 112,3. Боковые кили с каждой стороны размешались между шп. 88,8 и 141,1. Кили имели ширину около 1000 мм в средней части и площадь 55 м: каждый. Они были приварены к борту корабля. Прочность корпуса рассчитывалась исходя из длины волны, равной 1/20 длины корабля.
Двойное дно занимало 83 % длины корпуса и имело высоту 1700 мм (1200 мм в оконечностях). Оно имело сварную конструкцию и отделения для хранения нефти или воды. Набор двойного дна собирался по бракетной системе с восемью неразрезными стрингерами с каждой стороны от киля. Стрингеры 111 и VI11 каждого борта были сделаны водо- нефтенепроницаемыми, причем стрингер VIII соединялся с противоторпедной переборкой, а стрингер III был подкреплен для нагрузок докования до шпангоута 112,3. Боковые кили с каждой стороны размешались между шп. 88,8 и 141,1. Кили имели ширину около 1000 мм в средней части и площадь 55 м: каждый. Они были приварены к борту корабля. Прочность корпуса рассчитывалась исходя из длины волны, равной 1/20 длины корабля.
Продольные связи выше двойного дна также исполнялись неразрезными, лишь в верхней части борта в конструкции корпуса использовали продольные связи, прерывающиеся шпангоутами. Такая система обеспечивала кораблю хорошую продольную прочность и в то же время создавала надежную опору для бортовых броневых плит, в немалой степени этому способствовала конструкция шпангоутов, сплошных в верхней части. 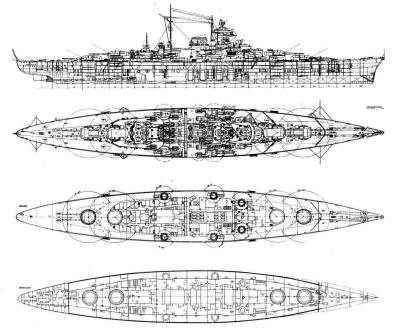 Вблизи оконечностей конструкция набора постепенно переходила к продольной системе, но с меньшим числом стрингеров. Предусматривалось четыре доковых киля (днищевые стрингеры III и VIII каждого борта). Наибольшая толщина листов наружной обшивки — 20 мм.
Вблизи оконечностей конструкция набора постепенно переходила к продольной системе, но с меньшим числом стрингеров. Предусматривалось четыре доковых киля (днищевые стрингеры III и VIII каждого борта). Наибольшая толщина листов наружной обшивки — 20 мм.
Противоторпедная переборка тянулась от шп. 32 до 202,7 и по высоте поднималась от бортовой обшивки примерно на 1400 мм выше броневой палубы. В районе барбетов кормовой пары 150-мм башен она поднималась на 2400 мм выше броневой палубы. Переборка имела клепаную конструкцию и была выполнена нефтенепроницаемой. Переборки в зоне ПТЗ были нефтенепроницаемыми с внутренней части от стрингера IX и водонепроницаемыми с наружной.
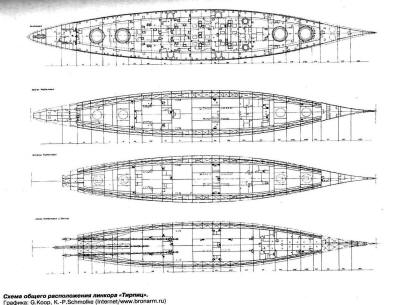 Над броневой палубой ПТП между шпангоутами 32 и 202,7 переходила в продольную противоосколочную переборку. Эта переборка доходила до верхней палубы и при необходимости огибала барбеты 150-мм башен. Сами барбеты имели в основании на броневой палубе восьмиугольную форму, которая постепенно переходила в цилиндрическую в верхней части. В дополнение к этому пара продольных переборок между броневой и верхней палубами тянулась от барбета башни "В" к барбету башни "С" на расстоянии примерно 4800 мм от диаметральной плоскости.
Над броневой палубой ПТП между шпангоутами 32 и 202,7 переходила в продольную противоосколочную переборку. Эта переборка доходила до верхней палубы и при необходимости огибала барбеты 150-мм башен. Сами барбеты имели в основании на броневой палубе восьмиугольную форму, которая постепенно переходила в цилиндрическую в верхней части. В дополнение к этому пара продольных переборок между броневой и верхней палубами тянулась от барбета башни "В" к барбету башни "С" на расстоянии примерно 4800 мм от диаметральной плоскости.
Продольные переборки в кормовой части были установлены между шпангоутами 10,5 и 32 и поднимались от внутренней обшивки или вала среднего винта до броневой палубы. Носовые машинные отделения были разделены центральной переборкой между шпангоутами 98,3 и 112.3 по длине и внутренним дном и броневой палубой по высоте. Продолжение этой переборки высотой до нижней броневой палубы доходило до шпангоута 91,3. В носовой части продольная переборка над центральным килем имелась между шпангоутами 154,6 и 224. Она доходила по высоте до нижней или верхней платформы и была усилена для сопротивления дополнительным нагрузкам при доковании.
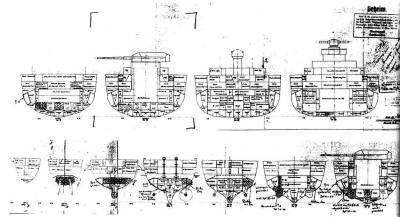 По высоте корпус делился семью палубами, из которых сплошными были только три: верхняя (Oberdeck), батарейная (Batteriedeck) и главная или броневая (Panzerdeck). Четыре других (включая настил двойного дна) были расположены ниже броневой и по существу являлись платформами. Средняя высота междупалубного пространства 2,4 м.
По высоте корпус делился семью палубами, из которых сплошными были только три: верхняя (Oberdeck), батарейная (Batteriedeck) и главная или броневая (Panzerdeck). Четыре других (включая настил двойного дна) были расположены ниже броневой и по существу являлись платформами. Средняя высота междупалубного пространства 2,4 м.
Главные поперечные переборки, за исключением переборок, подкреплявших башни, прерывались центральной и бортовыми продольными переборками. По высоте они шли от дна до броневой палубы, по ширине — до ПТП. продольных переборок или обшивки. Переборка на шп. 10,5 закрывала заднюю оконечность броневой палубы. Башни поддерживались поперечными переборками по шпангоутам 41.8.50,5,60, 68,7, 169.98, 178,7, 188,8 и 196.9. простиравшимися по высоте от внутренней обшивки до броневой палубы. Выше броневой палубы корабль имел 34 поперечных переборки различной высоты (в зависимости от места расположения по длине).
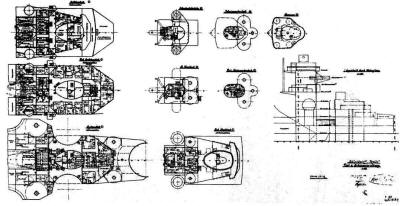 Водонепроницаемость и контроль за повреждениями обеспечивались разделением корпуса на 22 водонепроницаемых отсека, причем отсеки с VIII по XIII занимала энергетическая установка. Отсеки III — XIX (суммарная длина 171,7 м) защищались бортовой броней. В них располагались наиболее важные, жизненные для корабля объекты:
Водонепроницаемость и контроль за повреждениями обеспечивались разделением корпуса на 22 водонепроницаемых отсека, причем отсеки с VIII по XIII занимала энергетическая установка. Отсеки III — XIX (суммарная длина 171,7 м) защищались бортовой броней. В них располагались наиболее важные, жизненные для корабля объекты:
| III-VI | погреба кормовой группы башен главною калибра |
| VII | отделение вспомогательных дизель-генераторов, пост живучести, коридор среднего вала |
| VIII | кормовая турбина и отделения главных дизель-генераторов |
| IX | пост энергетики и живучести, главные распределительные щиты, коридоры гребных валов |
| X | две носовые турбины |
| XI | кормовая группа котельных отделений |
| XII | вспомогательные механизмы котельных отделений |
| XIII | носовая группа котельных отделений |
| XIV | отделения турбогенераторов и вспомогательных механизмов |
| XV-XIX | погреба носовой группы башен главного калибра |
Верхняя палуба от кормы до шпангоута 233 покрывалась 75-мм тиковыми досками. Размагничивающий кабель устанавливался по нижней кромке поясной брони.
БРОНЕВАЯ И ПРОТИВОТОРПЕДНАЯ ЗАЩИТА
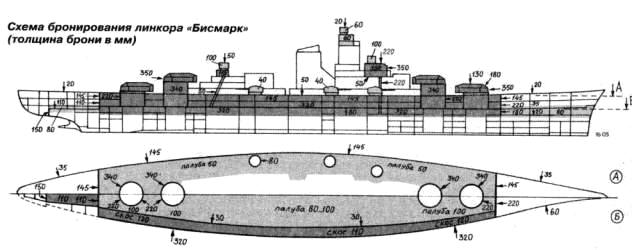 В подходе к бронированию тяжелых артиллерийских кораблей немцы шли вразрез с мировой практикой, принявшей после Ютланда американский принцип "все или ничего", и сохранили приверженность традиционному способу бронирования. Немецкие конструкторы распределили броню так, чтобы на критических дистанциях боя ее вертикальная и горизонтальная составляющие помогали друг другу выдерживать попадания в жизненно важные части корабля. Иными словами, снаряд, пробивший бортовую броню, должен был встречать на пути еще и бронепалубу. Хотя большинство теоретиков межвоенного периода сходилось во мнении о грядущем увеличении дистанций артиллерийского боя, когда навесная траектория снаряда резко повышает вероятность поражения палубной брони, германские адмиралы по-прежнему собирались сражаться на малых и средних дистанциях
В подходе к бронированию тяжелых артиллерийских кораблей немцы шли вразрез с мировой практикой, принявшей после Ютланда американский принцип "все или ничего", и сохранили приверженность традиционному способу бронирования. Немецкие конструкторы распределили броню так, чтобы на критических дистанциях боя ее вертикальная и горизонтальная составляющие помогали друг другу выдерживать попадания в жизненно важные части корабля. Иными словами, снаряд, пробивший бортовую броню, должен был встречать на пути еще и бронепалубу. Хотя большинство теоретиков межвоенного периода сходилось во мнении о грядущем увеличении дистанций артиллерийского боя, когда навесная траектория снаряда резко повышает вероятность поражения палубной брони, германские адмиралы по-прежнему собирались сражаться на малых и средних дистанциях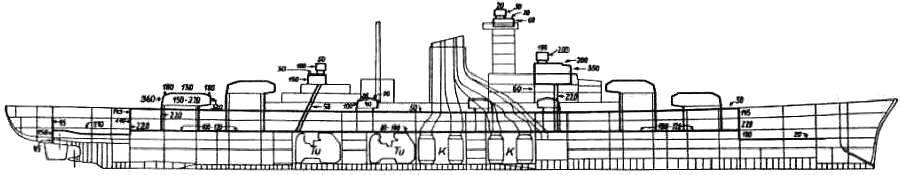 , уповая на ограниченную видимость в Северном море. По этой причине в проекте линейных кораблей "F" и "G" вертикальное бронирование явно превалировало над горизонтальным.
, уповая на ограниченную видимость в Северном море. По этой причине в проекте линейных кораблей "F" и "G" вертикальное бронирование явно превалировало над горизонтальным.
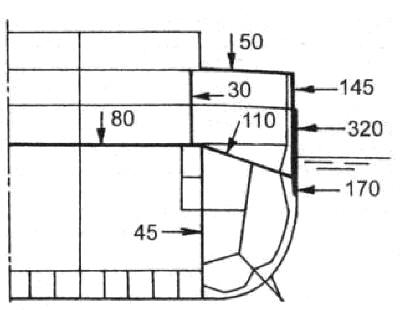 Общий вес брони на "Bismarck" составлял 18 700 метрических тонн или 40 % от проектного боевого водоизмещения. Только японский суперлинкор "Yamato" превосходил немецкий корабль по суммарному весу бронирования (22 895 метрических т), но при этом существенно уступал по его процентному отношению к водоизмещению — всего 33,2 %.
Общий вес брони на "Bismarck" составлял 18 700 метрических тонн или 40 % от проектного боевого водоизмещения. Только японский суперлинкор "Yamato" превосходил немецкий корабль по суммарному весу бронирования (22 895 метрических т), но при этом существенно уступал по его процентному отношению к водоизмещению — всего 33,2 %.
Материалы
Все броневые материалы для тяжелых надводных кораблей Кригсмарине изготавливались заводами концерна Круппа. Примерно в 1930 г. германский флот запросил Круппа исследовать качество существующей брони и найти способы его улучшения.
Доведенные разработки и испытания привели к улучшению прочности брони примерно на 25 % по сравнению с образцами периода Первой мировой войны за счет молибденовых добавок к прежним хромоникелевым сплавам.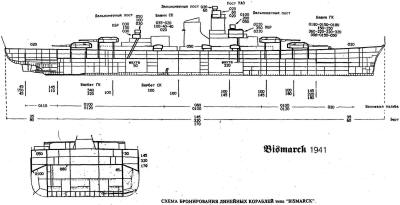
Основным материалом для изготовления толстых броневых плит для "Bismarck" и "Tirpitz" являлась КС (Krupp Cementiert) — поверхностно-укрепленная (цементированная) броневая сталь, содержащая 3,78 % никеля, 2,06 % хрома, 0,34 % углерода, 0,31 % марганца и 0,2 % молибдена. Глубина закаленного лицевого слоя у нее составляла 40—50 % толщины листа. Согласно послевоенным сравнительным испытаниям, КС лишь немного уступала по качеству лучшей в мире британской броне марки СА и была существенно лучше всех прочих марок.
Больших успехов достигли немецкие инженеры и в изготовлении более тонкой незакаленной брони. Широкое применение электросварки на новых кораблях привело их к идее сварного соединения броневых листов, однако применявшаяся ранее броневая сталь KNC (Krupp Non Cementiert) не подходила для этих целей. Поэтому были разработаны специальные виды броневых сталей семейства "Wotan", получившие названия Wh (Wotan hart), Wsh (Wotan starrheit) и Ww (Wotan weich) — соответственно тяжелая, повышенной твердости и легкая гомогенная броня. Стали Wh и Ww, впервые примененные на линкорах "Scharnhorst" и "Gneisenau", изготовлялись толщиной от 10 до 150 мм. Они легко сваривались, однако для этого требовались специальные, сравнительно дорогие электроды. Их удалось заменить более дешевыми, не требующими большого применения редких металлов, которые Германия импортировала.
Компонент |
KCnA |
KCaA |
Углерод (С) |
0,34 % |
0,37 % |
Никель (Ni) |
3,78 % |
4,10 % |
Марганец (Mn) |
0,31 % |
0,30 % |
Хром (Cr) |
2,06 % |
1,89 % |
временное сопротивление на разрыв |
удлинение |
предел текучести |
|
Wh |
85-95 кг/кв. мм. |
20 % |
50-55 кг/кв.мм. |
Ww |
65-75 кг/кв. мм. |
25 % |
38-40 кг/кв.мм. |
KNC |
ок.69 кг/кв. мм. |
15 % |
ок.53 кг/кв. мм. |
52КМ |
52-64 кг/кв. мм. |
22-24 % |
бол. 34 кг/кв. мм. |
Вертикальная защита
Вертикальное бронирование "Bismarck" и "Tirpitz" в целом соответствовало схеме, принятой для линкоров типа "Scharnhorst", основной разницей, кроме толщины некоторых плит, было наличие вертикальной противоторпедной переборки вместо наклонной. Жизненно важные отсеки защищала броневая цитадель, прикрывавшая 68 % длины корпуса по ватерлинии (170,7 м в длину и 7 м в высоту) и замыкавшаяся в носу и в корме броневыми траверзами. Вся вертикальная броня толще 100 мм изготавливалась из закаленной стали марки КС, для более тонких плит использовалась броня Wh.
Главный пояс состоял из верхнего и нижнего рядов плит. Нижний ряд (главный пояс) имел толщину 320 ("Bismarck") или 315 ("Tirpitz") миллиметров на 70 % своей высоты, а затем плавно утончался до 170 мм по нижней кромке. Верхняя кромка главного пояса располагалась на 100 мм ниже батарейной палубы, нижняя кромка — на 7800 мм выше киля (т.е. на 1600 мм ниже проектной ВЛ). По верхней кромке пояс имел желоб и уступ для соединения с плитами верхнего ряда плит.
Верхний пояс (в немецком флоте его традиционно называли казематом) имел толщину 145 мм и доходил по высоте до верхней палубы. По замыслу германских конструкторов, этот пояс должен был служить защитой от снарядов крейсеров и эсминцев при стычках на ближних дистанциях в условиях Северного моря.
Плиты главного и верхнего поясов укладывались на тиковую подкладку толщиной 60 мм. а вся эта конструкция крепилась к корпусу броневыми болтами диаметром 50 или 70 мм. Вертикальные кромки листов не скреплялись друг с другом, что, например, нормами советского кораблестроения не допускалось. Главный пояс закрывал борт от шп. 32 до шп. 203 и имел высоту 4,8 м, из которых 2.8 м (2,4 м в полном грузу) располагались выше проектной ватерлинии. Пояс был вертикальным в средней части, а в оконечностях имел наклон наружу, обусловленный обводами корпуса. Этот наклон (17, 10, 7 и 8—10 градусов в районе башен "А", "В", "С" и "D" соответственно) заметно улучшал бортовую защиту погребов на дальних дистанциях. Обшивка борта под главным поясом имела толщину 16 мм в нижней и средней части, 18 мм в верхней части и 25 мм в районе кормовых 150-мм башен.
За главным поясом (на расстоянии 5,5 м от борта на миделе) размешалась продольная противоторпедная переборка, поднимавшаяся от стрингера IX до броневой палубы. Ее нижняя часть — от днища до броневой палубы (внутренняя или главная ПТП) — изготавливалась из мягкой броневой стали Ww толщиной 45 мм с двойными планками различной ширины по кромке и крепилась к набору корпуса при помощи клепки. Выше броневой палубы ПТП была продолжена до верхней палубы 25—30-мм противоосколочной переборкой.
В носу и в корме броневая цитадель закрывалась траверзами по шпангоутам 32 и 202.7. Толщина носового траверза составляла 145 мм верхней до батарейной палубы, 220 мм между батарейной палубой и верхней платформой и 180 мм между верхней и средней платформой. Кормовой траверз по 32-му шпангоуту в 33,4 м от ахтерштевня был устроен аналогично, но не имел 180-мм участка между верхней и средней платформой, поскольку в корме рули защищала более толстая броневая палуба.
Еще один броневой пояс защищал рулевое управление. Его толщина составляла 150 мм в центральной части, а выше (между батарейной и главной палубами) и ниже — 45 мм.
В оконечностях борт по ватерлинии защищали тонкие противоосколочные пояса из брони Wh. Эта защита устанавливалась с учетом опыта Ютландского боя, когда носовая оконечность линейного крейсера "Lützow" была разбита осколками 381-мм снаряда, что привело к большому дифференту на нос. Пояс в корме имел толщину 80 мм и постирайся от шп. 10,5 до шп. 32. Его полная высота составляла 2100 мм, из которых 1500 мм находились ниже конструктивной ватерлинии. Носовой пояс толщиной 60 мм шел от носового траверза до самого форштевня (длина 38,5 м) и имел высоту 3895 мм. Добавим, что пояс в оконечностях играл роль обшивки и имел планки для клепаного соединения с обшивкой борта выше и ниже броневых плит.
Общий вес вертикальной брони линкоров (включая противоторпедные переборки) — 8 млн. 136 тыс. 532 кг.
Горизонтальная броня
Горизонтальная защита состояла из двух броневых палуб — верхней и главной (броневой). Материалом служила броня Wh.
Верхняя палуба простиралась на 213,5 метров (от шп. 10,5 до шп. 224), что составляло около 85% длины корабля. Она была равномерно бронирована 50-мм плитами, утолщаясь до 80 мм в районе барбетов 150-мм башен. Основным назначением палубы было инициирование взрывателей бомб, с тем, чтобы взрыв происходил выше главной броневой палубы. Швы и кромки верхней палубы крепились при помощи сварки. Вес этой палубы составлял 2 248,053 т.
В отличие от линкоров предыдущего проекта ("Scharnhorst" и "Gneisenau"), где в результате перегрузки главная бронепалуба оказалась ниже ватерлинии, на "Bismarck" и "Tirpitz" она располагалась несколько выше ватерлинии, но сохранила неоднородность по толщине. Ее наиболее широкий, плоский участок — между противоторпедными переборками — имел толщину 80 мм над машинно-котельными отделениями (отсеки VIII—XII), но над погребами (отсеки III—VII и XIV—XIX) на "Bismarck" усиливался до 95 мм, а на "Tirpitz", за счет уменьшения толщины пояса, до 100 мм.
С внешней стороны противоторпедной переборки палуба скашивалась к борту под углом 22° и примыкала к бортовому поясу, не доходя 1 м до его нижней кромки. Толщина брони на скосах была усилена до 110 мм (на "Tirpitz" в районе погребов — до 120 мм). Особое внимание было уделено конструктивному креплению палубы для равномерного распределения нагрузок и недопущения концентрации напряжений. Горизонтальная часть палубы крепилась болтами, скосы — плоскими заклепками. В районе соединения с ПТП палуба подкреплялась двойными полосами броневой стали шириной 300 мм. Соединение с ПТП дополнительно закреплялось сваркой, что было результатом проведенных ранее испытаний с подводными взрывами. На главную палубу ушло 4 293,264 т брони.
Особое внимание уделялось разработке конструкции броневых решеток в дымоходах и вентиляционных шахтах. Конструкция решеток времен Первой мировой войны была не вполне удачной, так как позволяла осколкам проникать под броневую палубу. Новые решетки представляли собой плиты из гомогенной брони повышенной толщины с насверленными цилиндрическими отверстиями. Испытательные стрельбы показали, что конструкция давала определенную защиту даже при прямых попаданиях.
Вне цитадели главная палуба не бронировалась, однако в корме ниже уровня ватерлинии имелась специальная броневая промежуточная палуба, защищающая рулевое управление корабля. Она тянулась от кормового траверза цитадели до траверза румпельного отделения (между шп. 10,5 и 32) и имела сложную форму, но толщина плит была равномерной — 110 мм. В носовой части главная палуба вне цитадели также не бронировалась, но верхняя платформа от носового траверза до 215-го шпангоута бронировалась 20-мм листами.
Защита артиллерии
Артиллерия главного калибра на немецких кораблях защищалась традиционно хорошо. Башни главного калибра линкоров типа "Bismarck" имели форму сложного многогранника, состоявшего из 14 поверхностей, почти полностью плоских (единственной гнутой деталью была задняя стенка башни). В лобовой части башни защищались плитами толщиной 360 мм, с боков — 220-мм вертикальными и 150-мм наклонными листами, задняя стенка, игравшая также роль противовеса, была толще — 320 мм. Плоская часть крыши и примыкающие к ней наклонные поверхности имели толщину 180 мм, не прикрытый барбетом пол башни защищался 50—150-мм плитами. Вся броня башен крепилась на болтах.
Барбеты башен главного калибра бронировались только выше броневой палубы и состояли из двух колец. Нижнее кольцо — от броневой до верхней палубы — имело толщину 220 мм (следует учесть, что дополнительную защиту создавала бортовая броня), верхнее кольцо, располагавшееся над верхней палубой, было существенно толще — 340 мм, и лишь на "Tirpitz" небольшой внутренний сегмент у диаметральной плоскости — 220 мм. Весь броневой материал башен главного калибра и их барбетов изготовлялся из цементированной брони КС.
Башни среднего калибра также собирались из 12 плоских плит и закругленной задней стенки. По сравнению с линкорами предыдущего типа "Scharnhorst" их бронирование было ослаблено. Лобовая плита имела толщину 100 мм, боковые стенки — 40 мм, передняя плита крыши — 35 мм, задняя плита крыши и пол — 20 мм.
Барбеты 150-мм башен имели внутренний диаметр 4,95 м и опирались на броневую палубу. Над верхней палубой (высота 1,64 м) их защищала 80-мм броня, в межпалубном пространстве ее толщина уменьшалась до 20 мм, так как основной зашитой служили плиты броневого пояса.
Бронирование 105-мм зенитных установок было еще скромнее: у модели С/33 — 15 мм лоб, 10 мм борта и основание; у модели С/37 — 20 мм лоб, 10 мм борта, 8 мм основание и тыльная часть.
Основным материалом для бронирования орудий среднего и зенитного калибров служила сталь Wh и только для лобовых плит 150-мм башен использовалась КС.
Боевая рубка и посты управления огнем
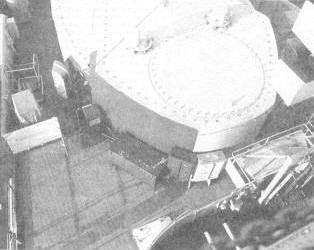 Боевые рубки практически на всех германских тяжелых кораблях являлись одним из наиболее защищенных мест, не стали исключением и линкоры типа "Bismarck". Их носовая боевая рубка была двухъярусной и на виде сверху имела форму усеченного овала со срезанной передней стенкой. Верхняя часть рубки имела более сложную форму, приспособленную для размещения перископов и визиров управления огнем. Стенки рубки состояли из пяти броневых плит толщиной 350 мм, соединенных планками и болтами; крыша имела толщину 200 мм, пол — 70 мм. С находившимся под броневой палубой центральным постом рубку связывали коммуникационные линии, заключенные в 220-мм броневую трубу диаметром 1 м.
Боевые рубки практически на всех германских тяжелых кораблях являлись одним из наиболее защищенных мест, не стали исключением и линкоры типа "Bismarck". Их носовая боевая рубка была двухъярусной и на виде сверху имела форму усеченного овала со срезанной передней стенкой. Верхняя часть рубки имела более сложную форму, приспособленную для размещения перископов и визиров управления огнем. Стенки рубки состояли из пяти броневых плит толщиной 350 мм, соединенных планками и болтами; крыша имела толщину 200 мм, пол — 70 мм. С находившимся под броневой палубой центральным постом рубку связывали коммуникационные линии, заключенные в 220-мм броневую трубу диаметром 1 м.
Кормовая боевая рубка была одноярусной, почти прямоугольной формы и защищалась значительно слабее: 150-мм вертикальными и 50-мм горизонтальными плитами, а ее коммуникационная труба имела диаметр 0,8 м и толщину 50 мм.
Посты управления огнем главного и среднего калибра имели достаточно мощное бронирование:
 — КДП на боевой рубке — 120-мм стенки, 100-мм крышу и 50-мм пол;
— КДП на боевой рубке — 120-мм стенки, 100-мм крышу и 50-мм пол;
— КДП на башенноподобной надстройке — 30-мм стенки, 20-мм крышу и пол, а также основание с 60-мм стенками и 20-мм полом и крышей;
— КДП на кормовой надстройке — 100-мм стенки, 50-мм крышу и 30-мм основание.
Вся броня рубок и постов управления огнем — марки КС. Легкое противоосколочное бронирование из 10—20 мм стали Wh или Wsh имели некоторые помещения на носовой надстройке, а также купола стабилизированных постов управления зенитным огнем.
Конструктивная подводная защита
Противоторпедная защита проектировалась для защиты от взрыва 250-кг заряда тринитротолуола (ТНТ) на глубине в половину проектной осадки. Схема защиты основывалась на полномасштабных испытаниях со старым броненосцем "Preußen". Коридоры для электрических кабелей, размещавшиеся за противоторпедной переборкой, было решено сделать частью ПТЗ — их дополнительная ширина должна была служить защитой жизненно важных частей от затоплений в случае пробоины. Сами кабели должны были крепиться в местах минимальной возможной деформации в верхней и нижней части отсеков ПТЗ. Эксперименты с "Preußen" позволили лучше спроектировать крепления кабелей и реле для их большей устойчивости к сотрясению от взрыва.
Поскольку котлы и машины корабля потребовали больше места, чем первоначально планировалось, пришлось сделать коридоры для кабелей и соответствующую переборку не в полную высоту машинно-котельных отделений. В результате ПТЗ была ослаблена, что и привело входе боя в Датском проливе к затоплению котельного отделения "Bismarck" при попадании 356-мм снаряда с "Prince of Wales", разорвавшегося снаружи от ПТП.
Внутренняя (главная) 45-мм противоторпедная переборка тянулась по всей длине цитадели и поднималась от обшивки второго дна до верхней броневой палубы. Толщина ПТП определялась экспериментально. Слишком тонкая переборка не выдержала бы нагрузок, а слишком толстая не обладала бы достаточной гибкостью и могла бы быть сорвана с креплений.
Пространство до внутренней ПТП было разделено на две зоны. Внешняя зона представляло собой пустой объем, предназначенный для расширения газов при взрыве. Переборки в этой зоне были выполнены из возможно более тонкой стали, чтобы, легко разрушаясь, не препятствовать расширению газов и не создавать крупных осколков. Этот объем должен было оставаться пустым при любых условиях, цистерны для контрзатоплений располагались отдельно от него в нижней части корпуса под бортовыми топливными цистернами. Сами цистерны размещались между внутренней и внешней противоторпедными переборками и должны были быть заполнены на 70—75 % от максимального объема. Расстояние от обшивки борта до верхней кромки внешней ПТП на миделе составляло 2347 мм. Основная энергия взрыва должна была затрачиваться на разрушение внешней стенки топливных цистерн и преодоление гидравлического сопротивления нефти и воды, часть взрывных газов должна была расширяться наверх, а остаток энергии — гаситься деформацией ПТП, причем жидкая среда должна была более равномерно распределять нагрузки.
Общая глубина ПТЗ составляла:
Башня "А" (отсек XVIII) — 3,05 м.
Башня "В" (отсек XVI) — 3,51 м.
МКО (отсеки IX—XIII) — 5,50 м.
Башня "С" (отсек VI) — 3,35 м.
Башня "D" (отсек IV) — 3,05 м.
В районе башен, где глубина ПТЗ уменьшалась, дополнительная защита достигалась за счет более широких внутренних помещений, отделявших ПТП от погребов. Расстояние от внутренней ПТП до стенки погреба составляло примерно 2,4 м.
В целом конструктивная подводная защита линкоров типа "Bismarck" соответствовала требованиям своего времени, однако учитывая, что меньшие по размерам корабли типа "Scharnhorst" имели подводную защиту такой же глубины, можно считать, что на "бисмарках" ее можно было сделать и мощнее. При этом противоторпедная защита имела ряд принципиальных недостатков, которые сыграли немаловажную роль в судьбе головного корабля.
1) КПЗ была рассчитана (и испытана) на противодействие 300-350 кг взрывчатого вещества типа ТГА (тротил-гексоген-алюминий), что эквивалентно примерно 400-500 кг ТНТ (тринитротолуол, иначе - тротил) и таким образом оказалась лишь на верхнем пределе сопротивляемости против английских корабельных торпед. В оконечностях КПЗ была еще слабее (сопротивляемость только 200 кг ТГА);
2) ненадежное крепление верхней кромки броневой противоторпедной переборки (это же было присуще и линкорам типа "Scharnhorst", что выявилось во время испытаний отсеков КПЗ), а также стыковых соединений отдельных листов переборки;
3) отсутствие фильтрационных отсеков в системе КПЗ (также как и на "Scharnhorst"), которая устраивается позади противоторпедной переборки и предназначается для ограничения распространения воды в случае повреждения переборки. Ввиду этого, на "Bismarck" противоторпедная переборка служила не только для ограничения зоны разрушений при подводном взрыве, но средством предупреждения распространения воды. На нее было возложено слишком много неоправданных надежд. Этот недостаток был учтен немцами, и в проекте следующих кораблей типа "Н" - "N" фильтрационные отсеки уже предусматривались).
На линкорах типа "Bismarck" был применен отлично зарекомендовавший себя в годы Первой мировой войны принцип обеспечения высокой остойчивости за счет развитого деления на водонепроницаемые помещения. Как уже говорилось, поперечные водонепроницаемые переборки делили корпус на 22 отсека. Продольные ПТП образовывали еще по 16 бортовых отсеков с каждого борта.
Каждый главный водонепроницаемый отсек делился внутренними продольными и поперечными переборками на более мелкие водонепроницаемые пространства. В частности, на верхней платформе насчитывалось более 250 изолированных помещений, на нижней платформе — около 200. По проекту затопление двух больших отсеков в оконечностях не должно было приводить к погружению главной палубы ниже уровня воды. Хорошее разделение на отсеки сопровождалось достаточно большим весом корпусных конструкций, что увеличивало метацентрическую высоту и повышало остойчивость.
| Водоизмещение, метрических т | Метацентрическая высота, м | Угол максимальной остойчивости, град. | Диапазон остойчивости, град. |
| 40 200 | 3,60 | 35 | 53 |
| 43 700 | 3,55 | 34 | 55 |
| 45 951 | 3,87 | ||
| 47 200 | 4,00 | 33 | 59 |
| 50 956 | 4,23 | ||
| 53 200 | 4,40 | 31 | 65 |
Корабли отличались хорошей статической остойчивостью, но диапазон остойчивости у них был меньшим, по сравнению с зарубежными линкорами того периода, что можно объяснить относительно небольшой высотой надводного борта: отношение длины к высоте корпуса по окончательному проекту составляло 16,7.
Линкоры типа "Bismarck" имели низкорасположенную броневую палубу. Главным доводом в пользу такого решения служило ограничение распространения воды вверх при повреждении борта ниже ватерлинии (разумеется, при условии целостности самой палубы). Не менее важным преимуществом было отсутствие в полностью затопленных отсеках опасных для корабля свободных поверхностей воды, которые при их наличии перемешаются к наклоненному борту, одновременно отступая от противоположного, еще более увеличивая крен корабля. К тому же в случае с низкой палубой центр тяжести затопленных объемов располагается очень низко, что в некоторой степени даже улучшает остойчивость корабля.
Однако у такой конструкции имелись и слабые стороны. В случае, если корабль получает более или менее значительный крен, а надводный борт оказывается разрушен, то распространение воды выше главной палубы создает угрозу остойчивости. Именно такая ситуация возникла при гибели "Tirpitz", когда борт оказался разрушен на большом протяжении. Второй важный недостаток низкого расположения броневой палубы проявлялся при торпедных попаданиях. Зачастую противоторпедная переборка выдерживала подводные взрывы и, выполняя свое назначение, ограничивала распространение воды во внутренние отсеки корабля, но в то же время создавала большой кренящий момент. Контрзатопление выравнивало крен, но одновременно увеличивало осадку корабля, еще более понижая высоту бронепалубы относительно уровня воды. Для корабля, имеющего сравнительно небольшой запас плавучести защищенных помещений, подобная ситуация при определенных условиях могла создать угрозу потопления даже при неповрежденной цитадели.
Немецкие линкоры имели мощную противокреновую систему. Хотя все три погибших в бою немецких линкора ("Bismarck", "Tirpitz", "Scharnhorst") затонули, перевернувшись через борт, это произошло после получения таких повреждений, которых не выдержал бы никакой другой соизмеримый с ними корабль. Следует отметить, что во многом этому способствовала не только хорошо продуманная система защиты, но отлично организованная борьба за поддержание живучести и прекрасная выучка личного состава.
| ВООРУЖЕНИЕ И АВИАГРУППЫ |
Выбор калибра для капитальных кораблей всегда являлся основным вопросом при составлении технического задания, а в случае с линкорами "F" и "G" постоянные перемены мнений относительно их артиллерии заставляли одновременно прорабатывать несколько вариантов эскизных проектов для разных калибров. При этом требовалось найти компромисс между скорострельностью орудий сравнительно небольшого калибра, позволявшей увеличить число попаданий, и разрушительным воздействием менее скорострельных крупнокалиберных орудий. По мнению немецких специалистов, наиболее полно этой задаче отвечали 380-мм орудия. Увеличение калибра при сравнимой начальной скорости снаряда вело к снижению живучести стволов, меньший же калибр считался малоэффективным по разрушительному действию боеприпасов, не обеспечивая при этом заметного преимущества в скорострельности.
Опыт создания 380-мм орудий у немцев имелся. До окончания Первой мировой войны в строй вошли два дредноута типа "Bayern", вооруженные восемью пушками SK L/45 образца 1913 г. Последние часто называют прототипом главного калибра "Bismarck", но это не так. На самом деле новые орудия были оригинальной разработкой концерна Круппа. Они прошли испытания уже во время строительства кораблей, после чего были приняты на вооружение под обозначением "38см/52 SK С/34", что значит "38-см/ 52-клб морское орудие образца 1934 года" Schiffkanone, С — Konstruktionsjahr).
Конструкция ствола была типичной для крупповских артсистем: внутренняя труба, внутрь которой вставлялся сменный лейнер, заменявшийся со стороны затвора; четыре скрепляющих кольца; защитный кожух, состоящий из четырех частей, каждая из которых насаживалась примерно на две трети предыдущей; казенная часть, ввернутая в горячем состоянии в заднюю часть кожуха; клиновой горизонтально-скользящий затвор. На более поздних моделях, использовавшихся только в береговой артиллерии, ствол не лейнировался. Вес внутренней трубы составлял 22 670 кг, лейнера — 14 300 кг, затвора — 2 800 кг, общая масса орудия с затвором достигала 111 тонн. Орудия имели правую нарезку с 90 нарезами (глубина 4,5 мм; ширина 7,76 мм); шаг нарезки — переменный, от 1/36 до 1/30.
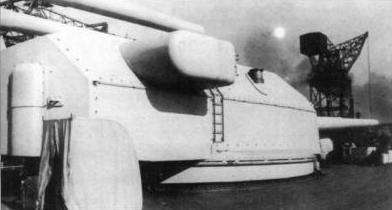 Баллистические характеристики выбирались, исходя из требования обеспечить максимально настильную траекторию, а значит — малое рассеивание снарядов по дальности, что, как считалось, давало преимущества в условиях Северного моря. Таким образом, немцы склонились к концепции "легкий снаряд — высокая начальная скорость". В результате новое 380-мм орудие получило ствол длиной около 52 калибров и придавало 800-кг снаряду начальную скорость в 820 м/с.
Баллистические характеристики выбирались, исходя из требования обеспечить максимально настильную траекторию, а значит — малое рассеивание снарядов по дальности, что, как считалось, давало преимущества в условиях Северного моря. Таким образом, немцы склонились к концепции "легкий снаряд — высокая начальная скорость". В результате новое 380-мм орудие получило ствол длиной около 52 калибров и придавало 800-кг снаряду начальную скорость в 820 м/с.
Немцы использовали три типа снарядов:
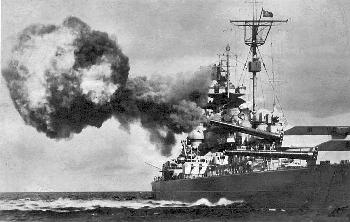 1) бронебойный Pz.Spr.Gr. L/4,4 (mhb) — по немецкой терминологии, "Panzersprenggranate". Предназначался для поражения хорошо бронированных целей и снабжался баллистическим наконечником из алюминиевого сплава с радиусом закругления около 10 клб, рассчитанным на сверхзвуковую скорость полета, и донным взрывателем Bdz.38;
1) бронебойный Pz.Spr.Gr. L/4,4 (mhb) — по немецкой терминологии, "Panzersprenggranate". Предназначался для поражения хорошо бронированных целей и снабжался баллистическим наконечником из алюминиевого сплава с радиусом закругления около 10 клб, рассчитанным на сверхзвуковую скорость полета, и донным взрывателем Bdz.38;
2) фугасный, а фактически полубронебойный Spr.Gr. L/4,5 Bdz (mhb) также с баллистическим наконечником и донным взрывателем. Такой снаряд хорошо подходил для стрельбы по менее защищенным целям, например, крейсерам противника. Взрыватель Bdz.38 имел типовое значение временной задержки 0,025-0,035 сек случае пробития брони обеспечивал поражение жизненно важных частей внутри вражеского корабля;
 3) фугасный Spr.Gr. L/4,6 Kz (mhb) с головным взрывателем Kz.27 мгновенного действия. Такой снаряд годился для пристрелки, поражения небронированных объектов и стрельбы по береговым целям.
3) фугасный Spr.Gr. L/4,6 Kz (mhb) с головным взрывателем Kz.27 мгновенного действия. Такой снаряд годился для пристрелки, поражения небронированных объектов и стрельбы по береговым целям.
В I944 году в боекомплект "Tirpitz" был включен фугасный снаряд с установкой взрывателя по таймеру, предназначенный для ведения заградительного огня по воздушным целям.
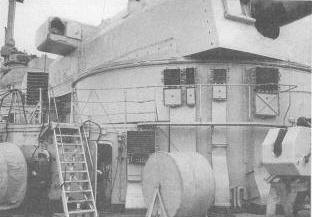 380-мм бронебойные снаряды имели важную отличительную особенность, которая стала известной широкой публике совсем недавно. Их бронебойный наконечник ("Макаровский колпачок") чрезвычайно прочно скреплялся со снарядным стаканом с помощью особой высокотемпературной сварки по технологии фирмы Крупп. Как показали послевоенные американские испытания, для его удаления требовалась толщина гомогенной брони в 0,12 калибра (то есть 45,6 мм), что примерно на 50 % больше, чем для аналогичных снарядов других стран. Радиус кривизны головной части снарядного стакана составлял 1,3 клб, что давало хороший эффект при углах встречи с бронёй в 30—35°. Кстати, те же испытания выявили низкую надежность немецких донных взрывателей. Для их взведения требовалась преграда из незакаленной броневой стали толщиной не менее 7 % калибра (т.е. около 27 мм). При отклонении от нормали этот минимум сокращался, но увеличивалась вероятность рикошета.
380-мм бронебойные снаряды имели важную отличительную особенность, которая стала известной широкой публике совсем недавно. Их бронебойный наконечник ("Макаровский колпачок") чрезвычайно прочно скреплялся со снарядным стаканом с помощью особой высокотемпературной сварки по технологии фирмы Крупп. Как показали послевоенные американские испытания, для его удаления требовалась толщина гомогенной брони в 0,12 калибра (то есть 45,6 мм), что примерно на 50 % больше, чем для аналогичных снарядов других стран. Радиус кривизны головной части снарядного стакана составлял 1,3 клб, что давало хороший эффект при углах встречи с бронёй в 30—35°. Кстати, те же испытания выявили низкую надежность немецких донных взрывателей. Для их взведения требовалась преграда из незакаленной броневой стали толщиной не менее 7 % калибра (т.е. около 27 мм). При отклонении от нормали этот минимум сокращался, но увеличивалась вероятность рикошета.
В качестве метательного вещества использовался порох марки RPC/38. Он состоял из 69,45 % нитроцеллюлозы, 25,3 % диэтилен-гликоль-динитрата, 5 % централита (дифенил-диэтил-мочевина), 0,15 % оксида магния, 0,1 % графита. Данный состав, выпускавшийся в виде трубок (Rohrpulver — трубчатый порох), отличался высокой устойчивостью к разложению, а также обладал относительно невысокой температурой и скоростью горения, что повышало живучесть стволов и снижало взрывоопасность.
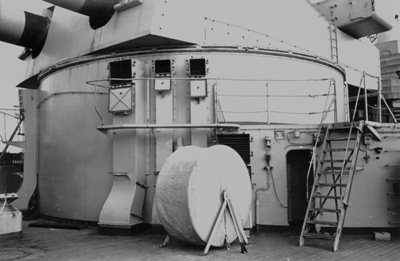 Полный боевой заряд состоял из двух частей: основная содержала 112,5 кг пороха и была заключена в латунную гильзу диаметром 420 мм и массой 70 кг; вспомогательная или передняя имела вес 99,5 кг и помещалась в шелковый картуз. Оба заряда досылались в орудие одним движением прибойника.
Полный боевой заряд состоял из двух частей: основная содержала 112,5 кг пороха и была заключена в латунную гильзу диаметром 420 мм и массой 70 кг; вспомогательная или передняя имела вес 99,5 кг и помещалась в шелковый картуз. Оба заряда досылались в орудие одним движением прибойника.
Линкоры типа "Bismarck" вооружались восемью 380-мм орудиями С/34, установленными в четырех башнях модели Drh LC/34, что означало "вращающаяся башня (Drehscheiben-Lafette) образца 1934 года". Башни также разрабатывались Круппом. На корабле они обозначались по сигнальному коду ВМФ — начиная с носа: "Anton" (Антон), "Вгunо" (Бруно), "Caesar" (Цезарь) и "Dora" (Дора) — и были расположены по классической схеме: две в носу и две в корме, причем "Bruno" и "Caesar" — в возвышенных позициях. Немцы считали такое расположение наиболее предпочтительным, так как оно давало оптимальное число снарядов в залпе — четыре, равный огонь по носу и корме и минимальные мертвые углы обстрела.
 Принципиально башенные установки не отличались по конструкции от общепринятой в других странах схемы. Барбеты башен опирались на броневую палубу, ниже которой были расположены снарядные и зарядные погреба (немцы, в отличие, скажем, от американцев или японцев на "Yamato", никогда не хранили снаряды в барбетах). Высота барбета возвышенных башен выбиралась с учетом максимального угла снижения и возможности вести стрельбу в оконечности через нижнюю башню при углах возвышения, близких к нулю.
Принципиально башенные установки не отличались по конструкции от общепринятой в других странах схемы. Барбеты башен опирались на броневую палубу, ниже которой были расположены снарядные и зарядные погреба (немцы, в отличие, скажем, от американцев или японцев на "Yamato", никогда не хранили снаряды в барбетах). Высота барбета возвышенных башен выбиралась с учетом максимального угла снижения и возможности вести стрельбу в оконечности через нижнюю башню при углах возвышения, близких к нулю.
Внутри башенного "стакана" размещались 6 рабочих уровней: орудийная платформа непосредственно в башне, платформа вращения башни, платформа механизмов и промежуточная платформа и, наконец, зарядные и снарядные погреба. В возвышенных установках "Bruno" и "Caesar" внутри барбетов имелась еще одна промежуточная платформа. В отличие от большинства других стран, в башенных погонах тяжелых установок немцы использовали шариковые, а не роликовые подшипники.
 Ряд башенных механизмов (горизонтальной наводки, вспомогательный вертикальной наводки, вспомогательные элеваторы и некоторые другие резервные механизмы системы подачи) имели электрический привод, но все остальные приводились в движение гидравликой. Для нагнетания давления в гидравлической системе каждая башня оборудовалась двумя электрическими насосами. Рабочее давление системы равнялось приблизительно 70,3 кг/см2. В качестве рабочего тела использовалась смесь из равных долей дистиллированной воды и глицерина с небольшим добавлением касторового масла в качестве смазки. Различные минеральные масла немцы не применяли из-за их пожароопасности. Противооткатный механизм состоял из двух гидравлических цилиндров, гасящих энергию отдачи, и пневматического накатника.
Ряд башенных механизмов (горизонтальной наводки, вспомогательный вертикальной наводки, вспомогательные элеваторы и некоторые другие резервные механизмы системы подачи) имели электрический привод, но все остальные приводились в движение гидравликой. Для нагнетания давления в гидравлической системе каждая башня оборудовалась двумя электрическими насосами. Рабочее давление системы равнялось приблизительно 70,3 кг/см2. В качестве рабочего тела использовалась смесь из равных долей дистиллированной воды и глицерина с небольшим добавлением касторового масла в качестве смазки. Различные минеральные масла немцы не применяли из-за их пожароопасности. Противооткатный механизм состоял из двух гидравлических цилиндров, гасящих энергию отдачи, и пневматического накатника.
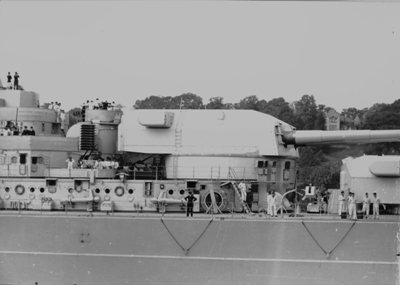 Орудия размещались в индивидуальных люльках, но обычно наводились вместе. Вертикальная наводка осуществлялась при помощи гидравлического поршня, передававшего усилие на секторный подъемный механизм через зубчатый шток и шестерню. Углы возвышения орудий составляли от -5 до +30 град. Максимальный угол возвышения 30° был меньше, чем у любого другого линейного корабля того времен и, но считался достаточным для условий Северного моря. Проектировщики полагали, что для боевых дистанций угол возвышения более 20° вообще не понадобится, но добавляли еще 10° для учета поперечной качки.
Орудия размещались в индивидуальных люльках, но обычно наводились вместе. Вертикальная наводка осуществлялась при помощи гидравлического поршня, передававшего усилие на секторный подъемный механизм через зубчатый шток и шестерню. Углы возвышения орудий составляли от -5 до +30 град. Максимальный угол возвышения 30° был меньше, чем у любого другого линейного корабля того времен и, но считался достаточным для условий Северного моря. Проектировщики полагали, что для боевых дистанций угол возвышения более 20° вообще не понадобится, но добавляли еще 10° для учета поперечной качки.
В главном и вспомогательном механизмах горизонтальной наводки использовались электромоторы с червячной передачей на шестерни, в экстренных случаях мог применяться переносной электромотор с цепным приводом. Углы обстрела всех башен составляли по 145° от диаметральной плоскости на каждый борт.
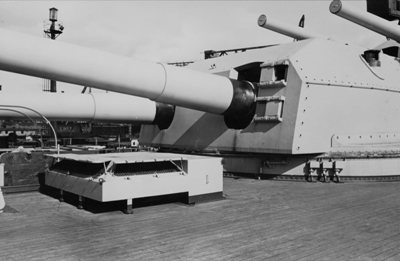 Все башни первоначально оснащались 10-метровыми дальномерами (из носовых башен их впоследствии убрали). Башенные визиры были расположены с внешних сторон от каждого орудия. Электрические вентиляторы для вытяжки дыма и газов устанавливались в задней части башни. На крыше башни были смонтированы два перископа С/6.
Все башни первоначально оснащались 10-метровыми дальномерами (из носовых башен их впоследствии убрали). Башенные визиры были расположены с внешних сторон от каждого орудия. Электрические вентиляторы для вытяжки дыма и газов устанавливались в задней части башни. На крыше башни были смонтированы два перископа С/6.
Как и на большинстве линкоров других стран, у "бисмарков" зарядный погреб находился под снарядным. Для каждого орудия имелись собственные снарядные и зарядные подъемники. Снаряды подавались из подбашенных помещений подъемниками в башню и на специальном перегрузочном лотке разворачивался в зарядное положение, а затем подавался в ствол орудия досылателем цепного типа. Заряды подавались в пространство между орудиями, перегружались в ожидающий лоток, который движением поперек башни передвигался в позицию заряжания. Заряжание производилось при фиксированном угле возвышения 2,5°. Все перемещения осуществлялись гидравлическим приводом, но поскольку в случае сбоя электропитания насосы могли остановиться, имелось аварийное устройство для подачи боезапаса с ручным приводом, требовавшим усилий 10—14 человек, эффективность которого очень сомнительна.
Боекомплект по проекту составлял 108 снарядов на ствол, но затем был постепенно увеличен до 112— 120 снарядов на ствол. Максимальная вместимость погребов — 1004 снаряда (353 бронебойных, 338 фугасных с донным взрывателем, 313 фугасных с головным взрывателем).
Скорострельность каждого 380-мм орудия в установке Drh LC/34 составляла 2,3 выстр./ мин при угле возвышения равном углу заряжания, несколько уменьшалась при больших углах. В официальных документах цикл стрельбы указывается равным 26 с для угла возвышения орудий 4°. Таким образом, вес бортового залпа германского линкора равнялся 6400 кг, а в минуту корабль мог выбросить в среднем 14720 кг смертоносного металла. В то же время, специалисты концерна Круппа считали, что хорошо подготовленный персонал мог производить по выстрелу каждые 20 секунд, что соответствовало скорострельности 3 выстр./мин.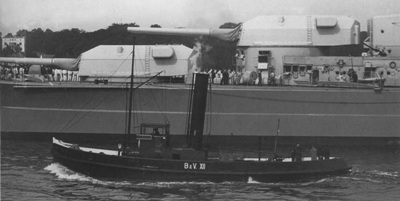
Баллистические характеристики 380-мм орудия SKC/34 |
|
| Вес орудия с затвором, кг. | 111 000 |
| Длина орудия, мм/клб | 19 630 / 51,66 |
| Длина канала ствола, мм/клб | 18 405 / 48,43 |
| Длина нарезной части, мм | 15 982 |
| Длина зарядной каморы, мм | 2 230 |
| Объем зарядной каморы, дм³ | 319 |
| Диаметр орудия в зарядной части, мм | 445,7 |
| Вес снаряда, кг | 800 |
| Вес заряда, кг | 212 |
| Начальная скорость снаряда, м/с | 820 |
| Рабочее давление, кг/см2 | 3200 |
| Максимальная дальность стрельбы, м / при угле возвышения | 35 500 / 30° |
| Количество нарезов | 90 |
| Живучесть ствола, выстр | 180—210 |
Характеристики 380-мм башенной установки Drh LC/34 |
|
| Вес вращающейся части, т | 1064 |
| Диаметр шарикового погона, м | 8,75 |
| Диаметр барбета, м | 10,00 |
| Расстояние между осями стволов, м | 3,75 |
| Величина отката, мм | 1050 |
| Диапазон углов вертикального наведения, град | -5 ...+30 |
| Угол заряжания, град | +2,5 |
| Сектора обстрела башен "А" и "D", град | 290 |
| Сектора обстрела башен "В" и "С", град | 270 |
| Скорость вертикального наведения, град./с | 5,4 |
| Скорость горизонтального наведения, град./с | 6 |
| Дальность стрельбы, м | 35 550 |
| Дальность стрельбы с креном 10° на невыгодный борт, м | 27 200 |
| Цикл стрельбы, с | 26 |
| Промежуток между двумя залпами, сек. на 1 выстр. | 18 |
| Теоретическая скорострельность, выстр/мин. | 3,3 |
| Количество снарядов в башне | от 210 до 240 |
Характеристики снарядов главного калибра |
|
| Бронебойный | вес 800 кг, длина 1672 мм |
| фугасный с донным взрывателем | вес 800 кг, длина 1710 мм |
| фугасный с головным взрывателем | вес 800 кг, длина 1748 мм |
| Вес полного заряда | 212 кг |
| Тип зарядного пороха | RP.C/38 (RP - Rohrpulver) |
 В период разработки проекта линкоров типа "Bismarck" артиллерийское бюро германского флота не считало возможным создать по-настоящему универсальное орудие, пригодное для стрельбы как по надводным, так и по воздушным целям. Немецкие эксперты полагали, что для эффективного отражения массированных атак неприятельских эсминцев необходим калибр не менее 150 мм. Однако из-за большого веса, недостаточной скорострельности, а также отсутствия дистанционных взрывателей и устройств для их быстрой установки такое орудие не годилось для использования против авиации. Исходя из этого, немцы сохранили разделение средней артиллерии на противоминную и зенитную. По составу противоминной батареи новые линкоры повторяли "Scharnhorst", имея по двенадцать 150-мм орудий, только на этот раз все они размешались в спаренных башенных установках.
В период разработки проекта линкоров типа "Bismarck" артиллерийское бюро германского флота не считало возможным создать по-настоящему универсальное орудие, пригодное для стрельбы как по надводным, так и по воздушным целям. Немецкие эксперты полагали, что для эффективного отражения массированных атак неприятельских эсминцев необходим калибр не менее 150 мм. Однако из-за большого веса, недостаточной скорострельности, а также отсутствия дистанционных взрывателей и устройств для их быстрой установки такое орудие не годилось для использования против авиации. Исходя из этого, немцы сохранили разделение средней артиллерии на противоминную и зенитную. По составу противоминной батареи новые линкоры повторяли "Scharnhorst", имея по двенадцать 150-мм орудий, только на этот раз все они размешались в спаренных башенных установках.
150-мм/55 орудие SK С/28 (вообще-то, его реальный калибр равнялся 149,1 мм) было разработано Круппом и состояло из внутренней трубы, кожуха и казенной части с вертикальным клиновым затвором. С казенной части во внутреннюю трубу вставлялся лейнер весом 2680—2710 кг. Нарезка типа "Рейнметалл" — кубическая парабола с шагом 50/30 клб. Орудие имело 2 гидравлических противооткатных цилиндра и пневматический накатник.
Для 150-мм пушек линкоров немцы обычно использовали два типа снарядов: фугасный с донным взрывателем L/4,6 и фугасный с головным взрывателем L/4,5 (с трассером или без). Они имели одинаковый вес 45,3 кг, но различались по наполнению взрывчаткой: в первом ее было 3,058 кг, во втором — 3,892 кг (марки Fp.02). Кроме того, имелся осветительный снаряд весом 41 кг, а в 1944 г. на"Tirpitz" появились фугасные снаряды с дистанционной рубкой для заградительной стрельбы по самолетам, но данных о них не сохранилось. 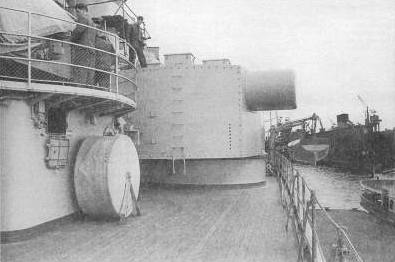 Существовал и бронебойный снаряд для данного орудия, но на линкорах его не применяли. Заряд — 14,15 кг пороха RPC/32 — помещался в латунную гильзу длиной 865 мм и весом 9,35 кг. Боезапас по проекту — 105 снарядов на орудие; реально, как правило, суммарно принималось 1288 фугасных (622 с донным и 666 с головным взрывателем) и некоторое количество осветительных; максимальная вместимость погребов — 1800 снарядов.
Существовал и бронебойный снаряд для данного орудия, но на линкорах его не применяли. Заряд — 14,15 кг пороха RPC/32 — помещался в латунную гильзу длиной 865 мм и весом 9,35 кг. Боезапас по проекту — 105 снарядов на орудие; реально, как правило, суммарно принималось 1288 фугасных (622 с донным и 666 с головным взрывателем) и некоторое количество осветительных; максимальная вместимость погребов — 1800 снарядов.
Характеристики снарядов среднего калибра |
|
| Бронебойный | вес 45 кг, длина 550 мм. |
| Фугасный с донным взрывателем | вес 45,3 кг, длина 578,5 мм. |
| Фугасный с головным взрывателем | вес 45,3 кг, длина 655 мм. |
| Вес полного заряда | вес 23,5 кг, длина 655 мм |
| Тип зарядного пороха | RP.C/32 (RP - Rohrpulver) |
Характеристики орудий среднего калибра 15-cm.SK.C/28 |
|
| Общий вес орудия с затвором | 9025-9080 кг |
| Длина орудия | L/55 8200 мм. |
| Длина канала ствола | L/52,42 7816 мм. |
| Длина нарезной части ствола | 6588 мм |
| Количество нарезов (размер) | 44 (1,75x6,14 мм) |
| Длина зарядной каморы | 1152 мм |
| Объем зарядной каморы | 21,7 дм³ |
| Начальная скорость снаряда | 875 м/сек. |
| Рабочее давление | 3000 кг/см2 |
| Дальность стрельбы при +40 град. | 23 500 м |
| Живучесть ствола | ок.1100 выстр. |
| Скорострельность теоретическая | 8 выстр./мин. |
| Скорострельность практическая | 6 выстр./мин. |
Характеристики башенных установок среднего калибра С/34 |
|
| Вес установок I | 150,3 тонн |
| Вес установок II | 131,6 тонн |
| Вес установок III | 97,7 тонн |
| Внутренний диаметр барбета | 4,80 м. |
| Внутренний диаметр роликового погона | 3,83 м. |
| Диапазон углов вертикального наведения, град | -10 ...+40 |
| Скорость горизонтальной наводки | 9 град/сек. |
| Скорость вертикальной наводки | 8 град/сек. |
| Сектора обстрела башен I | 135 град. |
| Сектора обстрела башен II и III | 150 град. |
| Количество снарядов в башне | 300 |
| Вес боевого залпа | 271,8 кг. |
| Цикл стрельбы, с | 7,5 |
| Величина отката, мм | 370 |
| Теоретическая скорострельность | 6 выстр/мин. |
 Башни Drh LC/34 производства концерна "Рейнметалл-Борзинг" представляли собой слегка модифицированный вариант аналогичных установок "Scharnhorst". Их размещение выбиралось с учетом опыта Первой мировой войны: по три с каждого борта, причем носовые были максимально прижаты к надстройке, обеспечивая средним возможность стрельбы почти строго по курсу. Обозначение башен велось с носа в корму отдельно для каждого борта: левые — BI, ВII, BIII, правые — SI, SII. SIII. Башни I весили 110 т, II — 116,25 т и III - 108 т. Барбеты башен I доходили до верхней платформы, проемы между вращающейся частью и броневой палубой закрывались кожаным фартуком, других башен — только до броневой палубы.
Башни Drh LC/34 производства концерна "Рейнметалл-Борзинг" представляли собой слегка модифицированный вариант аналогичных установок "Scharnhorst". Их размещение выбиралось с учетом опыта Первой мировой войны: по три с каждого борта, причем носовые были максимально прижаты к надстройке, обеспечивая средним возможность стрельбы почти строго по курсу. Обозначение башен велось с носа в корму отдельно для каждого борта: левые — BI, ВII, BIII, правые — SI, SII. SIII. Башни I весили 110 т, II — 116,25 т и III - 108 т. Барбеты башен I доходили до верхней платформы, проемы между вращающейся частью и броневой палубой закрывались кожаным фартуком, других башен — только до броневой палубы.
Башни I имели 5 рабочих уровней, из которых орудийная платформа размещалась внутри башни. Внутри барбета находились платформа вращения башни, платформа механизмов и промежуточная платформа, а под броневой палубой — перегрузочная платформа для снарядов и зарядов. Башни II и III не имели промежуточной платформы, а перегрузочная платформа находилась внутри барбета. Орудия заряжались вручную. Гильзы после выстрела выбрасывались под башню. Основной и вспомогательный моторы вращения башни были электрическими, механизмы вертикальной наводки — гидравлические с возможностью ручного привода. Характерной особенностью установки было наличие единого досылателя для обоих стволов.
Средние башни оснащались 6,5-м дальномерами, остальные снабжались перископом С/4 с возможностью поворота на 90° относительно оси орудий. Диапазон углов горизонтальной наводки для носовых башен составлял 135°, для остальных — 150—158°; вертикальной— от-10 до+40°.
На корме между башнями "Caesar" и "Dora" было установлено два тренировочных станка 150-мм и 105-мм орудий, предназначенных для тренировки прислуги в навыках заряжания и разряжения.
 Зенитная артиллерия дальнего действия
Зенитная артиллерия дальнего действия
 Во второй половине 1930-х гг. стандартной крупнокалиберной зениткой германских тяжелых кораблей было 105-мм/65 орудие SK С/33. Оно имело лейнерную конструкцию с вертикальным клиновым затвором и сообщало 15,1-кг снаряду (в унитарном снаряжении весом 27,35 кг) начальную скорость 900 м/с. Максимальная дальность стрельбы достигала 17 700 м, досягаемость по высоте — 12 500 м.
Во второй половине 1930-х гг. стандартной крупнокалиберной зениткой германских тяжелых кораблей было 105-мм/65 орудие SK С/33. Оно имело лейнерную конструкцию с вертикальным клиновым затвором и сообщало 15,1-кг снаряду (в унитарном снаряжении весом 27,35 кг) начальную скорость 900 м/с. Максимальная дальность стрельбы достигала 17 700 м, досягаемость по высоте — 12 500 м.
Восемь спаренных установок размещались первом ярусе надстройки, по четыре с каждого борта и обозначались аналогично 150-мм башням (BI — BIV полевому борту и SI — SIV по правому). Расположение их на кораблях несколько различалось: после гибели "Bismarck" две 105-мм установки, размещенные прямо перед катапультой, на "Tirpitz" были выдвинуты на 3 м ближе к корме и на 5 м к борту. Сами установки были различных моделей, на головном "Bismarck" на четырех носовых позициях стояли установки Dop. LC/31, изначально спроектированные под 88-мм орудия, их установили в июне — июле 1940 г., когда корабль еще находился на верфи "Блом унд Фосс" в Гамбурге. Во время стоянки линкора Готенхафене 4—18 ноября 1940 г. на нем смонтировали четыре оставшихся установки, они были новой модели Dop. LC/37, специально спроектированной под 105-мм орудия, а на "Tirpitz" все зенитки изначально были новой модели.
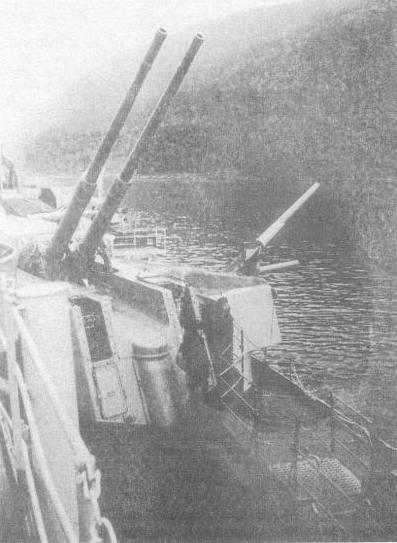 Обе установки имели стабилизацию в трех плоскостях, контролируемую дистанционно также стабилизированными в трех плоскостях директорами. Синхронизация установок с директором осуществлялась при помощи электрического привода Питтлер-Тома с возможностью ручного наведения, механизмы вертикальной наводки были электрическими с возможностью осуществлять эту операцию вручную. Допускалось качание лафета в плоскости, перпендикулярной осям орудий, на 17° в каждую сторону. Заряжание — ручное, но для больших углов возвышения имелся также электрический механизм заряжания. Для подачи боеприпасов имелись центральные элеваторы, от которых снаряды носились вручную. Установка взрывателя осуществлялось устройством на казенной части орудия. Автоматической установки снаряды не имели.
Обе установки имели стабилизацию в трех плоскостях, контролируемую дистанционно также стабилизированными в трех плоскостях директорами. Синхронизация установок с директором осуществлялась при помощи электрического привода Питтлер-Тома с возможностью ручного наведения, механизмы вертикальной наводки были электрическими с возможностью осуществлять эту операцию вручную. Допускалось качание лафета в плоскости, перпендикулярной осям орудий, на 17° в каждую сторону. Заряжание — ручное, но для больших углов возвышения имелся также электрический механизм заряжания. Для подачи боеприпасов имелись центральные элеваторы, от которых снаряды носились вручную. Установка взрывателя осуществлялось устройством на казенной части орудия. Автоматической установки снаряды не имели.
Установки прикрывались противоосколочным щитом из стали Wh (15 мм спереди, 10 мм с боков, 8 мм сверху), но оставались открытыми сверху и сзади, поэтому прислуга была уязвима от осколков и пуль. Конструктивной слабостью установок было недостаточное внимание к водоизоляции электрических механизмов, что могло привести к короткому замыканию. Основное отличие LC/37 заключалось в размещении обоих орудий в единой люльке, что существенно упрощало конструкцию и повышало ее надежность, и применении более быстрых механизмов наведения, соответствующих возросшим скоростям самолетов. Установка была несколько легче, а внешне незначительно отличалась формой броневого щита.
Боезапас 105-мм орудий — 6720 снарядов или по 420 на ствол.
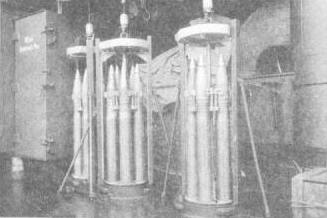 По проекту противовоздушную оборону вблизи корабля обеспечивали шестнадцать 37-мм пушек С/30 и двенадцать 20-мм автоматов С/30 или С/38. Все они производились концерном "Рейнметалл-Борзинг".
По проекту противовоздушную оборону вблизи корабля обеспечивали шестнадцать 37-мм пушек С/30 и двенадцать 20-мм автоматов С/30 или С/38. Все они производились концерном "Рейнметалл-Борзинг".
37-мм зенитная пушка С/30 была полуавтоматической, из-за чего практическая скорострельность не превышала 40 выстр./мин, но обладала высокими баллистическими характеристиками. Орудие имело цельный ствол, вертикально-скользящий клиновой затвор, гидравлический противооткатный механизм и пружинный накатник. На линкорах оно монтировалось в спаренных установках Dop. LC/30, обеспечивающих вертикальное наведение в пределах -9...+85°. Их важнейшей особенностью была стабилизация в трех плоскостях при помощи гироскопов. Масса установки составляла 3670 кг, из которых 630 кг приходилось на силовой привод. Немцы стали пионерами в создании полностью стабилизированных зенитных установок, однако последние страдали от "детских болезней". Маломощные гироскопы не всегда успевали компенсировать быстрые рывки корабля, а воздействие воды на открытые установки приводило к многочисленным замыканиям электрических цепей.
Размещались орудия следующим образом: две установки на нижней надстроечной палубе, сразу за башнями "В" и "С" главного калибра. Еще две установки - в районе носового 7-метрового дальномера, несколько ниже капитанского мостика. Последние четыре были установлены на кормовой надстройке в районе кормовой боевой рубки.
20-мм автоматами С/30 в годы войны вооружались практически все корабли Кригсмарине. По сравнению со знаменитым "Эрликоном", немецкий "Рейнметалл" обладал большими массой снаряда, дальностью стрельбы и досягаемостью по высоте, но существенно уступал в скорострельности. Последняя на практике ограничивалась 120 выстрелами в минуту из-за неудачной конструкции затвора и малой емкости магазина (20 патронов), что заставляло делать частые паузы в стрельбе для перезарядки. Поистине феноменальной была живучесть ствола, превышавшая 20 тыс. выстрелов! Впоследствии была разработана облегченная (56 кг) и улучшенная модель С/38, магазин которой вмешал 40 патронов, а практическую скорострельность удалось довести до 220 выстр./мин.
Оба автомата монтировались в одинарных установках L/30, имевших коническое основание, к которому крепилась телескопическая труба, позволявшая регулировать высоту подъема ствола. Масса установки — 420 кг, расчет — 4—6 человек. Установки имели гнезда для пяти магазинов и специальную сетку для отлова стреляных гильз.
"Bismarck" имел стандартное для немецкого флота зенитное вооружение в 12 одноствольных зенитных пулеметов MG.C/30 калибром 20 мм с длиной ствола 65 калибров. Размещались пулеметы на палубе, надстройках и специальной платформе вокруг дымовой трубы. В походном положении они закрывались брезентовыми чехлами. В конце апреля 1941 года, во время пребывания линкора в Данциге на нем были дополнительно установлены четырехствольные 20-мм зенитные автоматы MG.C/38. Новые зенитки были смонтированы непосредственно на крыше кормовой боевой рубки. Такие же установки были смонтированы на прожекторной платформе вокруг дымовой трубы и по обеим сторонам мостика вместо снятых 20-мм установок L.C/30.
Наиболее удачной 20-мм установкой стала L/38, называемая обычно "Flak-Vierling", разработанная фирмой "Маузер" в 1941 г. и объединявшая четыре автомата С/38. При общем весе 2150 кг (в том числе 96,6 кг весили прицелы и привод вращения, 31,5 кг электросиловой привод) "фирлинг" развивал практическую скорострельность до 880 выстр./мин и наводился в пределах -10...+90" по вертикали. На ближней дистанции это было чрезвычайно эффективное оружие.
Боекомплект для зенитных автоматов по штатам германского флота состоял из 2000 выстрелов на ствол. Именно эта цифра была заложена в проект линкоров "F" и "G". На практике число принимаемых 37-мм патронов достигало 34 100. Суммарный запас 20-мм снарядов на "Tirpitz" к концу 1941 г. был увеличен до 54000, а к 1944 г. — до 90 000 (по некоторым данным — даже до 117 000).
| Характеристики артиллерийских установок зенитного калибра | ||
| Тип установки | С/31 | С/37 |
| Вес орудия с лафетом | 6130 кг | 5270 кг |
| Вес установки | 27350 кг | 26425 кг |
| Максимальный угол возвышения | + 80 град. | + 80 град. |
| Максимальный угол снижения | - 8 град. | - 10 град. |
| Скорость гориз. наводки (электрич.) | 8 град/сек. | 8,5 град/сек. |
| Скорость гориз. наводки (ручной) | 1,5 град/сек. | 1,5 град/сек. |
| Скорость вертикальной наводки | 1,33 град/сек. | 1,76 град/сек. |
| Количество снарядов в башне | 6720 | 6720 |
| Теоретическая скорострельность | 15 выстр/мин. | 15 выстр/мин. |
Характеристики зенитной артиллерии |
|||
| 10,5см SK С/33 | 3,7cm SK С/30 | 2cm MG С/30 | |
| Калибр, мм / длина ствола в клб | 105/65 | 37/83 | 20/65 |
| Вес орудия с затвором, кг | 4560 | 243 | 64 |
| Вес установки, кг | 26 425 - 27 350 | 3670 | 420/2150* Для 4-х ствольной |
| Длина орудия, мм | 6840 | 3074 | 2253 |
| Длина канала ствола, мм | 6348 | 2960 | 1300 |
| Число нарезов | 36 | 16 | со |
| Скорострельность (практ.), выстр./мин | 15—18 | 30 | 120 |
| Вес унитарного выстрела, кг | 27,35 | 2,1 | 0,32 |
| Длина унитарного выстрела, мм | 1163 | 516 | 320 |
| Вес снаряда, кг | 15,1 | 0,742 | 0,134 |
| Длина снаряда, мм | 459 | 162 | 78,5 |
| Вес ВВ, кг | 0,365 | 39,5 г | |
| Тип ВВ | Fp.02 | Fp.02 | Fp.02 |
| Взрыватель | дистанц. S/30 | головной С/30, С/34 | головной С/30 |
| Вес метательного заряда, кг | 6,05 | 0,365 | 0,12 |
| Тип пороха | RPC/40N | RPC/32 | RPC/32 |
| Начальная скорость снаряда, м/с | 900 | 1000 | 835 |
| Дальность стрельбы, м | 17 700/45° | 8500/45° | 4900 / 45° |
| Досягаемость по высоте, м | 12 500/80° | 6800 / 85° | 3700 / 85° |
| Живучесть ствола, выстр. | 4100 (по др. данн. ок.2950) | 7500 | 20 000 |
Первоначальным проектом торпедное вооружение не предусматривалось, однако в конце марта 1941 г., после атлантических рейдов "Admiral Hipper", "Scharnhorst" и "Gneisenau", командующий флотом адмирал Лютьенс предложил установить на всех линкорах палубные торпедные аппараты. По его мнению, их применение для уничтожения торговых судов было более эффективно, чем артиллерия. Установить торпедное вооружение на "Bismarck" перед его выходом в последний поход так и не успели, но "Tirpitz" в сентябре 1941 г. получил два четырехтрубных аппарата, которые, по некоторым сведениям, были сняты с потопленных под Нарвиком эсминцев. Их смонтировали между катапультами и кормовыми 150-мм башнями. Дополнительные торпеды хранились на палубных стеллажах перед аппаратами, а боевые части — в погребах под броневой палубой (всего корабль принимал 24 торпеды типа G7a). Никакой системы управления торпедной стрельбой не предусматривалось.
Наличие бортовых самолетов в межвоенный период являлось непременным атрибутом тяжелых надводных кораблей. Гидросамолеты использовались для ближней разведки и корректировки артиллерийского огня. Для германских линкоров, рассчитанных на индивидуальные (рейдерскйе) действия в океане, этот элемент вооружения был особенно важен.
К началу Второй мировой войны стандартным бортовым гидросамолетом германского флота являлся "Arado" Аr-196 — одномоторный двухпоплавковый моноплан.
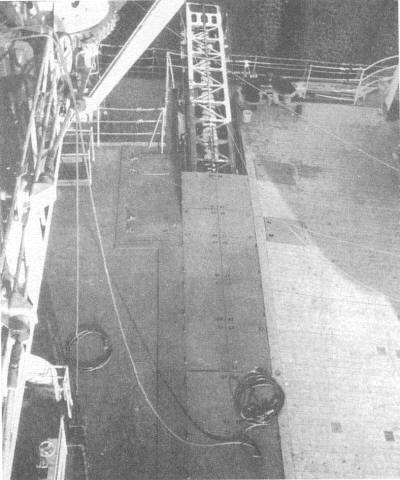 Эта машина, разработанная и строившаяся фирмой "Arado Flugzeugwerke GmbH" в Варнемюнде с полным правом может считаться одной из лучших в своем классе. "Arado" был способен вести разведку в течение 4 часов, нес две 50-кг бомбы, а благодаря относительно высокой скорости и мощному вооружению (две 20-мм пушки и три 7,9-мм пулемета) использовался даже в качестве истребителя. Разумеется, бороться с современными скоростными бомбардировщиками он не мог, но против архаичных бипланов "Суордфиш" или "Альбакор", являвшихся на протяжении первой половины войны основными ударными самолетами британской палубной авиации, был весьма эффективен.
Эта машина, разработанная и строившаяся фирмой "Arado Flugzeugwerke GmbH" в Варнемюнде с полным правом может считаться одной из лучших в своем классе. "Arado" был способен вести разведку в течение 4 часов, нес две 50-кг бомбы, а благодаря относительно высокой скорости и мощному вооружению (две 20-мм пушки и три 7,9-мм пулемета) использовался даже в качестве истребителя. Разумеется, бороться с современными скоростными бомбардировщиками он не мог, но против архаичных бипланов "Суордфиш" или "Альбакор", являвшихся на протяжении первой половины войны основными ударными самолетами британской палубной авиации, был весьма эффективен.
Почти все корабельные гидросамолеты принадлежали 1-й эскадрилье 196-й бортовой авиагруппы (1./BFlGr (Bordfliegergruppe) 196), лишь с июня 1944 "Tirpitz" обслуживала 2-я эскадрилья этой же авиагруппы (2./BFlGr 196). Самолеты были погружены на корабль в сентябре 1940 года в Киле. Известно, как отрицательно Геринг воспринял выделение морской авиации, поэтому летный состав и обслуживающий персонал на кораблях носили общеавиационное обмундирование и имели туже субординацию.
Первоначально линкоры типа "Bismarck" планировалось оснастить двумя поворотными катапультами фирмы "Heinkel", но в окончательном проекте они получили две поперечных катапульты производства кильской "Дойче Верке". (В литературе эти катапульты часто называют одной двойной противонаправленной, что в принципе неверно. Катапульты работали совершенно независимо, общими у них были лишь некоторые вспомогательные механизмы.) Они располагались позади дымовой трубы и были противонаправлены по линии траверза корабля, стыкуясь друг с другом стартовыми торцами. Основания катапульт крепились тавровыми балками к надстройке. 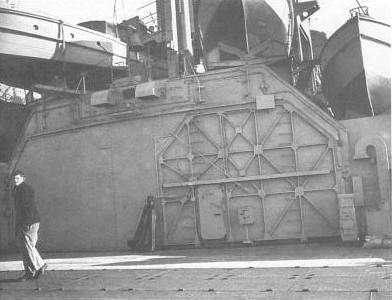 По краям они усиливались бракетными конструкциями круглой формы диаметром 150 и 100 мм. На общем фундаменте устанавливались две разгонных дорожки длиной по 14,6 м и шириной 1 м. Общая длина жестко закрепленного участка составляла 32 м, но каждая катапульта могла телескопически раздвигаться еще на 16 м в сторону. Пусковая тележка катапульты получала ускорение с помощью сжатого воздуха высокого давления. Был возможен одновременный запуск двух самолетов вне зависимости от направления ветра.
По краям они усиливались бракетными конструкциями круглой формы диаметром 150 и 100 мм. На общем фундаменте устанавливались две разгонных дорожки длиной по 14,6 м и шириной 1 м. Общая длина жестко закрепленного участка составляла 32 м, но каждая катапульта могла телескопически раздвигаться еще на 16 м в сторону. Пусковая тележка катапульты получала ускорение с помощью сжатого воздуха высокого давления. Был возможен одновременный запуск двух самолетов вне зависимости от направления ветра.
Линкоры имели по три авиационных ангара. Ангар №1 на два самолета находился под грот-мачтой и имел форму трапеции длиной 12,8 м, шириной 9,6 м, высотой 6—6,2 м и общей площадью 120 м2. Он делился на две половины грот-мачтой (диаметр 70 см), которая очень затрудняла введение самолетов. Между грот-мачтой и воротами ангара помещался стол для складывания парашютов и полка для их хранения. Слегка выпуклые ворота состояли из двух створок: правой внутренней и левой наружной. При необходимости эти створки совмещались, заходя одна за другую и открывая проход в любую половину ангара. При вводе самолета его сначала ставили носом к ангару, затем разворачивали под углом 10—15° к диаметральной плоскости корабля и в таком положении завозили на тележке внутрь ангара.
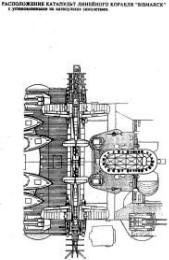
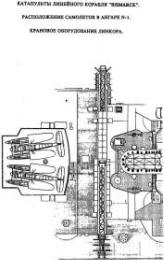
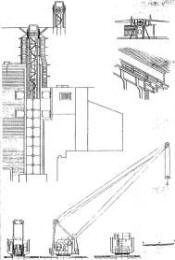 Ангары №2 и №3 располагались на корабле слева и справа от дымовой трубы и использовались для предполетной подготовки гидросамолетов. Их площадь составляла 60 м2, что позволяло разместить в них по одному самолету со сложенными крыльями. Уже в процессе постройки кораблей крыши ангаров были усилены специальными брусьями для размещения наверху корабельных шлюпок.
Ангары №2 и №3 располагались на корабле слева и справа от дымовой трубы и использовались для предполетной подготовки гидросамолетов. Их площадь составляла 60 м2, что позволяло разместить в них по одному самолету со сложенными крыльями. Уже в процессе постройки кораблей крыши ангаров были усилены специальными брусьями для размещения наверху корабельных шлюпок.
Рельсовые пути обеспечивали перемещение самолетов от ангаров к катапульте, а с помощью кранов, установленных побортно в районе дымовой трубы самолеты перемещались на пусковую тележку катапульты. Эти же краны использовались для спуска-подъема шлюпок и катеров.
Первоначально предполагалось базирование на линкорах шести гидросамолетов — двух в ангаре №1, по одному в ангарах №2 и №3 и по одному на каждой катапульте. Теоретически это было возможно, но на практике из-за трудностей, связанных с подготовкой к старту, корабли никогда не несли больше 4 машин. Бомбы и патроны для самолетов, а также 34 т авиационного топлива и антифриза хранились в погребе под нижней палубой.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 Как и большинство немецких кораблей, "Bismarck" и "Tirpitz" имели развитые средства для постановки дымовых завес. Химические дымогенераторы (Nebelkannen) располагались на батарейной палубе в выгородке у самого ахтерштевня. Они представляли собой большие канистры с хлорсульфоновой кислотой, выпускавшейся под давлением сжатым воздухом через люки в верхней палубе рядом с флагштоком или два отверстия у ахтерштевня. Время работы одной канистры составляло 20 минут. Хотя появление эффективных радаров обесценило дымоаппаратуру. она сохранялась до конца войны.
Как и большинство немецких кораблей, "Bismarck" и "Tirpitz" имели развитые средства для постановки дымовых завес. Химические дымогенераторы (Nebelkannen) располагались на батарейной палубе в выгородке у самого ахтерштевня. Они представляли собой большие канистры с хлорсульфоновой кислотой, выпускавшейся под давлением сжатым воздухом через люки в верхней палубе рядом с флагштоком или два отверстия у ахтерштевня. Время работы одной канистры составляло 20 минут. Хотя появление эффективных радаров обесценило дымоаппаратуру. она сохранялась до конца войны.
Для зашиты от мин и торпед с магнитным взрывателем корабли имели систему размагничивания MES (Magnetischer Eigenschutz — автономная антимагнитная защита), представляющую собой кабель, опоясывающий корпус под нижним краем броневого пояса.
На кораблях имелось по 8 параванов-охранителей.
Для управления огнем главного и среднего калибров служила система образца 1935 г., аналогичная устанавливавшейся на линкорах типа "Scharnhorst" и тяжелых крейсерах типа "Admiral Hipper". В ее состав входили три командно-дальномерных поста (КДП) управления огнем по надводным целям, носовой и кормовой вычислительные посты и башенные дальномеры. Первый КДП занимал заднюю половину боевой рубки на уровне ходового мостика, второй размещался на передней баш неподобной надстройке, третий — на кормовой боевой рубке. Основным являлся пост на башенноподобной надстройке — он был самым высокорасположенным (31 м над уровнем моря), и в нем по боевому расписанию находился старший артиллерийский офицер. Передний пост оснащался стереоскопическим дальномером с базой 7 м, остальные — 10,5-м дальномерами.
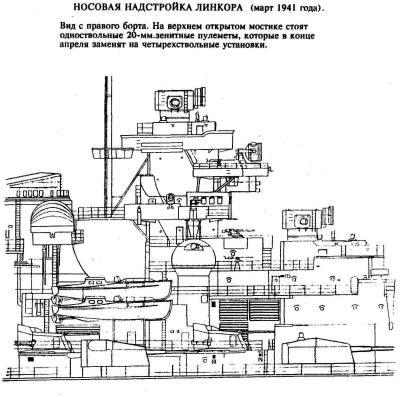 Все посты стабилизировались в трех плоскостях (на "Scharnhorst" и "Gneisenau" — только в двух) при помощи гироскопов, возникающие рассогласования компенсировались вертикальным и горизонтальным наводчиками. Каждый из двух носовых постов оснащался тремя визирами центральной наводки ZG (Zielgerat) C/38S с перископами под колпаками на бронированных крышах. Один визир размешался в диаметральной плоскости, два других — по правому и левому борту. Задний пост был оснащен только двумя визирами, расположенными побортно. Сектор обзора оптических приборов был совсем небольшим — не более 15°.
Все посты стабилизировались в трех плоскостях (на "Scharnhorst" и "Gneisenau" — только в двух) при помощи гироскопов, возникающие рассогласования компенсировались вертикальным и горизонтальным наводчиками. Каждый из двух носовых постов оснащался тремя визирами центральной наводки ZG (Zielgerat) C/38S с перископами под колпаками на бронированных крышах. Один визир размешался в диаметральной плоскости, два других — по правому и левому борту. Задний пост был оснащен только двумя визирами, расположенными побортно. Сектор обзора оптических приборов был совсем небольшим — не более 15°.
Данные о дистанции (вычислялись средние поданным всех дальномеров или брались показания радара), направлении на цель и ее курсовом угле сообщались на главный вычислительный пост, размещенный на средней платформе под броневой палубой в отсеке XV.
Аналогичный пост сзади в отсеке VII служил резервным и имел то же оборудование, за исключением вычислителя для стрельбы по береговым целям. Приборы носового поста позволяли производить расчеты отдельно для нижнего и верхнего КДП. что при желании позволяло вести раздельный огонь по разным целям. Оборудование постов включало все необходимые вычислители для управления стрельбой как главного калибра, так и средней артиллерии. Геометрический вычислитель выдавал дистанцию, курс и скорость цели. 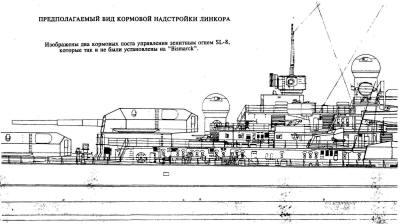 Баллистический вычислитель использовал эти данные плюс дистанцию и курс своего корабля, износ стволов, ветер и т.д. для определения углов наведения и возвышения орудий. Далее вносились поправки на продольную и поперечную качку корабля. Вертикальная наводка орудий могла быть подключена к системе дистанционного управления, связанной с СУАО. В смежных с вычислительными постами помещениях находились распределительные щиты, усилители и другое оборудование управления огнем. Для корректировки данных по стрельбе с учетом качки имелись два помещения с гироскопами: переднее размещалось по левому борту на нижней платформе в отсеке XV, заднее — по правому борту на средней платформе в отсеке VIII.
Баллистический вычислитель использовал эти данные плюс дистанцию и курс своего корабля, износ стволов, ветер и т.д. для определения углов наведения и возвышения орудий. Далее вносились поправки на продольную и поперечную качку корабля. Вертикальная наводка орудий могла быть подключена к системе дистанционного управления, связанной с СУАО. В смежных с вычислительными постами помещениях находились распределительные щиты, усилители и другое оборудование управления огнем. Для корректировки данных по стрельбе с учетом качки имелись два помещения с гироскопами: переднее размещалось по левому борту на нижней платформе в отсеке XV, заднее — по правому борту на средней платформе в отсеке VIII.
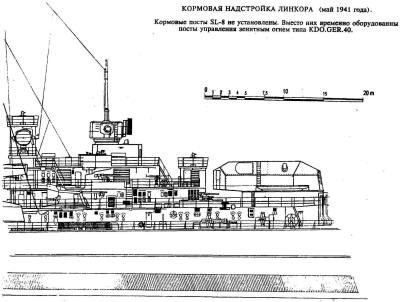 Башни главного калибра оснащались собственными 10,5-метровыми дальномерами. Первоначально их имели все башни, но в ходе испытаний "Bismarck" было выявлено, что линзы дальномера башни "Anton" на высокой скорости постоянно заливаются брызгами, делая его неработоспособным. К аналогичному выводу пришли во время атлантического рейда "Scharnhorst" и "Gneisenau". В результате, в декабре 1940 —январе 1941 г., во время нахождения "Bismarck" в Гамбурге, дальномер из башни "Anton" демонтировали, а отверстия с обеих сторон башни заделали броневыми плитами. На "Tirpitz" аналогичные работы провели еще до вступления корабля в строй.
Башни главного калибра оснащались собственными 10,5-метровыми дальномерами. Первоначально их имели все башни, но в ходе испытаний "Bismarck" было выявлено, что линзы дальномера башни "Anton" на высокой скорости постоянно заливаются брызгами, делая его неработоспособным. К аналогичному выводу пришли во время атлантического рейда "Scharnhorst" и "Gneisenau". В результате, в декабре 1940 —январе 1941 г., во время нахождения "Bismarck" в Гамбурге, дальномер из башни "Anton" демонтировали, а отверстия с обеих сторон башни заделали броневыми плитами. На "Tirpitz" аналогичные работы провели еще до вступления корабля в строй.
Средние 150-мм башни также оснащались собственными 6,5-м дальномерами и при необходимости могли управлять огнем противоминной батареи "своего" борта, правда, эффективность такого управления оказывалась весьма низкой.
 Система управления зенитным огнем была усовершенствована по сравнению с предыдущими "капитальными" кораблями. Главный пост управления размещался на верхней площадке башенноподобной надстройки. Его задача заключалась, прежде всего, в обнаружении и распределении воздушных целей. На нем были установлены 4 прибора слежения за целью (Zeilanweisergerate или ZAG). В них применялись стереоскопы типа R.40, позволяющие определить положение каждого самолета относительно корабля.
Система управления зенитным огнем была усовершенствована по сравнению с предыдущими "капитальными" кораблями. Главный пост управления размещался на верхней площадке башенноподобной надстройки. Его задача заключалась, прежде всего, в обнаружении и распределении воздушных целей. На нем были установлены 4 прибора слежения за целью (Zeilanweisergerate или ZAG). В них применялись стереоскопы типа R.40, позволяющие определить положение каждого самолета относительно корабля.
105-мм орудия крупного калибра управлялись из постов типа SL-8, располагавшихся в характерных сферических колпаках, защищенных 14-мм броней и оснащенных 4-метровыми ночными стереоскопическими дальномерами. Благодаря своему внешнему виду и наличию стабилизации в трех плоскостях эти посты получили среди моряков прозвище "качающиеся горшки" (Wackeltopf). По проекту линкоры оснащались четырьмя постами SL-8, которые располагались справа и слева от основания башенноподобной надстройки, за грот-мачтой и перед башней "Caesar" и обозначались А, В, С и D соответственно. Каждый пост весил более 40 т.
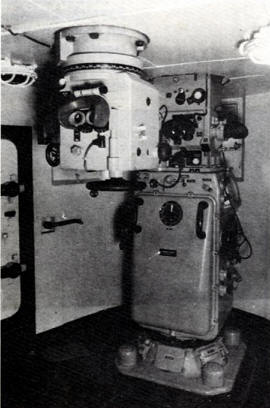 Основной пост управления зенитным огнем размещался под броневой палубой на верхней платформе в отсеке XV почти по диаметральной плоскости. В смежных помещениях находились радиорубка "В" и распределительные щиты ПВО. В корму от него, за водонепроницаемой переборкой, располагался главный командный пост. Резервный пост был расположен на средней платформе в отсеке IX.
Основной пост управления зенитным огнем размещался под броневой палубой на верхней платформе в отсеке XV почти по диаметральной плоскости. В смежных помещениях находились радиорубка "В" и распределительные щиты ПВО. В корму от него, за водонепроницаемой переборкой, располагался главный командный пост. Резервный пост был расположен на средней платформе в отсеке IX.
Для управления огнем в ночном бою имелось два поста (один на носу, другой на корме) с двумя визирными колонками (Zeilsaule) С/38 для стрельбы осветительными снарядами. Два 3-м ночных дальномера были установлены на крыльях адмиральского мостика, уровнем выше носовых зенитных КДП. Они же могли использоваться как резервные посты управления зенитным огнем.
Централизованного управления огнем зенитной артиллерии малого калибра германские корабли не имели — немцы считали более важным одновременно обстреливать как можно больше целей. Для 37-мм орудий предназначались восемь ручных дальномеров с базой 1,25 м. Данные о цели передавались командирам орудий голосом.
Все дальномеры были изготовлены фирмой "Саг1 Zeis Jena". Командно-дальномерные посты поставляла берлинская фирма "Kreiselgerate GmbH". Однако работы по их изготовлению для "Bismarck" пришлось прервать в связи со срочной поставкой комплекта приборов управления огнем для передаваемого Советскому Союзу тяжелого крейсера "Lützow" и недостатком персонала соответствующей квалификации. Только в середине 1940 г. фирма смогла вернуться к работам на линкоре, но так и не смогла уложиться в срок и посты с 10,5-метровыми дальномерами были смонтированы только в конце ноября, когда корабль находился уже в Данциге, а носовой пост с 7-метровым дальномером был установлен еще позже — в марте 1941 г.
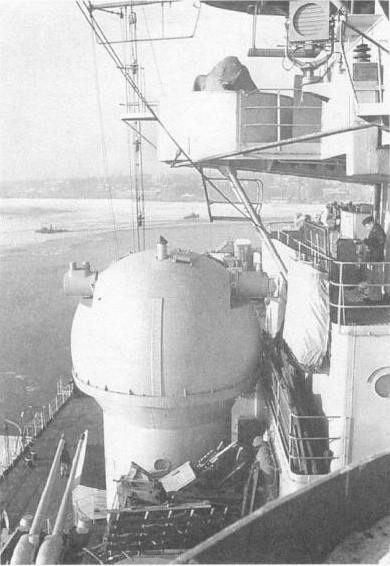 Еще хуже обстояло дело с поставками стабилизированных ПУАЗО. Перед выходом на операцию "Рейнюбунг" полного комплекта этих приборов не получил ни один из кораблей: на "Bismarck" отсутствовали кормовые, на "Prinz Eugen" — носовые посты. Чтобы хотя бы частично компенсировать отсутствие систем управления зенитным огнем, на "Bismarck" установили два сухопутных поста аналогичного назначения Kdo.Ger.40 фирмы "Цейе", но они не имели трехкоординатной стабилизации и не защищались даже противоосколочной броней.
Еще хуже обстояло дело с поставками стабилизированных ПУАЗО. Перед выходом на операцию "Рейнюбунг" полного комплекта этих приборов не получил ни один из кораблей: на "Bismarck" отсутствовали кормовые, на "Prinz Eugen" — носовые посты. Чтобы хотя бы частично компенсировать отсутствие систем управления зенитным огнем, на "Bismarck" установили два сухопутных поста аналогичного назначения Kdo.Ger.40 фирмы "Цейе", но они не имели трехкоординатной стабилизации и не защищались даже противоосколочной броней.
Весной 1941 г. на "Bismarck" смонтировали экспериментальную радиолокационную установку FuMO 21, антенна которой представляла собой три двойных изогнутых диполя, установленных ниже прожекторной площадки на башенноподобной надстройке. На ней отрабатывалась возможность применения новых радиолокационных антенн для обнаружения воздушных целей без существенных переделок уже существующих станций. Однако короткая жизнь корабля не позволила довести эксперименты до хоть сколько-нибудь существенного результата.
"Tirpitz" при вступлении в строй также нес три FuMO 23, но приблизительно в январе 1942 г. на верхнем КДП установили дополнительную башенку, к передней части которой крепилась антенна радара FuMO 27, а сверху на небольшом штоке — антенна пассивного радиолокационного детектора FuMB 7 "Тимор".
Во время ремонта весной —летом 1944 г. радары FuMO 23 и FuMO 27 с этой позиции были сняты и заменены одним FuMO 26 с антенной размером 6,6x3,2 м и горизонтальной поляризацией, дававшей лучшее разрешение (0,25° по пеленгу). Одновременно на фок-мачте установили новейший радар обнаружения воздушных целей FuMO 30 "Хохентвиль-К" (рабочая частота 556 МГц, дальность действия 12—20 км, точность по дистанции ±150 м, по пеленгу ±2°), а детектор "Тимор" заменили более совершенными FuMB 4 "Самос" и FuMB 6 "Палау". Тогда же на кормовом возвышенном зенитном КДП смонтировали радиолокационную станцию управления огнем FuMO 213 с параболической антенной диаметром 3 м, представлявшую собой разработанный для Люфтваффе радар "Wurtzburg D". Она работала на частоте 560 МГц и обеспечивала дальность обнаружения самолета на средней высоте порядка 40—60 км с точностью по пеленгу ±1,15°. При этом сам "горшок" пришлось поднять на 2 м. В результате, к моменту своей гибели "Tirpitz" имел самое развитое и совершенное радиолокационное оборудование среди крупных надводных кораблей германского флота, но тем не менее, существенно уступал линкорам союзников как по ассортименту радаров, так и по их качеству.
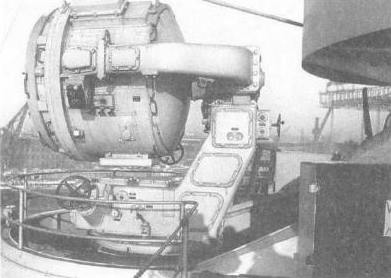
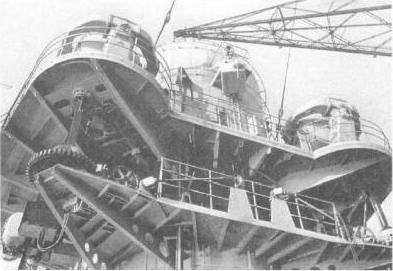
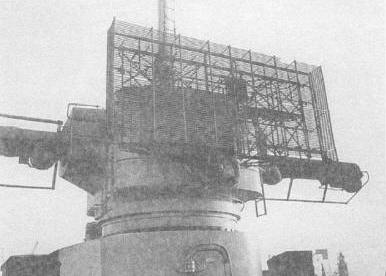
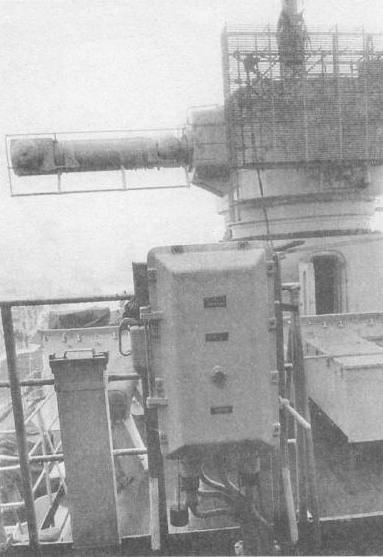
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА |
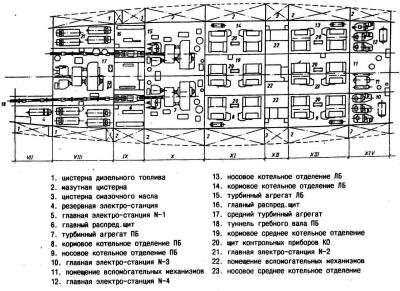 Работы над созданием судовых высоконапорных котлов с целью экономии объема и веса велись в Германии с середины 1920-х гг. Если в иностранной практике рабочее давление пара не превышало 25 атм., немцы добились успешного применения нескольких типов прямоточных высоконапорных котлов с рабочим давлением до 100 атм.
Работы над созданием судовых высоконапорных котлов с целью экономии объема и веса велись в Германии с середины 1920-х гг. Если в иностранной практике рабочее давление пара не превышало 25 атм., немцы добились успешного применения нескольких типов прямоточных высоконапорных котлов с рабочим давлением до 100 атм.
В отличие от обычных водотрубных котлов с естественной циркуляцией, в которых вода до превращения в пар делает несколько ходов по контуру циркуляции, в прямоточном котле испарение происходит за один цикл. Подаваемая насосом питательная вода последовательно проходит через экономайзерную, испарительную и пароперегревательную секции котельной трубки, превращаясь в пар заданных параметров. Подача воды под давлением позволяет изготавливать котельные трубки сложной конфигурации, что, в свою очередь, делает котел более легким и компактным, но усложняет его обслуживание, в частности, замену трубок.
Впервые высоконапорный котел Бенсона (рабочее давление 70 атм., температура пара 425°С) был установлен на пароходе "Uckermark" компании ГАПАГ. В 1935 г. компания " Норддойчер Ллойд" ввела в эксплуатацию на своей восточно-азиатской линии три парохода, оснащенных высоконапорными котлами системы Бенсона ("Potsdam") и Вагнера ("Scharnhorst" и "Gneisenau") с рабочим давлением 83 и 46 атм. соответственно. Первым боевым кораблем, оснащенным высоконапорными котлами системы Бенсона (80 атм.), стала яхта "Grille", вступившая в строй 19 мая 1935 г. На большей части эскортных кораблей типа "F" были установлены котлы Ла Монта (70 атм.), а на F-7 и F-8 — котлы Бенсона с увеличенным рабочим давлением (110 атм.). Наконец, в феврале 1936 г. на учебно-артиллерийском корабле "Brummer" начали "военную службу" котлы Вагнера (70 атм.). Несмотря на отсутствие всесторонних данных по эксплуатации высоконапорных котлов в морских условиях, командование Кригсмарине приняло волюнтаристское решение об оснащении ими всех строящихся кораблей.
 Котлы для "Bismarck" были изготовлены фирмой "Блом унд Фосс", для "Tirpitz" — верфью в Вильгельмсхафене и концерном "Дешимаг". При рабочем давлении 58 кг/см² (максимально допустимое 68 кг/см²) и температуре перегретого пара 450°С их паропроизводительность составляла 50 т/ч. Рабочий вес одного котла — 52,8 т, в том числе 4,85 т воды, рабочая площадь 320 м², площадь пароперегревателя 120 м², площадь нагрева воздуха 685 м², емкость 144 м³. Циркуляция воды — естественная. Общий КПД котлов достигал 80%.
Котлы для "Bismarck" были изготовлены фирмой "Блом унд Фосс", для "Tirpitz" — верфью в Вильгельмсхафене и концерном "Дешимаг". При рабочем давлении 58 кг/см² (максимально допустимое 68 кг/см²) и температуре перегретого пара 450°С их паропроизводительность составляла 50 т/ч. Рабочий вес одного котла — 52,8 т, в том числе 4,85 т воды, рабочая площадь 320 м², площадь пароперегревателя 120 м², площадь нагрева воздуха 685 м², емкость 144 м³. Циркуляция воды — естественная. Общий КПД котлов достигал 80%.
Котлы имели по три коллектора, оборудовались пароперегревателями фирмы "Аскания" с автоматической регулировкой и горизонтальным предварительным нагревателем воздушного типа, но не имели экономайзеров. Поступающий воздух подогревался отходящими топочными газами, мазут и питательная вода — паром. В одном из торцов каждого котла размешались две двойных ротационных форсунки типа "Зааке". Для предотвращения перегрева котельных трубок применялись опоры с водяным охлаждением. С каждой стороны котла в середине главного набора трубок устанавливался U-образный суперподогреватель, позволявший помимо подогрева питательной воды удалять из нее кислород и другие растворенные газы.
Котлы могли запускаться в течение 20 минут из холодного состояния и включаться в работу в множестве различных комбинаций для большей живучести ГЭУ. На линкорах типа "Bismarck" при крейсерской скорости 19—21 уз. на каждый вал обычно работало по 2 котла, дополнительные котлы подключались для увеличения скорости. При скоростях в 27 уз. и выше были задействованы все котлы.
При всех плюсах котельные установки с высокими параметрами пара с первых дней эксплуатации зарекомендовали себя как чрезвычайно капризные. Питать их можно было только исключительно чистой водой, приготовить которую в корабельных условиях оказалось очень сложно. Повышенные требования к качеству котельной воды вызвали необходимость внедрения специальных деаэраторов вместо обычных опреснителей, а также установки бустерных насосов для создания постоянного подпора воды перед питательными насосами. Тем не менее, образующаяся на внутренней поверхности водогрейных трубок накипь оставалась предметом постоянной головной боли для механиков, даже специальная система химической обработки воды не решала проблемы. Немало хлопот доставляла интенсивная коррозия пароперегревателей, а также клапанов изоляции, прокладок и стыков трубопроводов.
Не менее проблематичной оказалась регулировка высоконапорных котлов. Из-за небольшого объема воды в котле при изменении режима работы требуется мгновенное изменение равновесия между количеством поступающей в котел питательной воды, сжигаемого топлива и воздуха для горения. Поддержание указанного соотношения возможно лишь с помощью автоматики. Система автоматической регулировки была разработана фирмой "Аскания", но отличалась сложностью и ненадежностью.
Ряд вспомогательных механизмов питался от вспомогательного котла, расположенного на нижней платформе перед центральной секцией носового котельного отделения.
Технические характеристики котлов площадь испарения 380 кв.м. площадь перегрева пара 120 кв.м. площадь нагрева воздуха 685 кв.м. температура питательной воды 160 град, рабочее давление 58 атм. максимальное давление 63 атм. производительность пара в час 50 т. коэффициент полезного действия 80 % температура насыщенного пара 267 град, температура перегретого пара 450 град, емкость котла 144 куб.м. вес котла с водой 52,80 т. вес воды в котле 4,85 т. температура подогрева воздуха 335 град. |
Турбозубчатые агрегаты (ТЗА) этих кораблей были различных проектов и производства: для "Bismarck" их изготовила фирма "Блом унд Фосс", при этом они были почти аналогичны установленным на тяжелом крейсере "Admiral Hipper"; для "Tirpitz" — швейцарская "Браун-Бовери".
Каждый из турбозубчатых агрегатов системы Кёртиса состоял из трех турбин переднего хода и двух заднего:
— турбина высокого давления (ТВД) — четырехступенчатая, активно-реактивного типа. Первая ступень выполнена в виде так называемого "двухрядного колеса Кёртиса", остальные ступени реактивного типа. Номинальная частота вращения — 2825 об/мин;
— турбина среднего давления (ТСД) — пятиступенчатая, двухпроточная, реактивного типа, с номинальной частотой вращения 2390 об/мин;
— турбина низкого давления (ТНД) — девятиступенчатая, реактивного типа. Турбина была смонтирована непосредственно над конденсатором, в который уходил отработанный пар;
— ТВД заднего хода — двухрядное колесо Кёртиса, смонтированное в общем корпусе с ТСД переднего хода со стороны фидера;
— ТНД заднего хода — двухступенчатая, двухпроточная, была установлена в общем корпусе с ТНД переднего хода.
Турбины высокого и среднего давления размещались за редуктором и приводили боковые шестерни, турбина низкого давления размешалась перед редуктором и приводила центральную или верхнюю шестерню. Кроме того, на "Tirpitz" в состав каждого агрегата входила дополнительная турбина экономического хода, которой на "Bismarck" не было. Конструктивно она объединялась с ТВД переднего хода; частота вращения в нормальном режиме — 4130 об/мин.
По проекту мощность каждого ТЗА должна была составить 46 000 л.с. при частоте вращения винтов 250 об/мин, что давало общую мощность силовой установки 138 тысяч л.с. Считалось, что эта мощность обеспечит кораблю скорость не менее 29 узлов.
Валопроводы линкоров имели диаметр 500 мм. Оригинально была решена немецкими конструкторами проблема смазки: в каждом подшипнике стояла своя масляная цистерна, из которой масло при вращении вала подавалось кольцами на шейки. Такая индивидуальная смазка отлично работала даже при затоплении коридора гребного вала.
Результаты заводских испытаний "Bismarck" (при водоизмещении 43 000 т) |
|||
| Мощность, л.с. | Число котлов в работе | Частота вращения винтов, об/ мин | Расход топлива, г/л.с. в час |
| 3 х 46000 | 12 | 265 | 325 |
| 3 х 38350 | 12 | 250 | 320 |
| 3 х 23300 | 9 | 214 | 335 |
| 3 х 13000 | 6 | 176 | 370 |
| 3 х 8300 | со | 151 | 415 |
| 3 х 5000 | со | 128 | 500 |
Эксплуатационные характеристики силовой установки |
||
| Мощность, ИНД. л.с. | Обороты винтов, об/мин | Расход пара, т/ч |
| 2 250 | 98 | 11,5 |
| 5 400 | 130 | 21,5 |
| 11 000 | 166 | 39 |
| 17 500 | 194 | 59 |
| 25 750 | 220 | 86,5 |
| 34 150 | 241 | 114 |
| 42 750 | 258 | 143,3 |
| 46 000 | 265 | 165 |
| 16 000 (задний ход) | 190 | 105 |
Корабли приводились в движение трехлопастными винтами из специальной марганцевой бронзы. Диаметр винта — 4,7 м, площадь — 17,349 м². Плоскость вращения центрального винта находилась на шп. 16,5 с центром в 2399 мм выше линии киля, крайних — на шп. 23,5 с центром в 2746 мм от киля. Левый и средний винты вращались против часовой стрелки, а правый — по часовой стрелке (смотря с кормы в нос).
На испытаниях при водоизмещении 41 700 т "Bismarck" показал среднюю продолжительную скорость 30,12 уз. при мощности машин 150 170 л.с. и 265 об/мин. Позже, на мерной миле, была зафиксирована наибольшая скорость 31 уз. 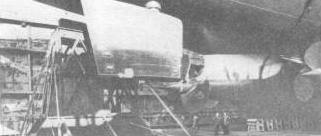 "Tirpitz" развил 30,81 уз. при мощности 163 000 л.с. и 278 об/мин, а при проектной мощности 138 000 л.с. показал ровно 29 уз. (водоизмещение на испытаниях - 43 200 т).
"Tirpitz" развил 30,81 уз. при мощности 163 000 л.с. и 278 об/мин, а при проектной мощности 138 000 л.с. показал ровно 29 уз. (водоизмещение на испытаниях - 43 200 т).
Корабль вмел два параллельных балансирных руля, площадью 24 кв.м. Они были установлены с наклоном внутрь от диаметральной плоскости под углом 8 градусов. Последующие испытания и эксплуатация кораблей этого типа показали, что они превосходно слушались руля на высоких и средних режимах хода, хорошо удерживали заданный курс. Корабли легко реагировали даже на небольшие (около 5 градусов) отклонения руля. Однако на малых ходах эти преимущества терялись. Частично это объясняется тем, что рули были установлены между струями от винтов, которые на высоких оборотах усиливали эффективность рулей, 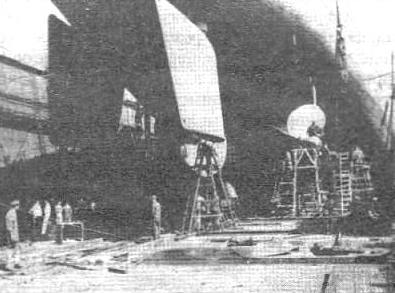 но на малых оборотах их напор ослабевал и теперь эффективность рулей зависела в основном от их площади, что при огромном водоизмещении линкоров было недостаточно. При проходе узкостей, где корабли не могли развить скорости, достаточной для нормального управления рулями, им требовалась помощь буксиров, но в условиях военного времени линкорам часто приходилось обходиться без них.
но на малых оборотах их напор ослабевал и теперь эффективность рулей зависела в основном от их площади, что при огромном водоизмещении линкоров было недостаточно. При проходе узкостей, где корабли не могли развить скорости, достаточной для нормального управления рулями, им требовалась помощь буксиров, но в условиях военного времени линкорам часто приходилось обходиться без них.
Запас топлива и дальность плавания
Согласно сделанным в ходе работы над проектом расчетам, корабли должны были проходить 14 000 миль 15-узловым ходом, однако уже в октябре 1936 года ОКМ осознало пригодность сделанных вычислений только к благоприятным условиям мирного времени. В результате переоценки дальность плавания была урезана наполовину — до 7000 миль 15-узловым ходом. Столь значительное сокращение дальности вновь подняло вопрос об установке дизелей, который, однако, вскоре опять отпал.
В августе 1941 г., в результате захвата британских "Тактических инструкций флота" с детальной оценкой расхода топлива всех кораблей флота Его Величества, вопрос о расходе топлива был вновь рассмотрен. К этому времени дальность плавания для уже погибшего "Bismarck" оценивалась как 8600 миль на 15 уз., 8150 миль на 21 уз., 5200 миль на 27 уз. или 3750 миль на 30 уз,; для "Tirpitz" цифры еще не были выработаны.
Слишком оптимистичные расчеты дальности плавания были свойственны немецким кораблестроителям еще до Первой мировой войны, но в 1930-е годы превысили все мыслимые границы. Основной причиной был переход на пар высоких параметров и неоправданно широкое его использование во вспомогательных механизмах. Как известно, расход пара в них по отношению к расходу пара на главные турбины в корабельных энергетических установках составляет около 30 % на полном ходу и доходит до 100 % и более на экономическом, так как по мере снижения мощности ГЭУ мощность вспомогательных механизмов снижается в значительно меньшей степени. Излишки пара приходится сбрасывать на конденсатор. Этот специфический недостаток паротурбинных установок у немцев усугубился тем, что расход пара на вспомогательные механизмы значительно превысил проектный, в связи с чем пропорционально возросли излишки, сбрасываемые на конденсатор, а соответственно, и расход топлива. На "Tirpitz" данное превышение на полном ходу составляло 10 %, на экономическом — около 19%.
При нагрузке корабля на три четверти от полного водоизмещения, топливо занимало 15 % водоизмещения. Для "Bismarck" были получены следующие цифры расхода топлива на 100 миль на 100 т водоизмещения: 1,7 м³ при скорости 15 уз., 1,8 м³ при 21 уз., 2,9 м³ при 27 уз. и 3,9 м³ при 30 уз. Для сравнения можно сказать, что "Scharnhorst" и "Gneisenau" оказались менее экономичными: их расход топлива на 27-узловом ходу составлял соответственно 3,4 и 4 м³ на 100 миль.
Определенный интерес представляют данные известного историка кораблестроения Майкла Уитли, которые, как правило, всегда отличаются от цифр, декларируемых в немецких справочниках. По его мнению, максимальная емкость топливных цистерн на "Bismarck" — 7900 м³; на "Tirpitz" — 8297 м³, максимальная используемая емкость 7717 м³, нормальная емкость 7944 м³, в том числе используемая 7388 м³. При этом дальность плавания "Bismarck" составляла 8410 миль 15-узловым ходом или 3740 миль 30-узловым; для "Tirpitz" — 10 200 миль при скорости 16 уз.
Дальность плавания (по версии Р. Далина и У. Гарцке) |
||
Скорость |
"Bismarck" |
"Tirpitz" |
16 уз. |
9280 миль |
|
19 уз. |
8525 миль |
8870 миль |
24 уз. |
6640 миль |
6963 мили |
28 уз. |
4500 миль |
4728 миль |
Вместимость цистерн Бисмарка (метрических т) |
|
| Нефть | 8294 |
| Дизельное топливо | 193 |
| Авиационный бензин | 34 |
| Резервная вода для котлов | 375 |
| Питьевая вода | 306 |
| Резервная пресная вода | 389 |
| Смазочное масло | 160 |
| Всего | 9751 |
Для обеспечения электроэнергией на линкорах имелось по четыре главных электростанции (E-Werk). Отделения генераторов №1 и №2 располагались в отсеке VIII на нижней платформе по правому и левому борту соответственно. В каждом из них находилось по четыре 500-кВт дизель-генератора. Генераторные отсеки №3 и №4 размещались по аналогичной схеме в отсеке XIV, но в них было установлено по 3 турбогенератора (всего пять по 690 кВт и один 460 кВт). Генераторы производились фирмой "Гарбе-Ломайер". Основное оборудование и освещение питались от постоянного тока напряжением 220 В. Нормальная нагрузка электросети корабля составляла 3910 кВт, но с учетом суммарной производительности всех генераторов в боевой обстановке эта величина могла быть доведена до 7910 кВт, чем обеспечивалось более чем двойное резервирование по мощности.
Несколько цепей специального оборудования питались от переменного тока. Для его производства предназначался отдельный дизель-генератор, располагавшийся в отсеке VII по правому борту. В данном качестве использовались моторы фирмы MWM марки RS38 (заводские номера: 170093 на "Bismarck", 170094 на "Tirpitz") — 6-цилиндровые четырехтактные дизели мощностью 460л.с. при 600 об/мин, но допускавшие перегрузку до 550 л.с. в течение 30 мин. Помимо этого, к 460-кВт турбогенератору постоянного тока мог подключаться преобразователь переменного тока на 400 кВт.
Главные распределительные щиты №1 и №2 располагались в отсеке IX по правому и левому борту. Специальная аварийная система подачи электричества на кораблях отсутствовала, но четыре 500-кВт дизель-генератора были в резерве, и в случае повреждения основных силовых кабелей аварийные кабели должны были подключаться от них к распределительным щитам.
| ПРОЧЕЕ |

Кондиционерами оснащались корабельный лазарет, фотолаборатория и офицерская кают-компания. Всего на кораблях имелось по 230 втяжных и вытяжных электрических вентиляторов, из которых 33 обслуживали котельные и машинные отделения, при этом 18 втяжных и 3 вытяжных вентилятора снабжались охладителями воздуха. Вентиляционные шахты оснащались водонепроницаемыми шторками, так что водонепроницаемость помещений должна была сохраняться до уровня батарейной палубы. Полней вентиляционные шахты располагались вертикально и не проходили через главные водонепроницаемые переборки. В отсеках энергетической установки вентиляционные шахты были оснащены также газонепроницаемыми шторками на случай возгорания нефти.
 Главная холодильная установка находилась в отсеке XV на нижней платформе. Установка была электрической, рабочим телом являлся углекислый газ. Для автоматического контроля за температурой в различных помещениях служила система "Ака". Холодильники для провизии размещались в XVI отсеке под башней "Bruno".
Главная холодильная установка находилась в отсеке XV на нижней платформе. Установка была электрической, рабочим телом являлся углекислый газ. Для автоматического контроля за температурой в различных помещениях служила система "Ака". Холодильники для провизии размещались в XVI отсеке под башней "Bruno".
По штату набор корабельных плавсредств линкоров включал: два 11-метровых адмиральских катера (располагались по правому и левому борту на ангарах рядом с дымовой трубой), четыре 11-метровых разъездных катера (на кормовом ангаре), 9-метровый командирский катер (размешался рядом с адмиральским катером правого борта), два 8-метровых полубаркаса (рядом с адмиральским катером левого борта), 6-метровый полубаркас (поверх внешнего 8-м полубаркаса), два 8-метровых гребных катера и два 8-метровых яла (на шлюпбалках на верхней палубе — два перед 150-мм башнями II и два перед 150-мм башнями III каждого борта), два 4-метровых яла-двойки (над кормовыми гребными катерами).
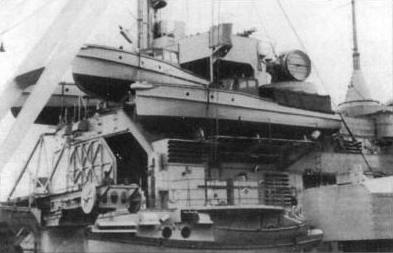 Размещение шлюпок и катеров и их состав на обоих кораблях неоднократно менялись. Перед выходом "Bismarck" из Норвегии 19 мая 1941 г. все катера и ялы с верхней палубы были сняты. Вместо них на палубе и надстройках были размешены спасательные плоты различной формы и размера. На "Tirpitz" кормовые катера и ялы вообще не ставились, а носовые также были сняты летом 1941 г.
Размещение шлюпок и катеров и их состав на обоих кораблях неоднократно менялись. Перед выходом "Bismarck" из Норвегии 19 мая 1941 г. все катера и ялы с верхней палубы были сняты. Вместо них на палубе и надстройках были размешены спасательные плоты различной формы и размера. На "Tirpitz" кормовые катера и ялы вообще не ставились, а носовые также были сняты летом 1941 г.
На линкорах имелось четыре забортных трапа (по два на каждом борту). Обычно их укладывали на палубе у носовой и кормовой надстроек, но в походном положении они крепились в сложенном состоянии под кильблоками командирского и адмиральского катеров.
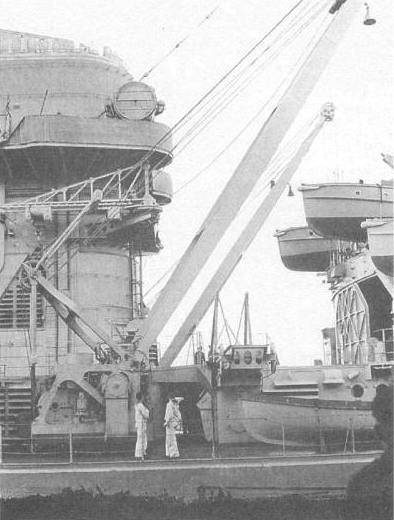 Два 12-тонных крана фирмы "Демаг" размещались побортно рядом с катапультой и могли поднимать как гидросамолеты, так и шлюпки. На "Bismarck" краны стояли на верхней палубе, на "Tirpitz" были перенесены на 3 м вперед и на 3,5 м к диаметральной плоскости и были установлены на первом ярусе надстройки. С правого борта оба линкора имели более длинные краны (на 1,5 м), помимо этого, оба крана "Tirpitz" были на 2,5 м длиннее, чем у головного корабля. Кроме того, к задней части трубы крепились два небольших 4-тонных крана той же фирмы для перемещения гидросамолетов по палубе.
Два 12-тонных крана фирмы "Демаг" размещались побортно рядом с катапультой и могли поднимать как гидросамолеты, так и шлюпки. На "Bismarck" краны стояли на верхней палубе, на "Tirpitz" были перенесены на 3 м вперед и на 3,5 м к диаметральной плоскости и были установлены на первом ярусе надстройки. С правого борта оба линкора имели более длинные краны (на 1,5 м), помимо этого, оба крана "Tirpitz" были на 2,5 м длиннее, чем у головного корабля. Кроме того, к задней части трубы крепились два небольших 4-тонных крана той же фирмы для перемещения гидросамолетов по палубе.
Линкоры были оснащены тремя главными становыми якорями системы Холла (у немцев они назывались "военно-морского типа") весом по 12 т. Два якоря крепились побортно в носовых полуклюзах, третий — в клюзе в верхней части форштевня. Для их подъема служили два носовых шпиля. Якорных цепей было всего две, поэтому одновременно могло использоваться только два якоря, третий крепился стопорными устройствами к палубе.
Кроме того, имелся 9-тонный кормовой якорь Холла, убиравшийся в клюз по левому борту. Однако с "Bismarck" его сняли весной 1941 г. перед выходом в Атлантику. "Tirpitz" лишился кормового якоря во время атаки "миджетов" 22 сентября 1943 г. и до конца карьеры оставался без него.
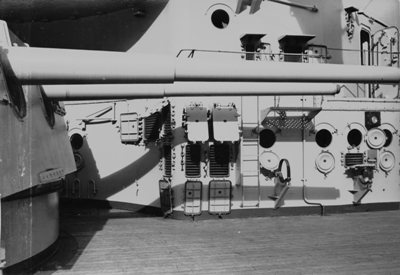 Для крепления швартовых и выборки буксирного конца служили специальные буксировочные шпили — один носовой и два кормовых.
Для крепления швартовых и выборки буксирного конца служили специальные буксировочные шпили — один носовой и два кормовых.
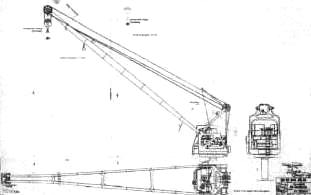
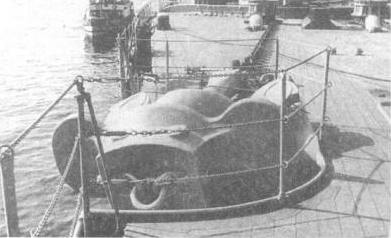
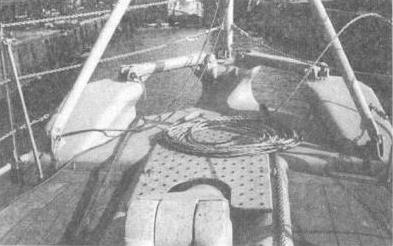

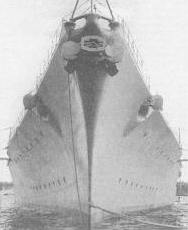
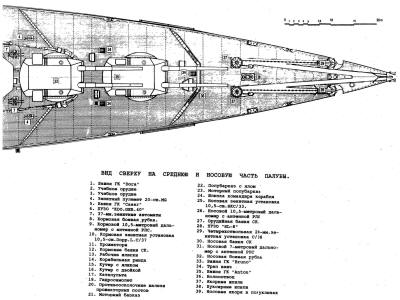

По проекту экипаж линкоров состоял из 1927 человек, увеличиваясь до 2106 при использовании в качестве флагманского корабля. Жилые помещения могли вместить дополнительно 2500 человек сроком на один день, но спальными местами могли быть обеспечены только 1600 сверхштатных пассажиров. Спальные места для матросов и старшин размешались в кубриках. Койки располагались в три яруса и висели на крученых шнурах, протянутых от подволока до палубы.
При вступлении в строй экипаж "Bismarck" состоял из 103 офицеров и 1962 матросов, во время операции "Рейнюбунг" на борту находился 2221 чел., из которых 65 составляли штаб адмирала Лютьенса, а еще 80 — предназначались для комплектования призовых партий. На "Tirpitz" в 1943 г. по штату насчитывалось 108 офицеров и 2500 матросов.
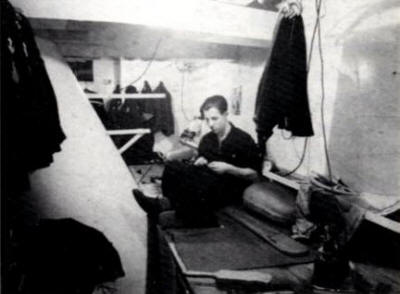 Весь экипаж делился на 12 дивизионов по 150—200 человек в каждом:
Весь экипаж делился на 12 дивизионов по 150—200 человек в каждом:
-1—IV дивизионы — обслуживающий персонал орудий главного и среднего калибров:
-V дивизион — расчеты зенитных автоматов;
-VI дивизион — персонал 105-мм зенитных орудий (V и VI дивизионы в сумме насчитывали 360 человек);
-VII дивизион объединял хозяйственные службы корабля: плотники, повара, портные, писари, квартирмейстеры, палубные матросы и т.д.;
 -VIII дивизион — артиллерийские содержатели (персонал, отвечающий за исправность артиллерийских механизмов);
-VIII дивизион — артиллерийские содержатели (персонал, отвечающий за исправность артиллерийских механизмов);
-IX дивизион — персонал, обслуживающий радиотехнические устройства (радисты, операторы РЛС, акустики), службу наблюдения и сигнализации (сигнальщики, прожектористы) и навигации (штурманы, штурманские электрики, рулевые);
-X—XII дивизионы — персонал главной энергетической установки и энергосистем.
Сами дивизионы разделялись на "морские" (I—IX) и "технические" (X—XII), а каждый дивизион, в свою очередь, делился на отделения (Korporalschaften) по 10—12 человек, во главе которых стоял унтер-офицер.
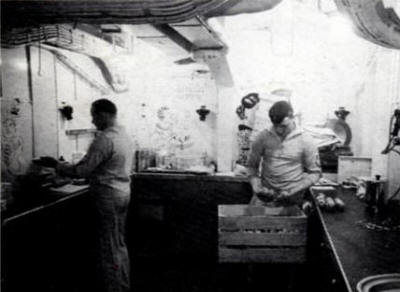 Экипаж линкора "Bismarck" был очень молодым - средний возраст корабля составлял приблизительно 22 года. Однако несмотря на молодость он имел время хорошо изучить корабль и к моменту проведения своей первой, ставшей и последней, операции был в полной боевой готовности и обладал всеми знаниями и навыками в борьбе за живучесть. Перед началом операции "Rheinubung", примерно в середине мая, на "Bismarck" прибыли дополнительно 156 человек, из которых 65 человек составляли штаб адмирала Лютьенса, а остальные были рабочими верфи, курсантами и др. В общем при выходе на операцию из Гданьска 18 мая на корабле было 2221 человек.На линкорах имелось по четыре камбуза: два матросских, унтер-офицерский и офицерский. Для нижних чинов было предусмотрено две столовых — носовая в XV и кормовая в VIII отсеке на батарейной палубе. Каждую из них обслуживал штат из 6—8 коков и разносчиков. Для питания унтер-офицеров была отгорожена часть каждой матросской столовой. Офицерский камбуз и кают-компании располагались в надстройках.
Экипаж линкора "Bismarck" был очень молодым - средний возраст корабля составлял приблизительно 22 года. Однако несмотря на молодость он имел время хорошо изучить корабль и к моменту проведения своей первой, ставшей и последней, операции был в полной боевой готовности и обладал всеми знаниями и навыками в борьбе за живучесть. Перед началом операции "Rheinubung", примерно в середине мая, на "Bismarck" прибыли дополнительно 156 человек, из которых 65 человек составляли штаб адмирала Лютьенса, а остальные были рабочими верфи, курсантами и др. В общем при выходе на операцию из Гданьска 18 мая на корабле было 2221 человек.На линкорах имелось по четыре камбуза: два матросских, унтер-офицерский и офицерский. Для нижних чинов было предусмотрено две столовых — носовая в XV и кормовая в VIII отсеке на батарейной палубе. Каждую из них обслуживал штат из 6—8 коков и разносчиков. Для питания унтер-офицеров была отгорожена часть каждой матросской столовой. Офицерский камбуз и кают-компании располагались в надстройках.  В отсеках XVII и VI11 находились специальные выгородки для пива, которое хранилось в 50-литровых бочках (всего до 1000 бочек), однако в обязательный рацион не входило, а продавалось по 30 пфеннигов за пол-литровую кружку в корабельных буфетах вместе с шоколадом, сигаретами и прочими товарами. Для иллюстрации задач, стоявших перед начальником административно-хозяйственной службы корабля, приведем такие цифры: перед выходом в последний поход на "Bismarck" было погружено 500 свиных и 300 говяжьих туш, а общего запаса провизии, по оценкам, хватило бы, чтобы прокормить в течение одного дня город с населением в 250 тысяч человек!
В отсеках XVII и VI11 находились специальные выгородки для пива, которое хранилось в 50-литровых бочках (всего до 1000 бочек), однако в обязательный рацион не входило, а продавалось по 30 пфеннигов за пол-литровую кружку в корабельных буфетах вместе с шоколадом, сигаретами и прочими товарами. Для иллюстрации задач, стоявших перед начальником административно-хозяйственной службы корабля, приведем такие цифры: перед выходом в последний поход на "Bismarck" было погружено 500 свиных и 300 говяжьих туш, а общего запаса провизии, по оценкам, хватило бы, чтобы прокормить в течение одного дня город с населением в 250 тысяч человек!


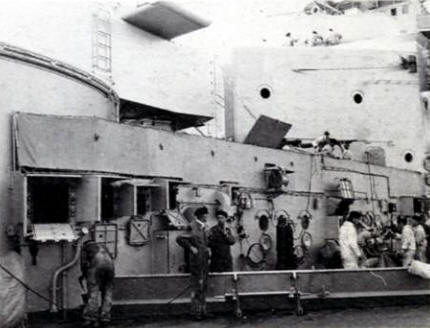
| ОБЩАЯ ОЦЕНКА |
Линкоры типа "Bismarck" были и остаются кораблями, вызывающими огромное количество суждений и диаметрально противоположных оценок, причем если в годы войны и первые послевоенные десятилетия их "рейтинг" был чрезвычайно высок, то в последнее время восторженные отзывы сменились на уничижительные. При этом, как правило, обсуждаются гипотетические схватки в стиле рыцарских поединков один на один — "Bismarck" против "Iowa", "Bismarck" против "Yamato", — далекие не только от исторических реалий, но и от здравого смысла. Что же германский корабль на самом деле — суперлинкор или миф?
"Bismarck" и "Tirpitz" стали самыми крупными линкорами из участвовавших во Второй мировой войне в европейских водах. Нельзя сказать, что немцы оказались единственными, превысившими договорной лимит в 35 000 т, однако их превышение оказалось наибольшим. Попытаемся выяснить, насколько грамотно немецкие конструкторы распорядились предоставленными им возможностями.
Прежде всего, рассмотрим главные "линкорные" характеристики — комплекс броневой защиты и вооружения. Следуя германской традиции, "Bismarck" нес очень много брони, заметно превосходя своих 35 000-тонных "одноклассников" по ее массе и доле в суммарном водоизмещении. Расположение ее также было традиционным, в целом повторявшим "Scharnhorst" и три последних типа дредноутов кайзеровского Флота открытого моря и идущим вразрез с принципом "все или ничего" — линкор рассчитывался на ближний бой в условиях ограниченной видимости, преобладающей в Северном море. О том, насколько оправдан был такой расчет, мы поговорим ниже.
Главный бортовой пояс "Bismarck" по-прежнему оставался довольно узким, а его толщина была даже уменьшена по сравнению с предшественниками — с 350 до 320 мм. Скосы главной палубы, наоборот, стали толще — 110 мм при наклоне 67° от вертикали. Второй корабль серии — "Tirpitz" — имел небольшие отличия в толщине бронирования, но они не носили принципиального характера. Комбинация пояса и пологого скоса бронепалубы на малых дистанциях была эквивалента 600—700 мм вертикальной брони. В итоге, поразить жизненно важные центры последних германских линкоров настильным огнем было невозможно, что и подтвердилось в бою 27 мая 1941 г., когда несмотря на огромное количество попавших в корабль снарядов, энергетическая установка "Bismarck" сохранила работоспособность до самой его гибели.
Что касается горизонтального бронирования, то здесь архаичность примененной немцами схемы проявилась особенно ярко. Верхняя палуба неплохо защищала корабль от 152-мм снарядов и фугасных авиабомб того времени, однако с точки зрения основной функции — удаления бронебойных колпачков крупнокалиберных снарядов и взведения взрывателей бронебойных бомб — ее толщина (50 мм) была излишней. Ее уменьшение и увеличение за счет этого толщины главной броневой палубы способствовало бы основному принципу защиты: "система с более толстой составляющей всегда прочнее". Сама главная палуба была слишком тонкой: 80 мм над машинами и 95 мм над погребами. Аналогичный эквивалент иностранных современников был гораздо больше. К тому же располагалась она очень низко. Как следствие, забронированный объём был весьма ограниченным, а уязвимое межпалубное пространство чрезвычайно большим. В результате от авиабомб и навесного артиллерийского огня "Bismarck" и "Tirpitz" оказались защищены слабее 35 000-тонных линкоров других стран.
Противоторпедная защита "Bismarck" была несколько усилена в сравнении с предшествующим типом "Scharnhorst", но все равно оставалась довольно посредственной. Ее глубина (5,5 м по миделю) было недостаточной против современных торпед. В системе ПТЗ имелись ненадежные узлы, особенно место крепления верхней кромки противоторпедной переборки к броневой палубе. В общем, нельзя не согласиться с выводом классической работы И. М. Короткина: "Линкоры типа "Bismarck" по своему водоизмещению и размерам могли иметь значительно более сильную подводную защиту". Впрочем, линкоры основного противника — Великобритании — в отношении конструктивной подводной защиты выглядели еще хуже.
Повреждения "Bismarck" от торпед и "Tirpitz" от подрывных зарядов британских "миджетов" продемонстрировали еще один недостаток, свойственный и "Scharnhorst": плохую конструкцию фундаментов главных и вспомогательных механизмов, креплений приборов и электропроводки. При подводных взрывах они слишком часто входили из строя от сотрясений, даже если целостность корпуса не была нарушена.
Вооружение также укладывалось в концепцию "линкора плохой погоды". Крупповские 380-мм/52 орудия обладали высокой начальной скоростью довольно легкого снаряда и неплохо подходили для ближнего боя. На дистанциях до 20 км они теоретически пробивали поясную броню любого линейного корабля потенциального противника. Хуже обстояло дело на дальних дистанциях, где нужно поражать горизонтальное бронирование. Обратим особое внимание на небольшой угол возвышения — всего 30°, меньше чем у любого современника. Соответственно небольшим был и угол встречи снаряда с бронепалубой вражеского корабля.
Немецкая система зашиты не базировалась на концепции "зоны неуязвимости" или "зоны свободного маневрирования", распространенной в остальных флотах. Видимо, немцы осознавали искусственность подобных вычислений.
Действительно, в годы Второй мировой войны имело место всего четыре столкновения, в которых германским линкорам противостояли корабли аналогичного класса: бой у Лофотенских островов 9 апреля 1940 г., бой в Датском проливе 24 мая 1941 г., последний бой "Bismarck" 27 мая 1940 г. и бой у м. Нордкап 26 декабря 1943 г. Среди них всех самая дальняя дистанция, с которой велся огонь, составила около 26 км, но, как правило, перестрелки велись на дистанциях 11—20 км. При этом противники всегда стремились расстояние сокращать, а не увеличивать — если только один из них не стремился поскорее выйти из боя. Получается, немцы оказались правы в оценке характера грядущих боев и выборе схемы бронирования. С другой стороны, гибель "Bismarck" — кстати, первой жертвы среди линкоров последнего поколения — показала, что даже удачно сконструированные корабли, имеющие очень хорошую защиту, вооружение и систему управления огнем, могут стать практически небоеспособными даже без пробития цитадели, после всего нескольких удачных попаданий, если таковые приходятся в центры управления.
Расположение главного калибра в четырёх линейно-возвышенных двухорудийных башнях являлось оптимальным с точки зрения германских артиллеристов, но было не слишком экономным по весу. Из-за этого "Bismarck" стал обладателем самой длинной цитадели.
Разделение средней артиллерии на противоминную и зенитную соответствовало задачам, ставившимся перед конструкторами. Однако опыт войны однозначно опроверг предвоенные взгляды руководства германского флота. И дело не только в отсутствии универсальности 150-мм орудий, но и в ущербности их системы управления огнем, которая у немцев была совмещена с системой управления огнем главного калибра. Применение единого универсального калибра не только увеличило бы эффективность противовоздушной обороны кораблей, но и позволило бы разгрузить палубу и надстройки от множества установок и дублирующей системы управления огнем, что дало бы существенную экономию веса. Задача противодействия эсминцам при этом могла бы решаться не хуже за счет повысившейся огневой производительности.
Несмотря на это, зенитную артиллерию "Bismarck" никак нельзя назвать слабой. Более того, среди 35 000-тонных линкоров европейских стран он является безусловным лидером. Как ни пытайся выдать установленные на "Richelieu" 152-мм орудия за универсальные, они таковыми отнюдь не станут, что осознавали и сами французы, вынужденные продублировать их дополнительной 100-мм батареей, теперь уже чисто зенитной. Британские 133-мм пушки были ближе к идеалу, но в качестве зенитных не обладали нужной скорострельностью и скоростью реакции. Наконец, на итальянском "Littorio" также присутствовало разделение средней артиллерии на противоминную и зенитную, причем калибр последней был наименьшим среди всех капитальных кораблей последнего поколения. На этом фоне 16 105-мм зениток немецких линкоров выглядят предпочтительнее. Их самыми слабыми местами были малый вес снаряда и низкие скорости вертикальной и горизонтальной наводки, зато по дальности стрельбы или скорострельности они не уступали зарубежным образцам.
Энергетические установки "Bismarck" и "Tirpitz", как, впрочем, и большинства надводных кораблей германского флота, оказались далеки от ожиданий. Волюнтаристское решение о переходе на пар высоких параметров без должных испытаний таких установок в морских условиях самым негативным образом сказалось на их надежности, а излишне оптимистичные оценки экономичности высоконапорных котлов вкупе с неоправданно широким использованием свежего пара во вспомогательных механизмах вели к резкому снижению дальности плавания. Скоростные и мореходные качества "бисмарков" отвечали уровню своего времени, однако специфика службы кораблей не дала материала для их достоверной оценки.
Подводя черту под вышесказанным, можно заключить, что последние германские линкоры в общем соответствовали предъявляемым к ним требованиям, хотя не обладали никакими сверхъестественными качествами, способными оправдать их раздутое водоизмещение.
Стратегические реалии начавшейся войны оказались далеки от предвоенных расчетов германских военно-морских теоретиков. "Bismarck" и "Tirpitz" создавались для противодействия французским линкорам и с планируемой задачей справиться вполне могли. В действительности, они оказались в "нештатной" ситуации противодействия британскому (а затем англо-американскому) флоту, при этом собственного серьезного линейного флота Германия создать не успела. Использование этих кораблей в качестве рейдеров, выдаваемое постфактум за основную задачу, на самом деле было импровизацией. Как надводные рейдеры, линкоры не имели больших перспектив даже не за счет тактико-технических характеристик, а в силу самой порочности идеи надводной рейдерской войны. Она немцам в целом не удалась и в 1914 — 1918 гг. в гораздо лучших условиях: все рейдеры были достаточно быстро уничтожены превосходящими силами. Во Вторую мировую шансов не было никаких: баз снабжения нет, авиация позволяет эффективно искать рейдеры, так что в таком качестве линкоры себя не окупали. Показательно, что после гибели "Bismarck" ни один надводный корабль не выходил в океанское рейдерство. Использование в соответствии с принципом "Fleet in Being", видимо, оставалось единственно возможным применением германских линкоров.
| ОТЛИЧИЯ, МОДЕРНИЗАЦИИ И ОКРАСКА |
Принята 15 апреля 1896 г. В то время использовалась только при службе в домашних водах.
| серый - корпус до высоты главной палубы, позже - до высоты фальшборта главной палубы, ещё позже - до уровня полубака, если он закрывал большую часть верхней палубы |
| светло-серый - верхняя палуба, надстройки, трубы, вентиляторы, мачты и т.п., включая орудия, башни и щиты |
| золотисто-жёлтый - носовое и кормовое украшения |
| чёрный - отдельным распоряжением устанавливалась окраска в чёрный цвет верхнего края трубы на 1 м или всей трубы, а также мачт выше уровня трубы или чуть выше салингов, а также, временно, грот-стеньги |

Данные о наиболее существенных изменениях здесь приводятся в хронологической последовательности.
Конфигурация: во время испытаний, последующие изменения.
Схемы окраски: на момент вступления в строй, камуфляж на период испытаний, походные цвета, окраска самолета.
Конфигурация во время испытаний
"Bismarck" был введен встрой без всех трех главных КДП и без четырех кормовых 105-мм установок. Верхний и кормовой дальномеры и недостающие зенитки (новой модели LC/37) были установлены в октябре—ноябре 1940 г.
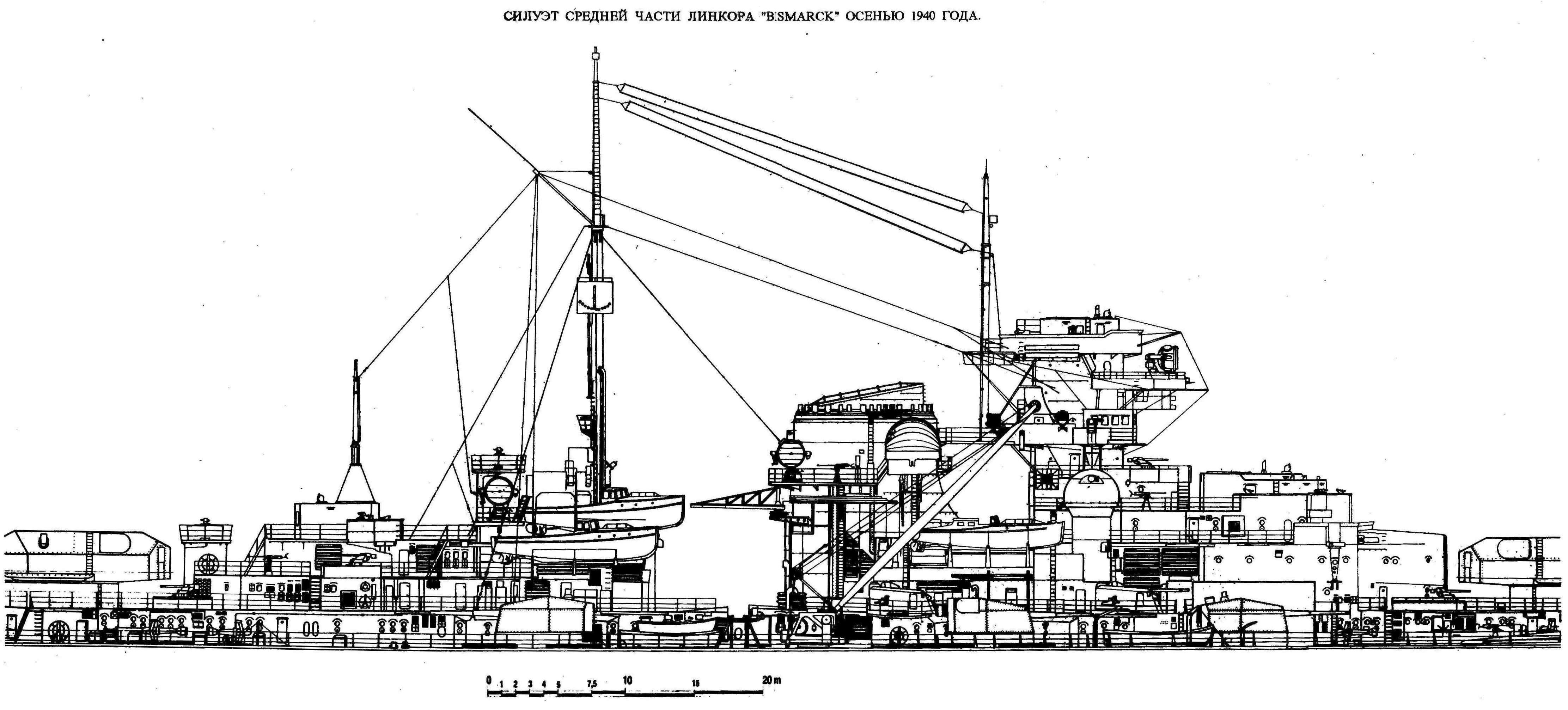
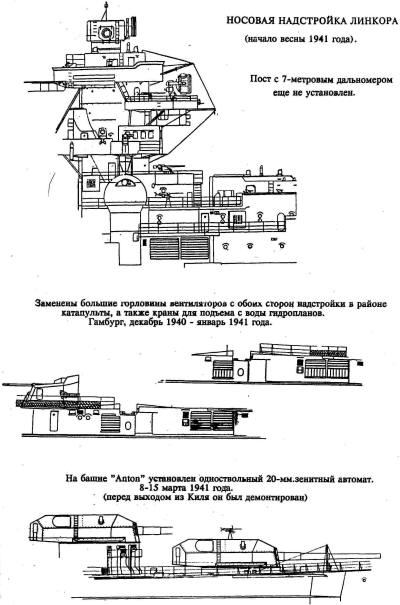 В период испытаний линкора на Балтике в конце 1940 года были выявлены некоторые замечания и недостатки, которые были исправлены вскоре по приходу корабля в Гамбург в течение декабря-января.
В период испытаний линкора на Балтике в конце 1940 года были выявлены некоторые замечания и недостатки, которые были исправлены вскоре по приходу корабля в Гамбург в течение декабря-января.
Вентиляционные отверстия в барбете башни "Bruno" уменьшены и получили защиту от брызг; раструб кормового вентилятора левого борта развернут к корме; два больших вентиляционных окна с обеих сторон надстройки (приток и отток воздуха из машинного отделения) получили защитный кожух, исключающий попадание брызг; большие вентиляционные люки с обеих сторон надстроек в районе катапульт и крана закрыты примерно до 1/3 высоты; по обеим сторонам катапульты установлены рабочие мостики; снят 10,5-метровый дальномер башни "Anton", образовавшиеся отверстия заглушены броневыми листами.
В марте 1941 на корабль был установлен носовой 7-метровый дальномер, а в конце апреля два одиночных 20-мм автомата на прожекторной площадке башенноподобной надстройки заменены счетверенными "фирлингами" (общее число 20-мм стволов достигло 18).
Хуже обстояло дело с поставками стабилизированных ПУАЗО. Перед выходом на операцию "Рейнюбунг" на "Bismarck" отсутствовали кормовые посты. Чтобы хотя бы частично компенсировать отсутствие систем управления зенитным огнем, на "Bismarck" установили два сухопутных поста аналогичного назначения Kdo.Ger.40 фирмы "Цейе", но они не имели трехкоординатной стабилизации и не защищались даже противоосколочной броней.
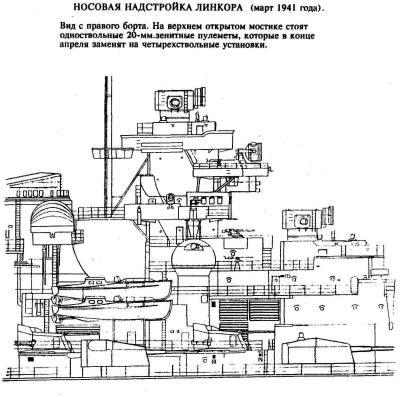
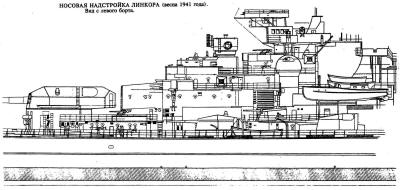
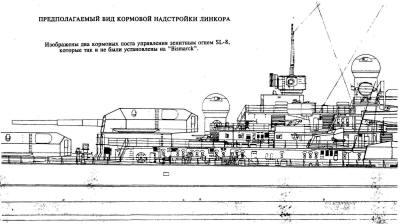
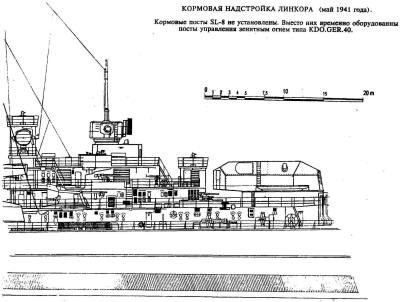
Окраска корабля на момент вступления в строй
Изначально корабль имел стандартную окраску. Корпус выше ватерлинии окрашивался в темно-серый цвет, надстройки — в светло-серый, козырьки дымовых труб были черными, ватерлиния — темно-серого цвета, подводная часть — красная.
При доковании в июне-июле 1940 года в Гамбурге "Bismarck" получил свежую окраску: подводная часть была очищена и на высоту 8 метров двукратно окрашена красной краской (Schiffsbodenfabre Rot). Выше 8 метров до 10,5 метров (верхняя граница погружения) корпус был окрашен в темно-шаровый, почти черный цвет (Teerfirnis), а еще выше - темно-шаровый (Dunkelgrau). Палуба имела естественный цвет деревянного покрытия. Якоря имели светло-серый цвет и четко выделялись на палубе от другого оборудования. Шпили выкрашивались черно-белыми полосами, якорная цепь и стопоры черные. Боковые сточные желоба красились зеленым цветом. Надстройки и орудийные башни светло-шаровым цветом (Hellgrau), а палубы надстроек покрывались светло-коричневым линолеумом. Как единственное отступление от схемы колпак трубы имел серебристый светло-шаровый оттенок (вместо чёрного). Шлюпки, а также трапы и сходы внутрь корабля красились под цвет красного дерева, днища шлюпок - красные.
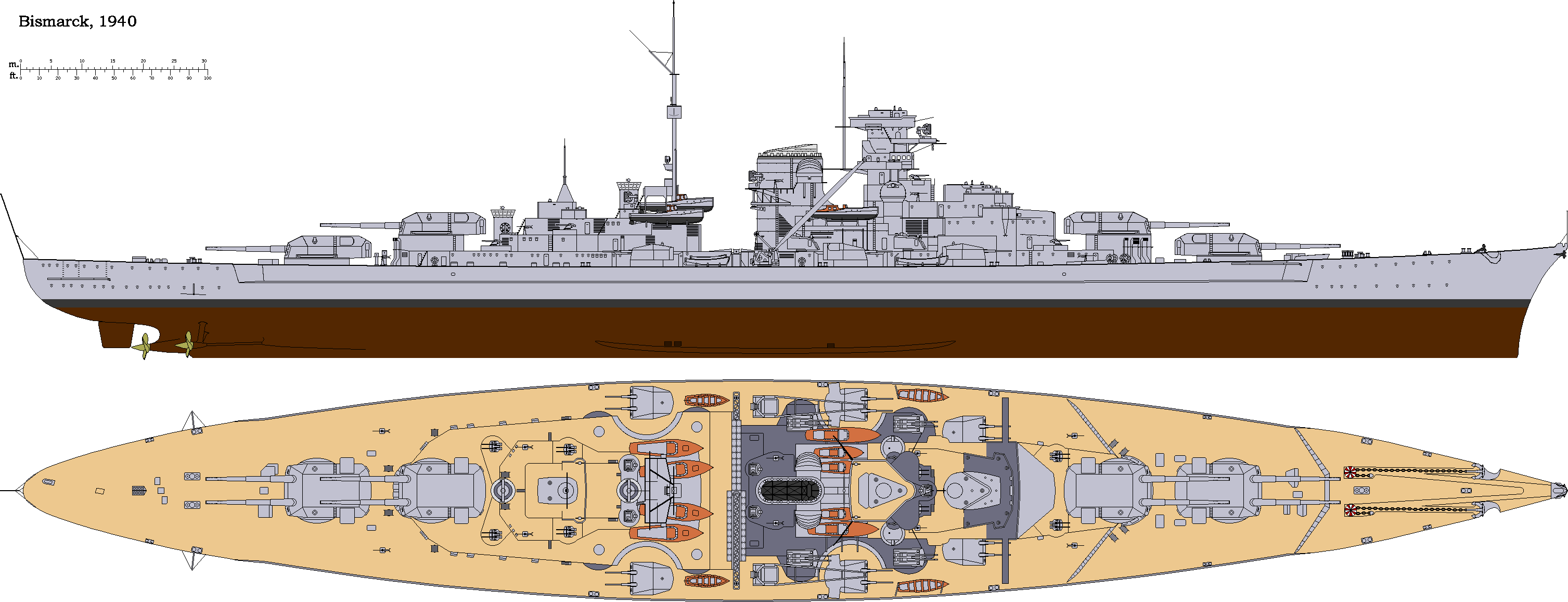
С 12 декабря 1940 года по 17 марта 1941-го - основная окраска была дополнена характерными элементами камуфляжа - крыши и скошенные стенки орудийных башен среднего калибра были окрашены в темно-шаровый цвет, а ограждения дальномеров на средних башнях - в светло-шаровый.
Балтийский камуфляж на период испытаний
С января по 21 мая 1941 года (вхождение в норвежские воды) "Bismarck" носил камуфляжную окраску [Balkentarnug]. Она состояла из трех параллельных полос черного цвета. Первая начиналась от ватерлинии в районе носовых 150-мм орудийных башен и продолжалась до верхнего края корпуса, затем охватывала всю носовую надстройку до верхнего дальномерного поста. Средняя полоса начиналась от ватерлинии, переламывалась на верхнем крае бортового броневого пояса, затем переходила на трубу до прожекторной площадки. Третья полоса начиналась от ватерлинии, переламывалась в верхней части корпуса и заканчивалась на уровне дальномера кормового поста управления огнем. Нос и корма окрашивались в темно-шаровый цвет с белой имитацией волновой поверхности воды, что обеспечивало оптическое уменьшение длины корабля до размеров крейсера. Остальная часть корпуса и надстройки оставались окрашенными в светло-шаровый цвет, а колпак трубы в серебристо-шаровый. В носовой и кормовой части палубы изображались краской национальные флаги со свастикой.
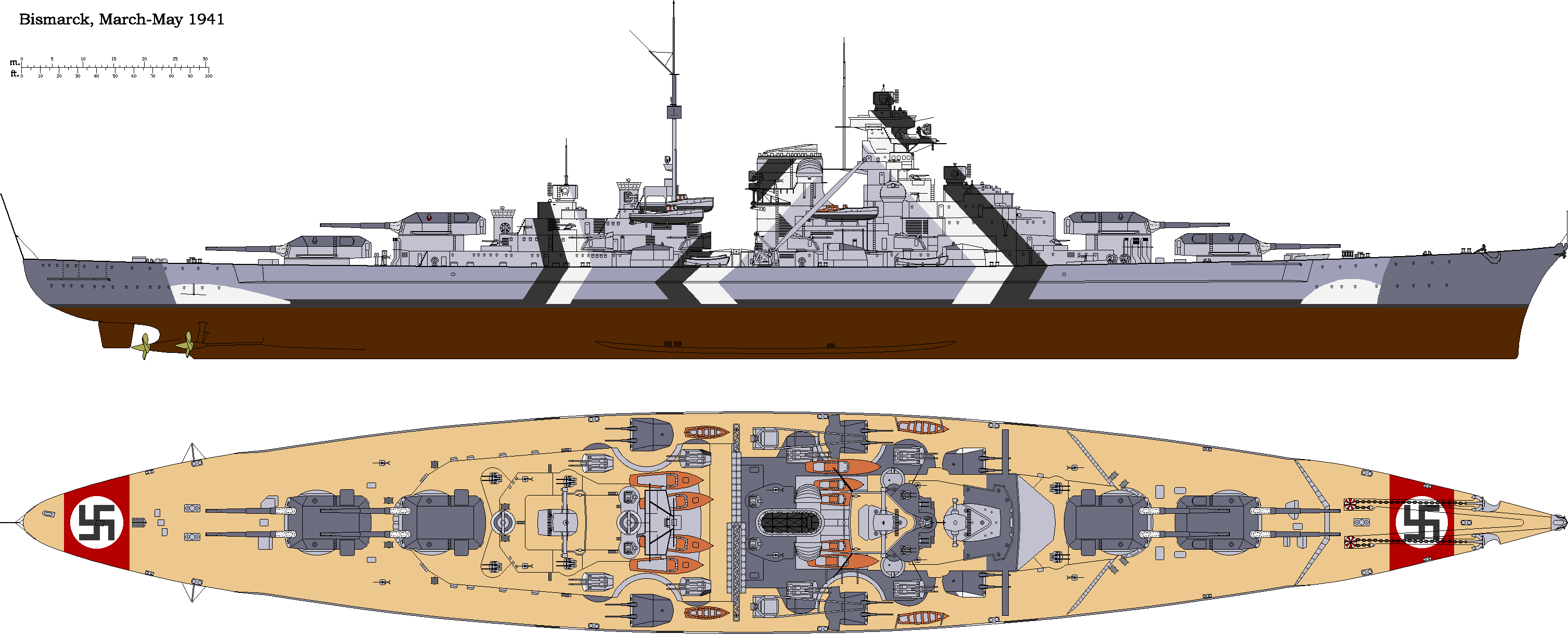
После 18 марта 1941 года окраска защитных ограждений надстроек по обеим бортам меняется на темно-шаровый цвет.
Примерно с 13 по 25 апреля 1941 года корпус сохранял ту же камуфляжную окраску, но крыши орудийных башен имели красный цвет. Вероятно, они выкрашивались только на время маневров на Балтике.
С 25 апреля до 16 мая 1941 года корабль временно имел защитную, темно-шаровую окраску. Точно также окрашены башни главного и среднего калибра.
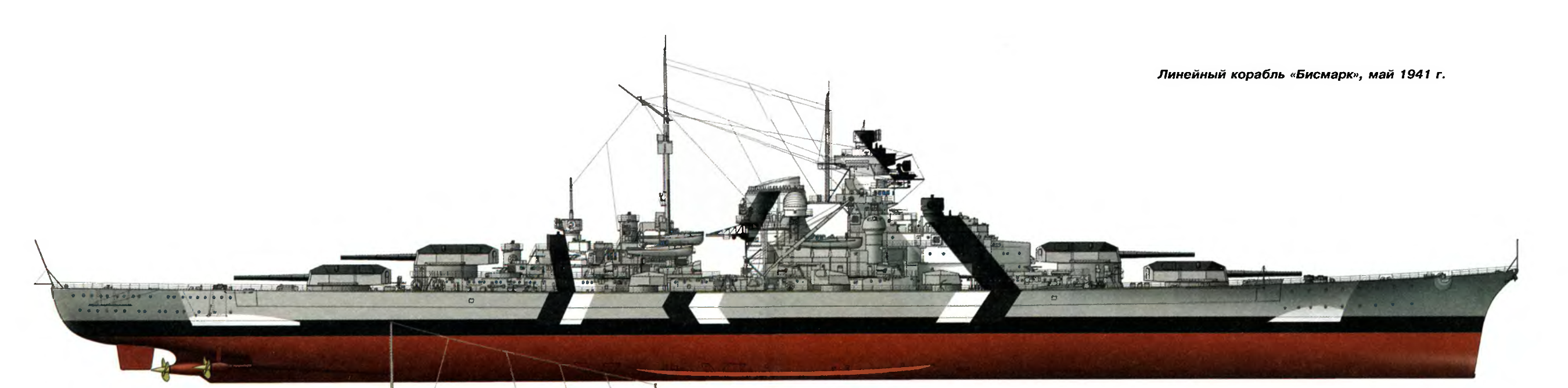
С 16 до 20 мая 1941 года - приготовление к операции "Rheinubung". В светло-шаровый цвет перекрашены скошенные стенки башен главного и среднего калибров.
20-21 мая 1941 года (вхождение в Гримстад-фьорд) - начата закраска маскировочных полос на носовой и кормовой надстройках. Крыши орудийных башен главного и среднего калибров остались темно-шарового цвета, точно так же, как и ограждения дальномеров и крыши ангаров. Изображения флагов на палубе в оконечностях закрыты брезентом.
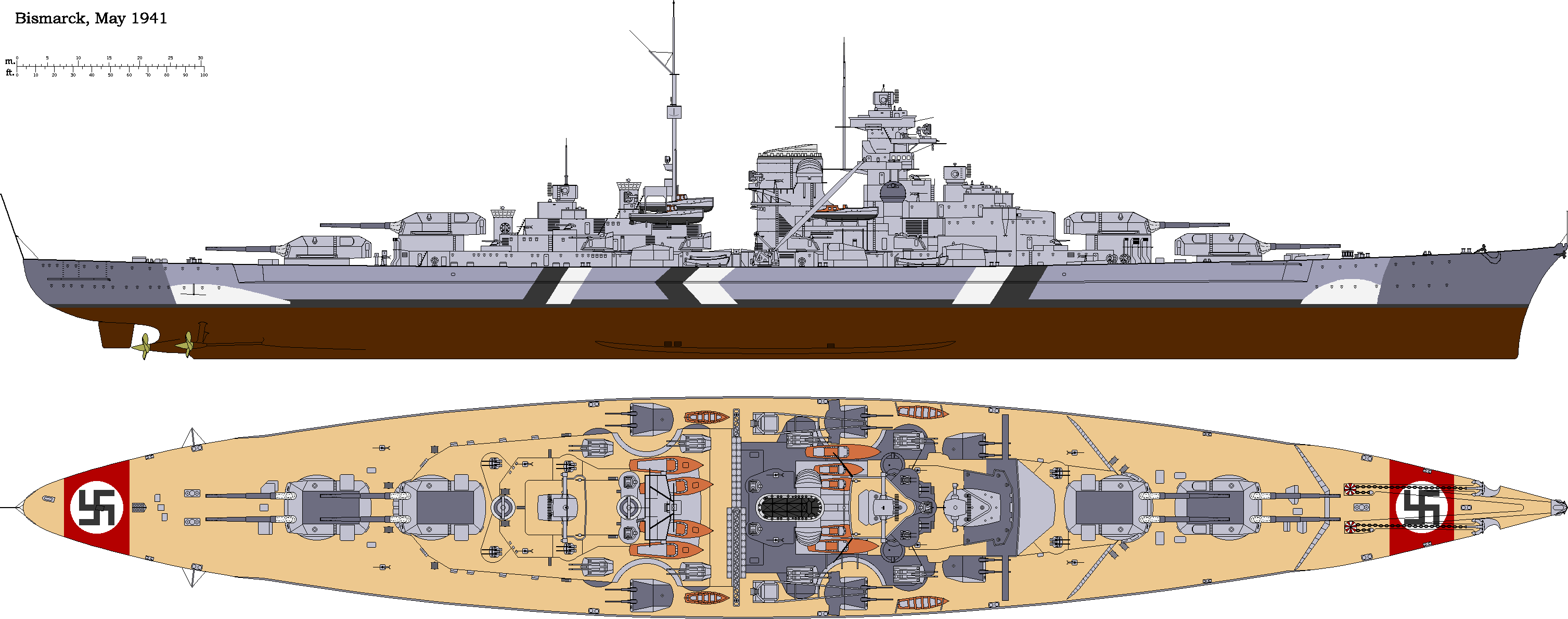
21-26 мая 1941 года - весь корпус корабля светло-шарового цвета, за исключением фальшивой носовой волны. Хотя черные полосы камуфляжа уже закрашены светло-шаровым цветом, но они все же проступают сквозь тонкий слой краски.
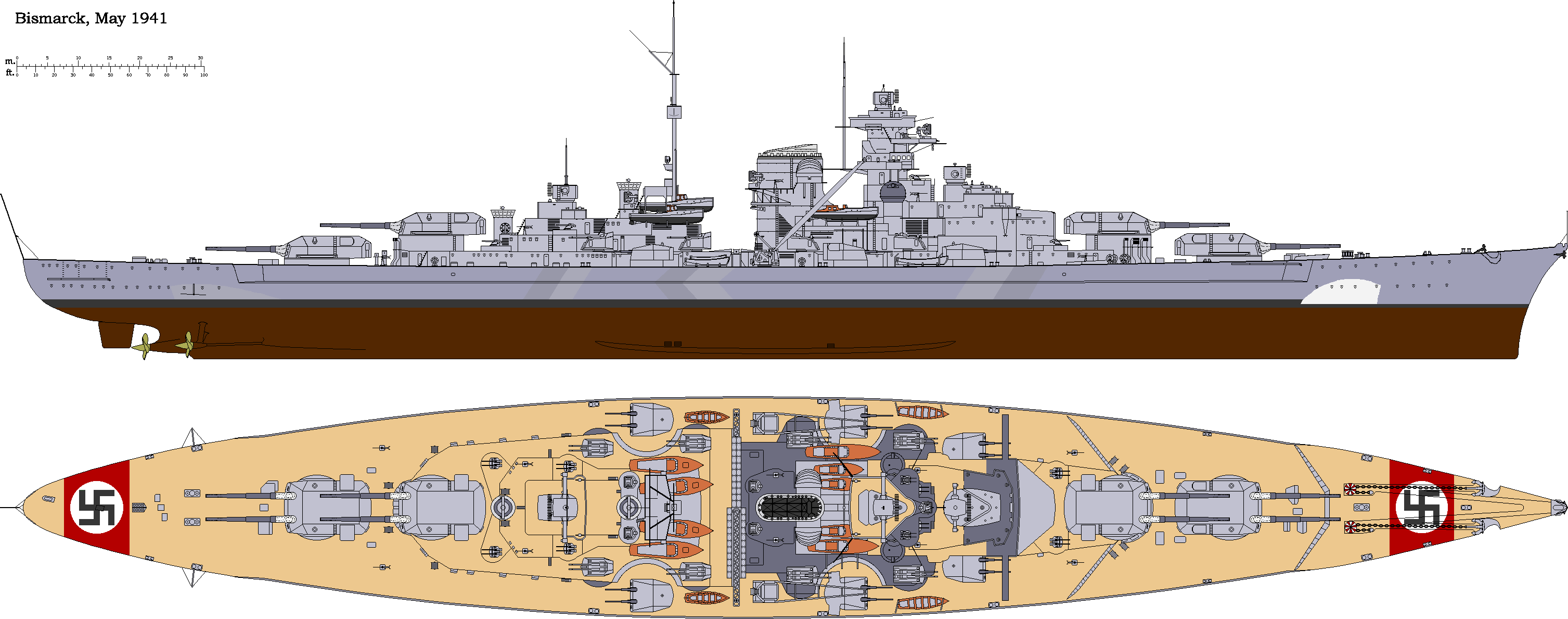
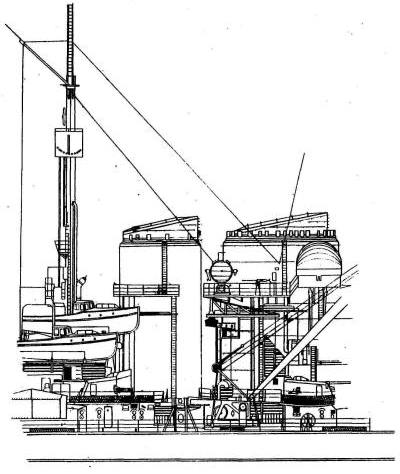 25 мая 1941 года на линкор хотели установить фальшивую дымовую трубу, для того, чтобы он был похож на британский "Prince Of Walles", но до этого не дошло.
25 мая 1941 года на линкор хотели установить фальшивую дымовую трубу, для того, чтобы он был похож на британский "Prince Of Walles", но до этого не дошло.
26-27 мая 1941 года - крыши башен главного и среднего калибра выкрашены в желтый цвет, ограждения орудийных дальномеров остались темно-шаровыми, тоже крыши ангаров N-2 и N-3. (Утром 26 мая 1941 г. экипаж получил приказ покрасить крыши башен в желтый цвет, но точно неизвестно, насколько этот приказ был выполнен.)
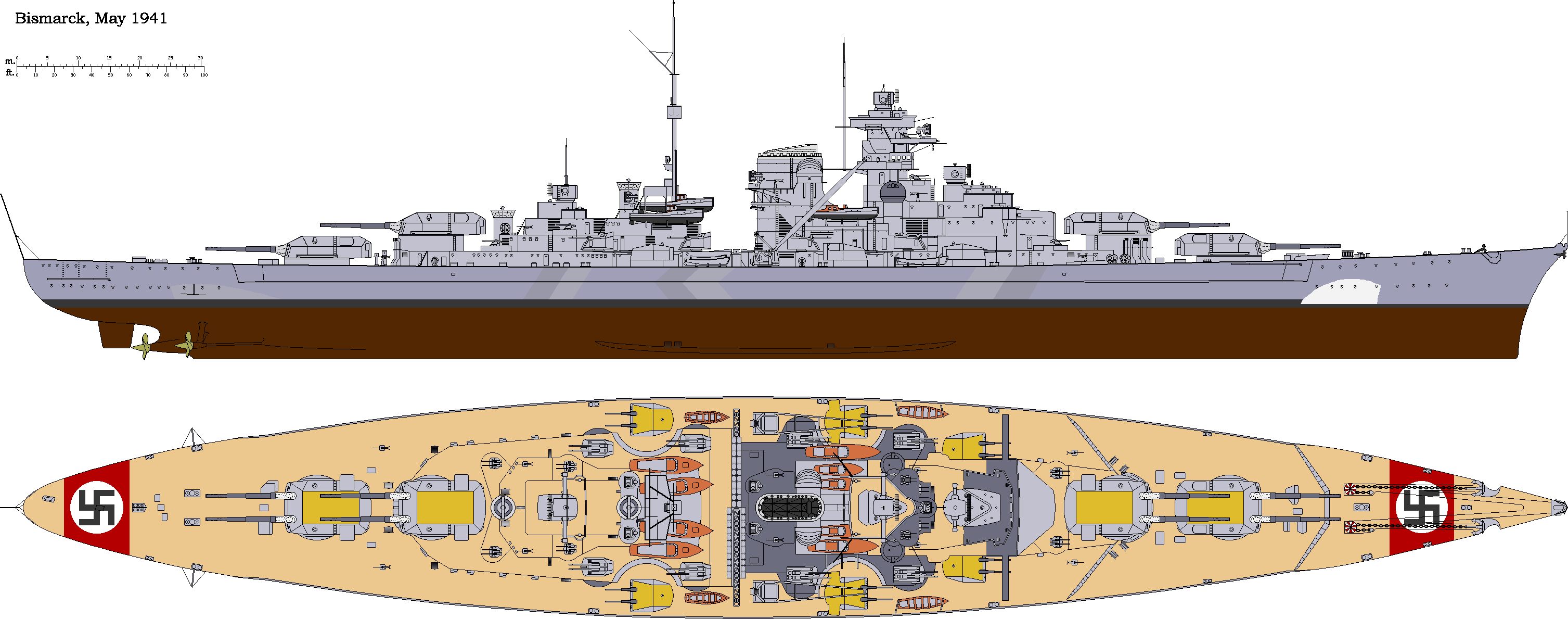
Верх и борта фюзеляжа до плоскости крыла, верхние и боковые поверхности поплавков, верхние плоскости крыльев и стабилизаторов уровня окрашены в виде геометрического камуфляжа в двух оттенках зеленого цвета - чернозеленый-голубой (RLM.72) и темнозеленый-голубой (RLM.73). Нижняя сторона фюзеляжа, крыльев и поплавков - голубовато-серая (RLM.65). Лопасти пропеллера - черные. Кабина внутри зеленовато-серая.
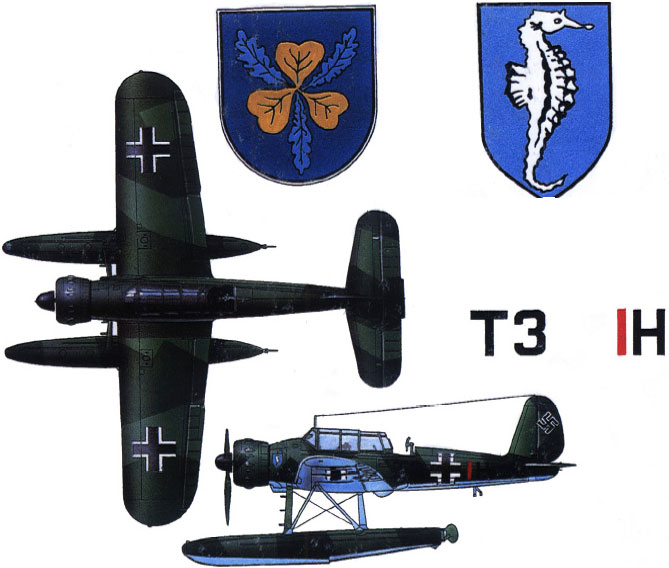
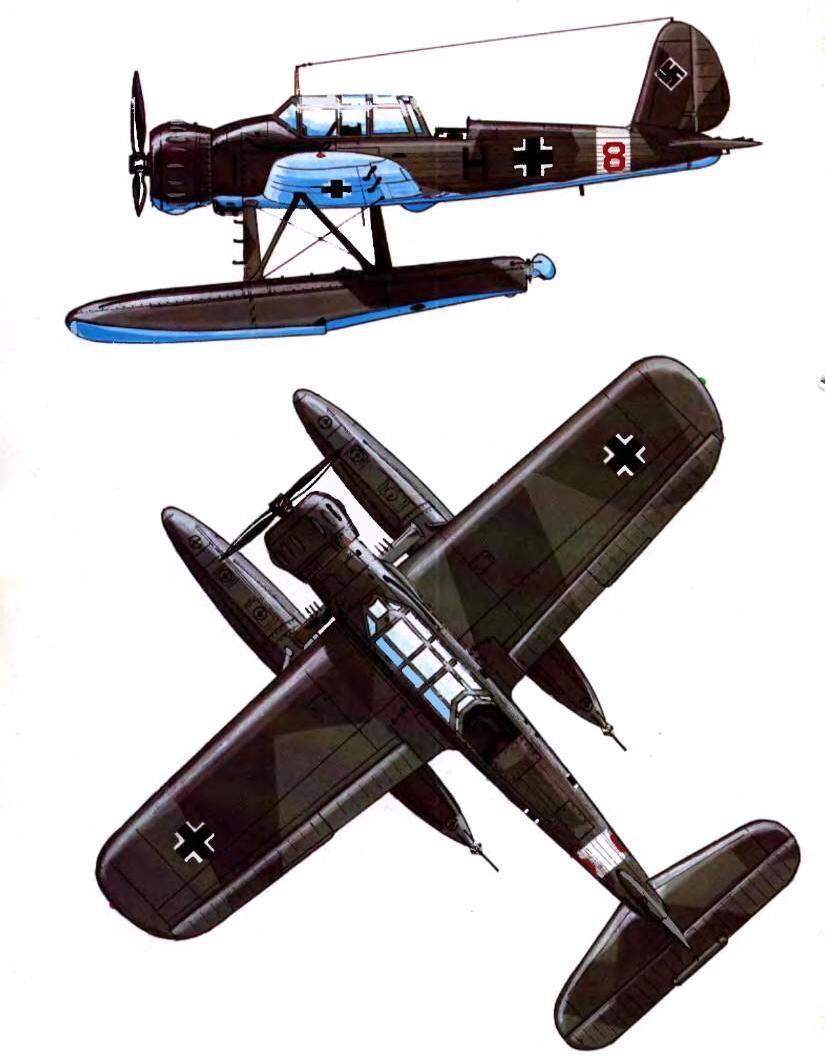
Изменения в вооружении и оснащении
Схемы окраски:
Испытания и боевая подготовка, 1941 г: после вступления в строй, июль, декабрь.
Схемы первой половины 1942 г. (по прибытии в Норвегию): январь, февраль, март.
Варианты камуфляжа 1942-1944 гг.: май 1942 г., июнь 1942 г., июль 1942 г., сентябрь 1942 г., июль 1943 г., март 1944 г.
Схема окраски последнего периода службы: в июле 1944 г.
Изменения в вооружении и оснащении.
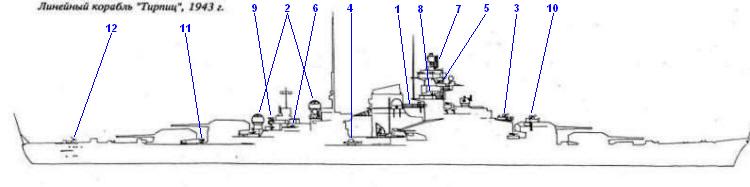
Второй корабль серии находился в строю дольше, соответственно, число модернизаций на нем было больше. Изначально "Tirpitz" не имел соединительной платформы между фок-мачтой и трубой, она была добавлена вскоре после вступления в строй (1). "Tirpitz" вошёл в строй без дальномера на башне "Anton" и, в отличие от "Bismarck", имел полусферические колпаки на всех зенитных директорах (2).
В июле 1941 г. зенитное вооружение усилили четырьмя дополнительными 20-мм автоматами на носовой надстройке перед ходовым мостиком (3); в сентябре установили торпедные аппараты (4), а зенитное вооружение было усилено четырьмя 20-мм "фирлингами" — двумя на прожекторной площадке башенноподобной надстройки (5) и двумя на кормовой надстройке между зенитными дальномерами "С" и "D" (6). После этого линкор нес 4 счетверенных и 14 одиночных 20-мм автоматов: всего 30 стволов.
Зимой 1941/42 г. на верхнем КДП был установлен радар FuMO 27 (7). Два дальномера на адмиральском мостике получили защитные колпаки, возможно, в расчете на холодную арктическую погоду (8). Одинарные 20-мм автоматы на площадке дымовой трубы заменены на счетверенные.
В ходе боевых действий зенитное вооружение "Tirpitz" продолжало усиливаться "фирлингами". В мае 1942 г. были добавлены еще две такие установки: один заменил четыре одиночных 20-мм автомата перед мостиком (они были перенесены на кормовую надстройку (3→9), другой установили на огороженной площадке на крыше башни "Bruno" (10). Общее число 20-миллиметровок достигло 44 (8х4 и 12х1).
В марте 1943 г., к моменту окончания первого ремонта в Тронхейме, на нём появились еще две счетверенных 20-мм установки: ими заменили одинарные автоматы, стоявшие на верхней палубе у башни "Dora" (11). Последние при этом перенесли дальше в корму (12). К лету 1944 года число 20-мм автоматов достигло своего апогея — 78 стволов, в том числе 18 "фирлингов" (по официальным источникам, летом 1944 г. "Tirpitz" нес 16 "фирлингов" и 16 одиночных 20-мм установок, что давало в сумме 80 стволов). Прожекторы на площадках у дымовой трубы были демонтированы, чтобы освободить место для дополнительных автоматов.
Было сокращено авиационное вооружение, к тому времени практически не имевшее для корабля боевой ценности. Из трех ангаров в рабочем состоянии был сохранен только один одноместный, а в остальных были размещены дополнительные служебные помещения.
Примерно тогда же в экспериментальных целях на зенитный дальномерный пост "С" был установлен радар FuMO 213, однако к моменту гибели корабля его сняли. Были проведены некоторые другие усовершенствования радарного оборудования.
Во время постройки в конце 1940 г. для маскировки от английских воздушных налетов "Tirpitz" был закамуфлирован под бараки и портовые сооружения.
После вступления в строй линкор имел стандартную окраску: темно-серый корпус, светло-серые надстройки и башни.
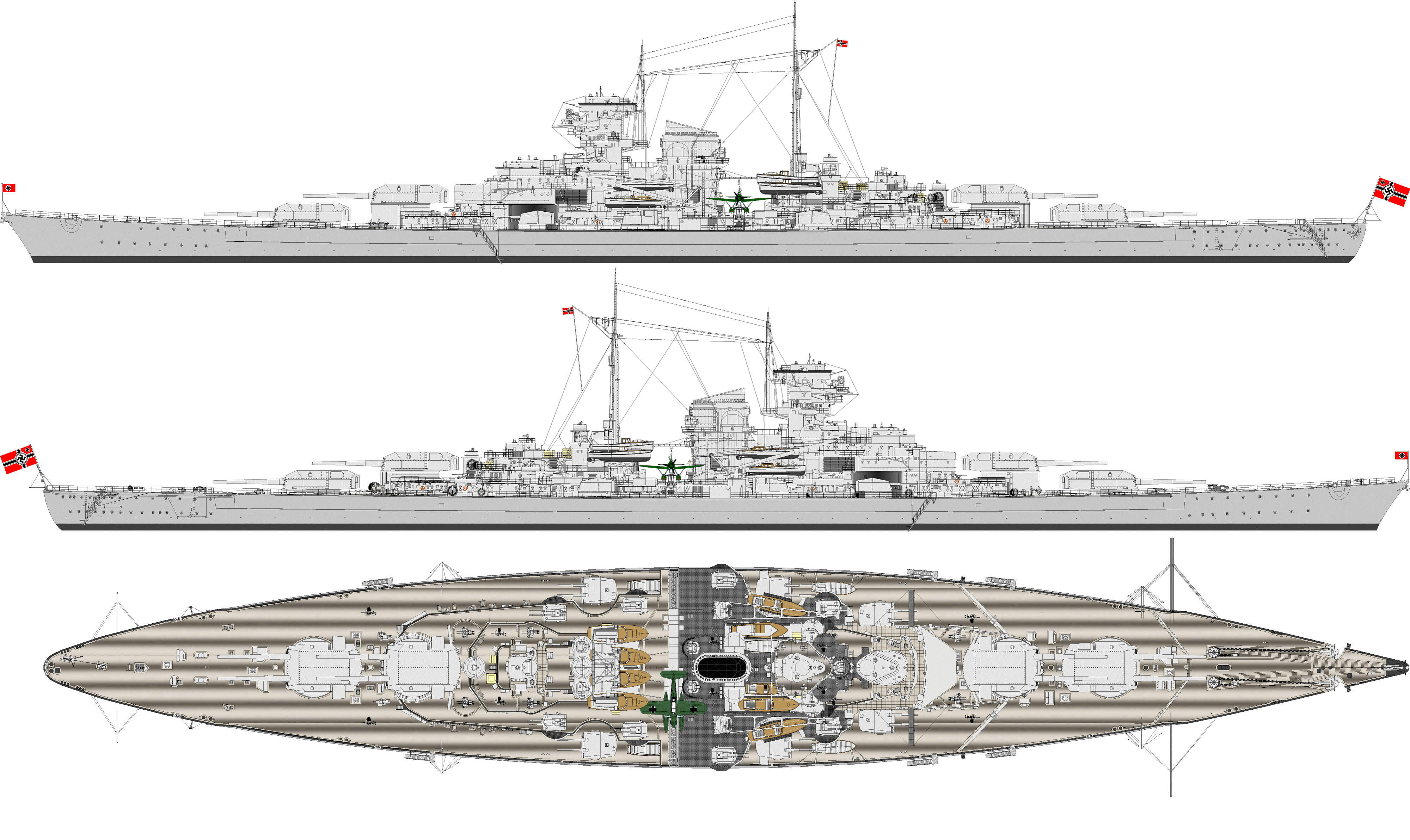
В июле 1941 г. крыши башен главного калибра и орудийные стволы, а также козырек трубы были окрашены в темный цвет.
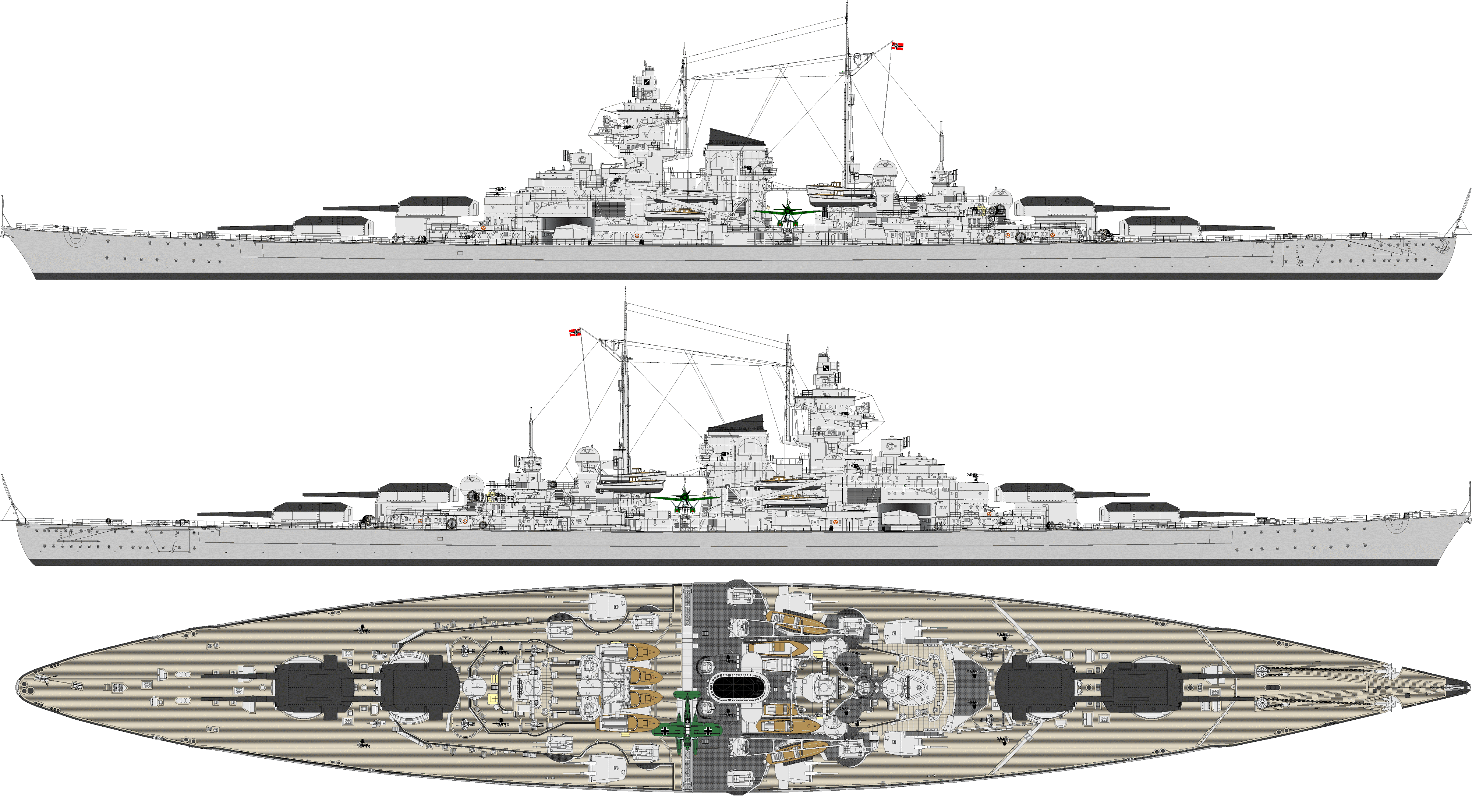
В декабре 1941 г. башни главного калибра были накрыты светло-серым брезентом.
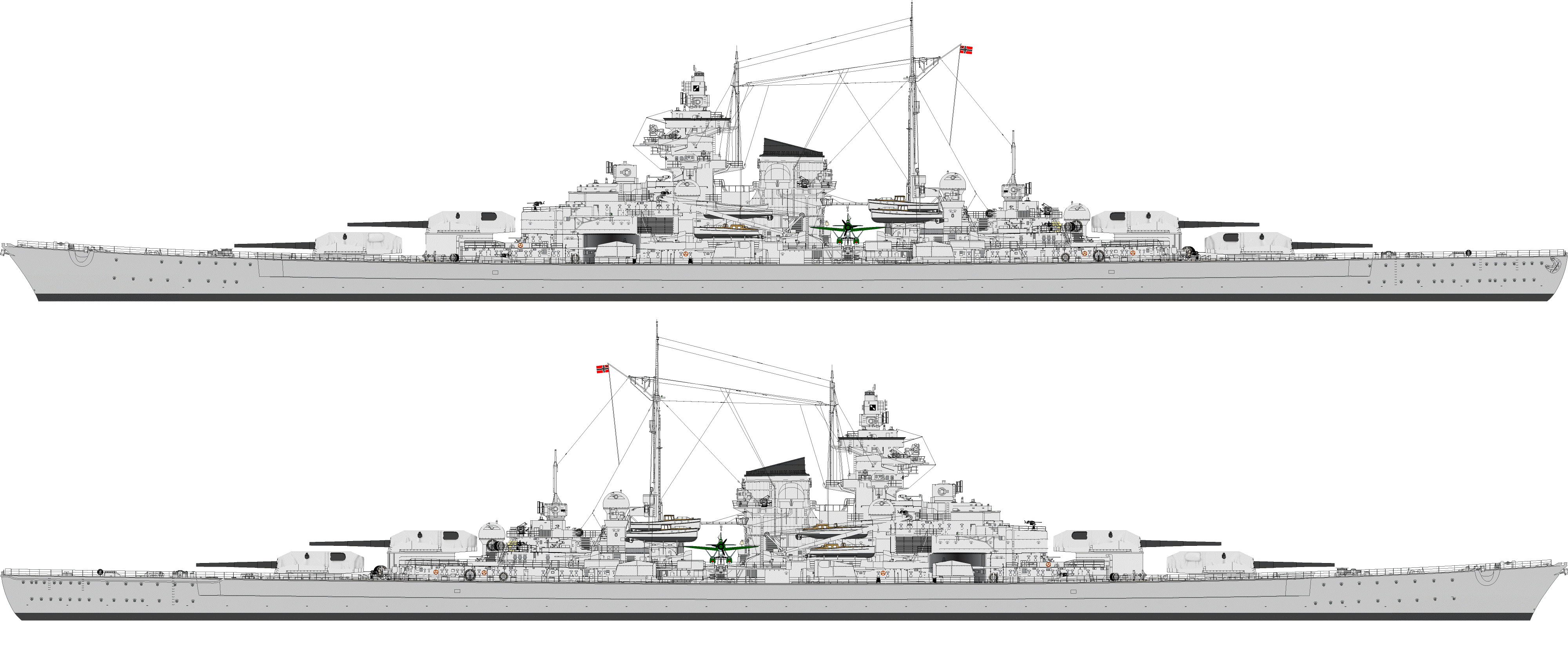
В январе 1942 г., сразу по прибытии в Норвегию был замаскирован деревьями, размещёнными по палубе в оконечностях, снег с палубы намеренно не убирался.
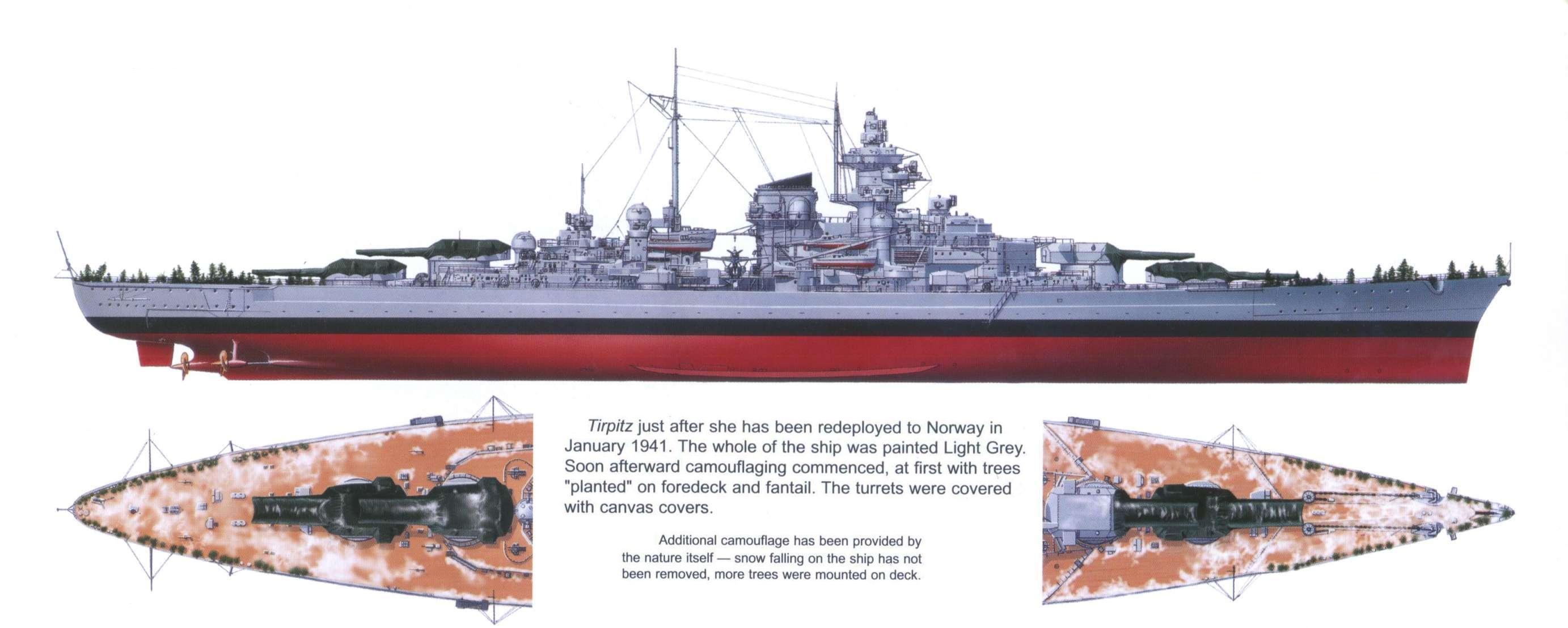
В феврале 1942 г., уже при нахождении в Норвегии, оконечности "Tirpitz" получили темную окраску. Такая схема оптически укорачивала корабль и создавала впечатление, что он имеет меньшие размеры или находится дальше, чем в действительности. Башни главного калибра были вновь перекрашены в светло-серый.
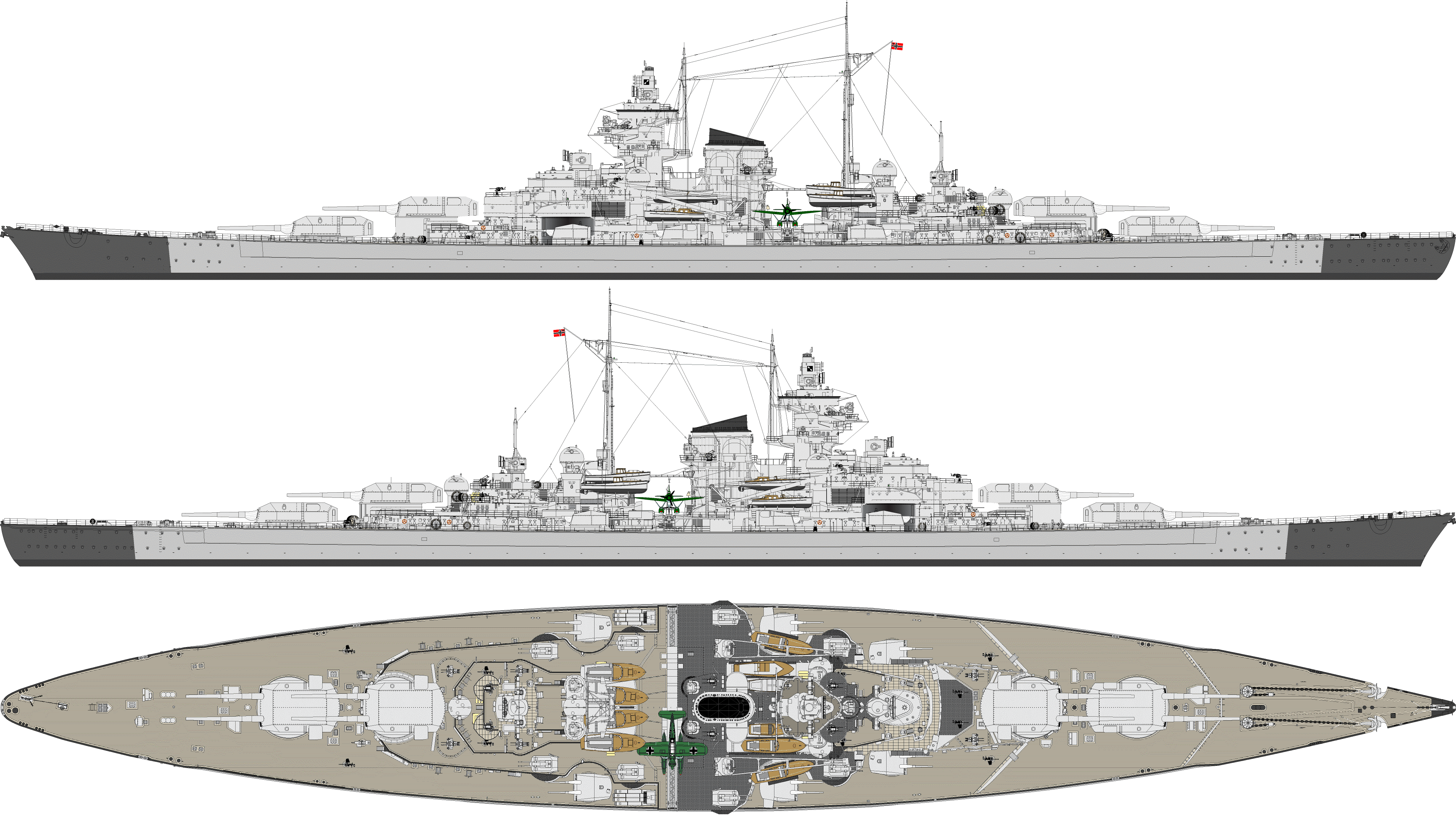
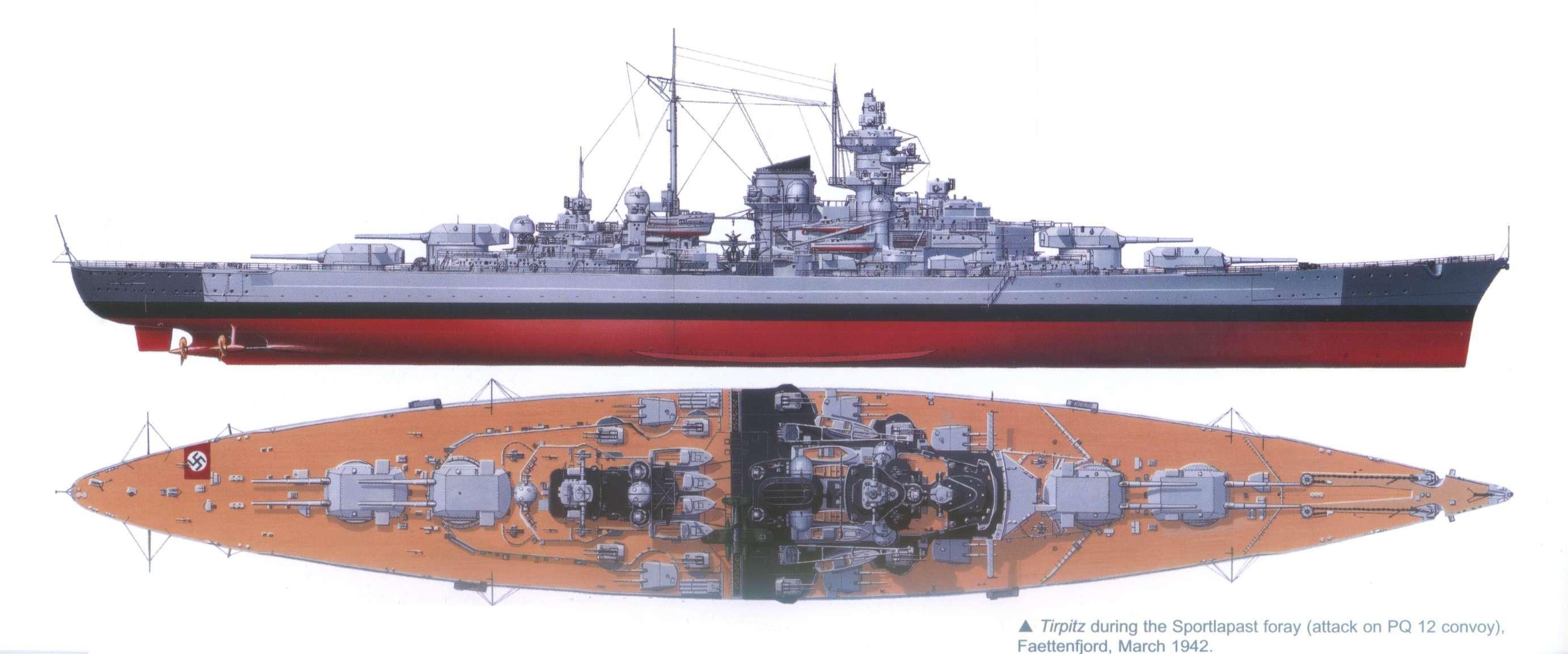
В марте 1942 г. башни и стволы ГК на стоянке маскировали чёрным брезентом.
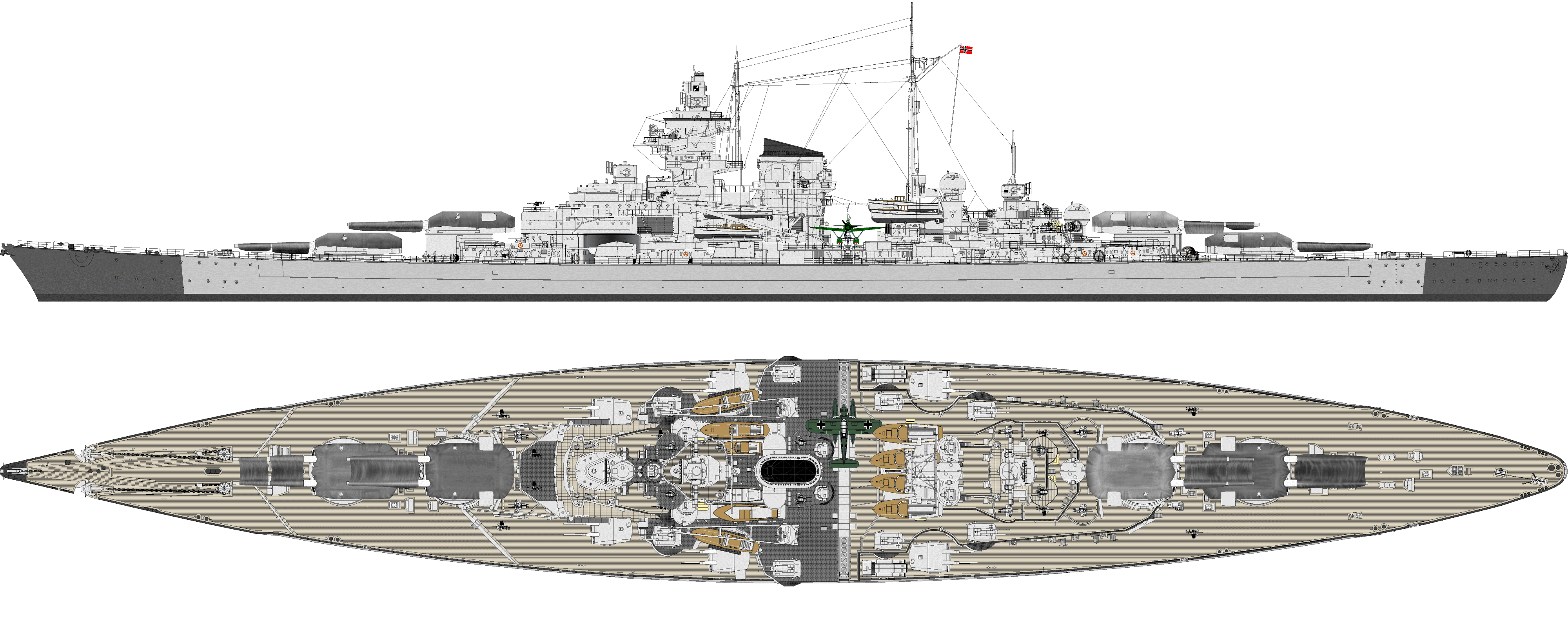
В мае 1942 г. надстройки и башни частично были окрашены зеленым камуфляжем.
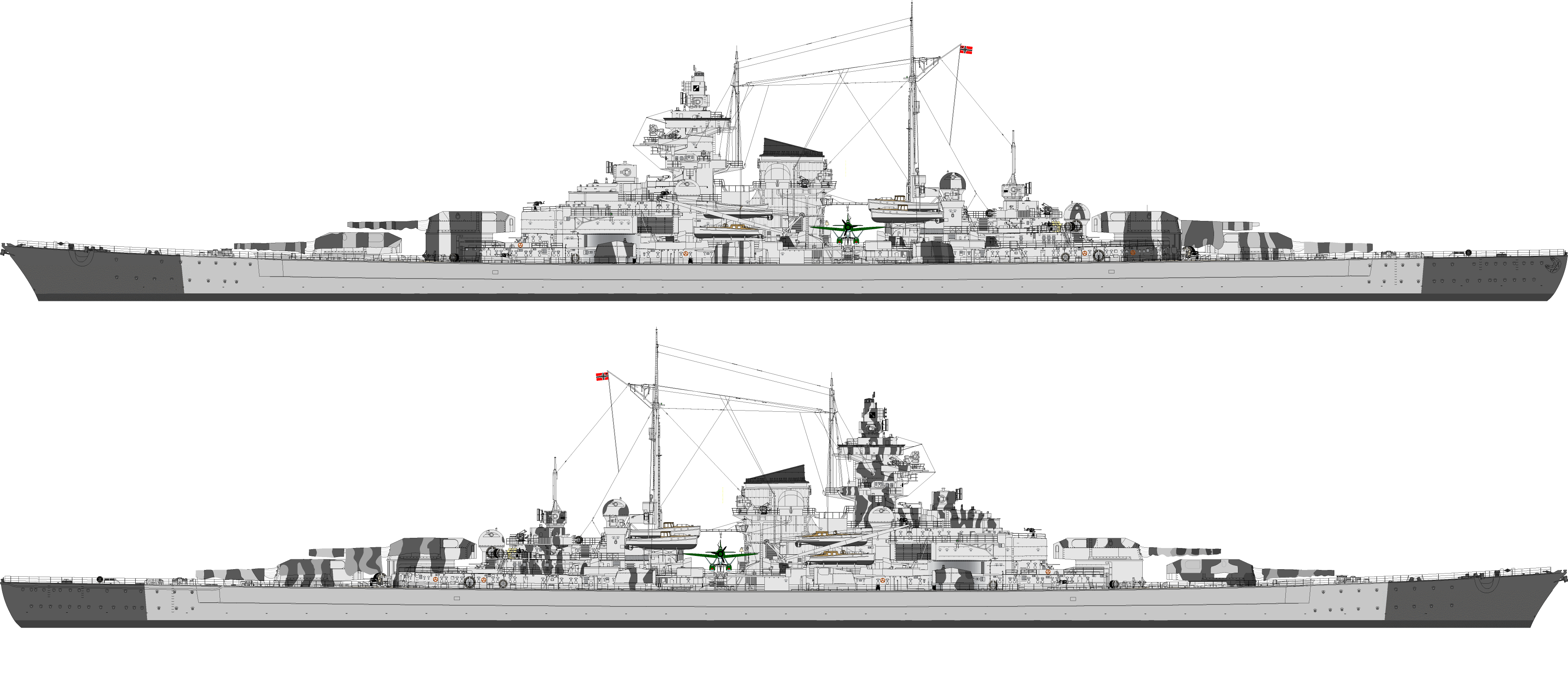
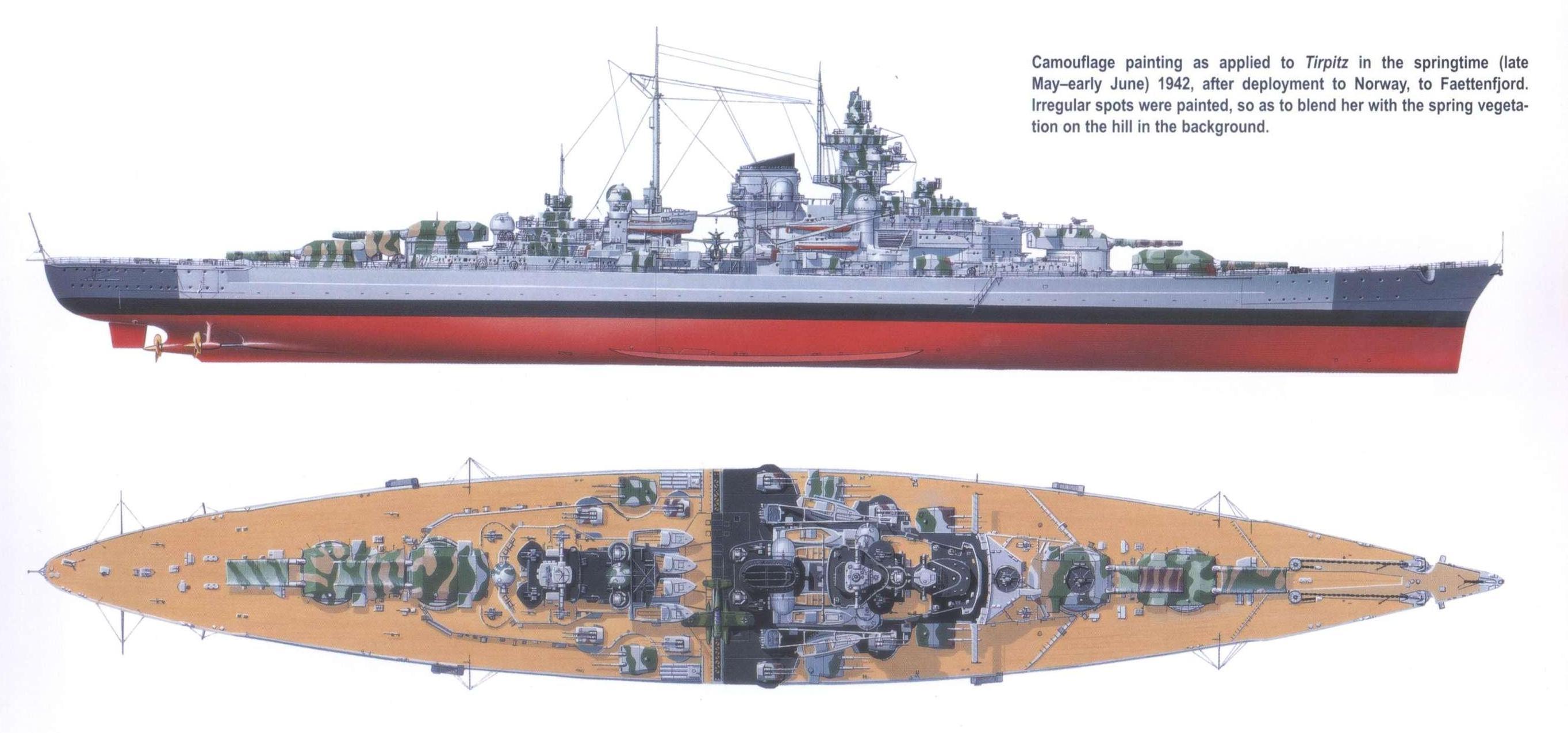
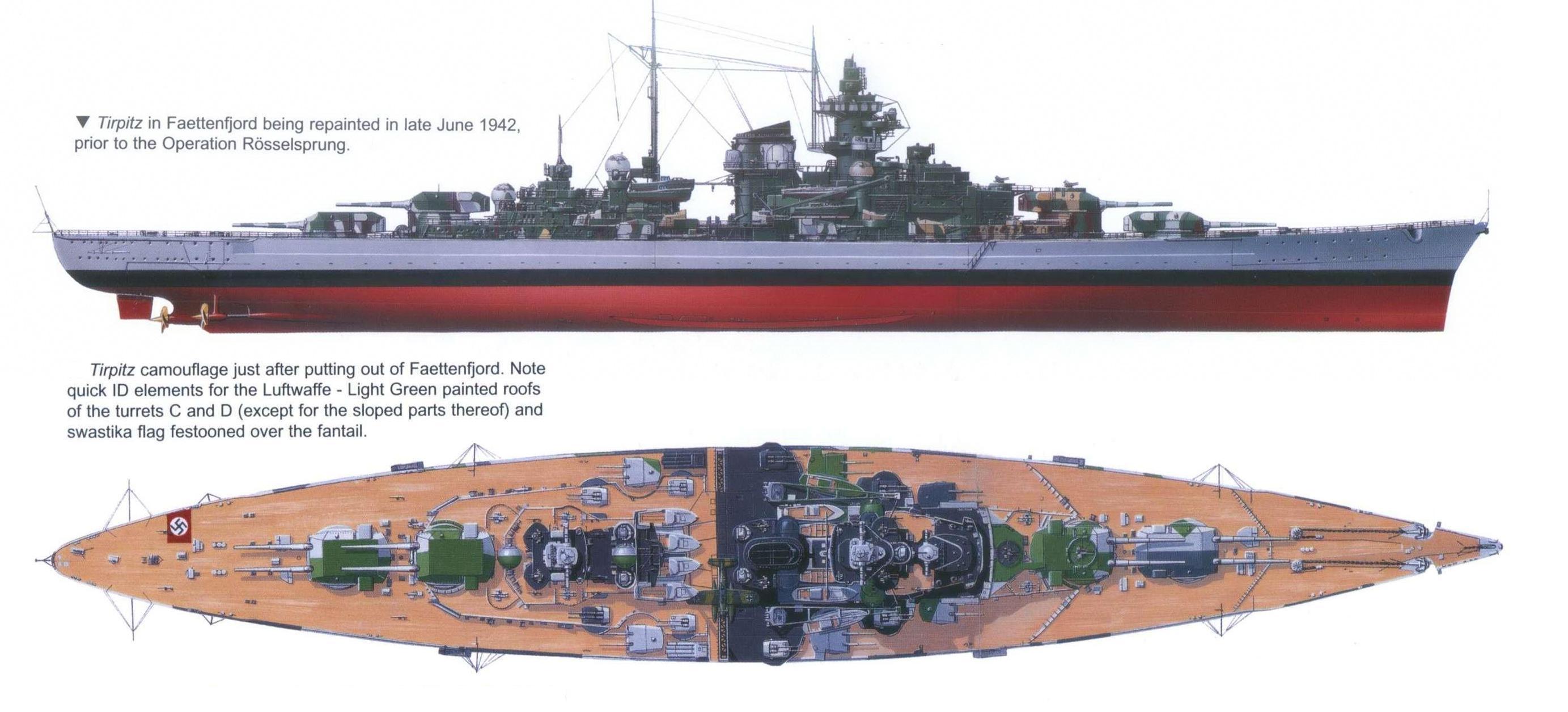
В июне 1942 г. корабль получил более полную маскировочную окраску для стоянки в норвежском фиорде. Надстройка и башни были полностью закамуфлированы с преобладанием зеленого цвета. Кроме того, правый борт был также закамуфлиован зеленым и коричневым цветом, а оконечности покрашены в очень светлый тон. Левый борт, которым корабль стоял к берегу, не перекрашивался.
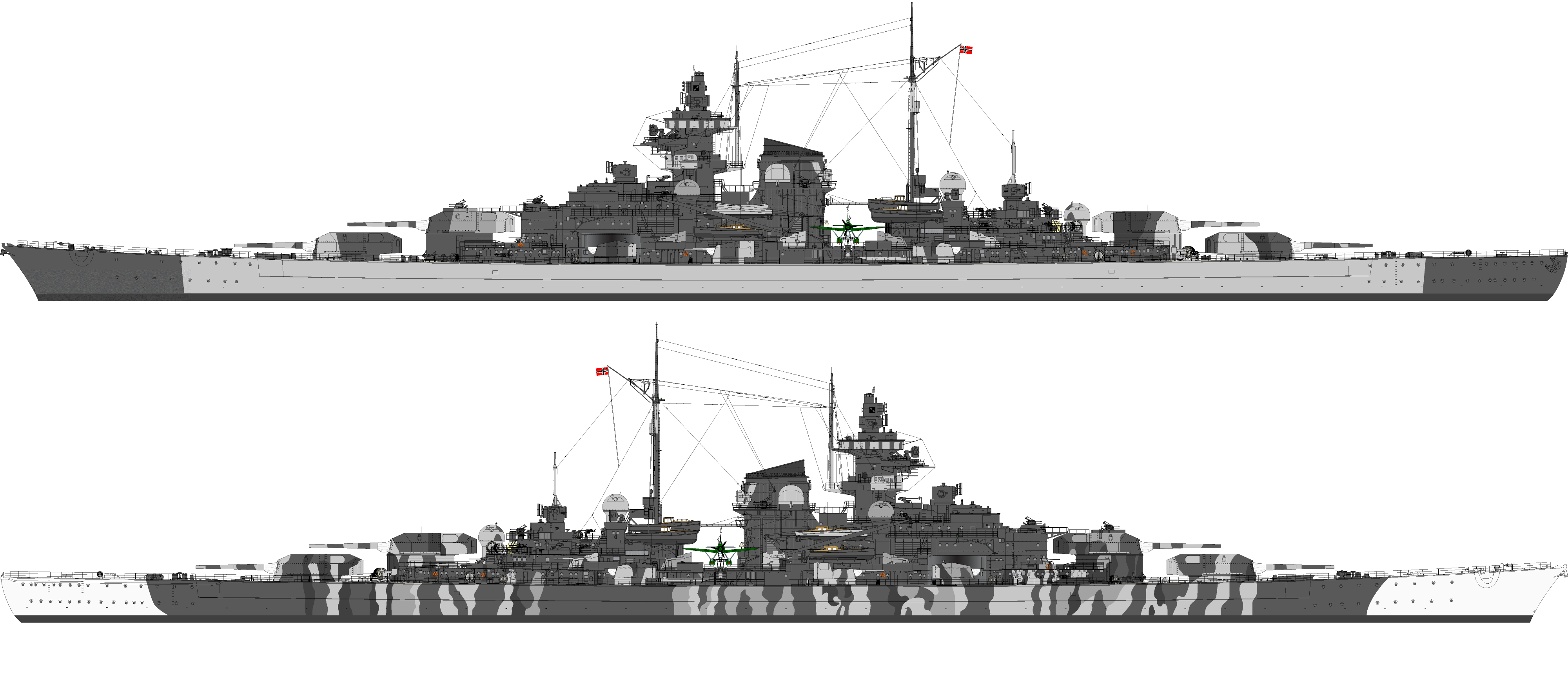
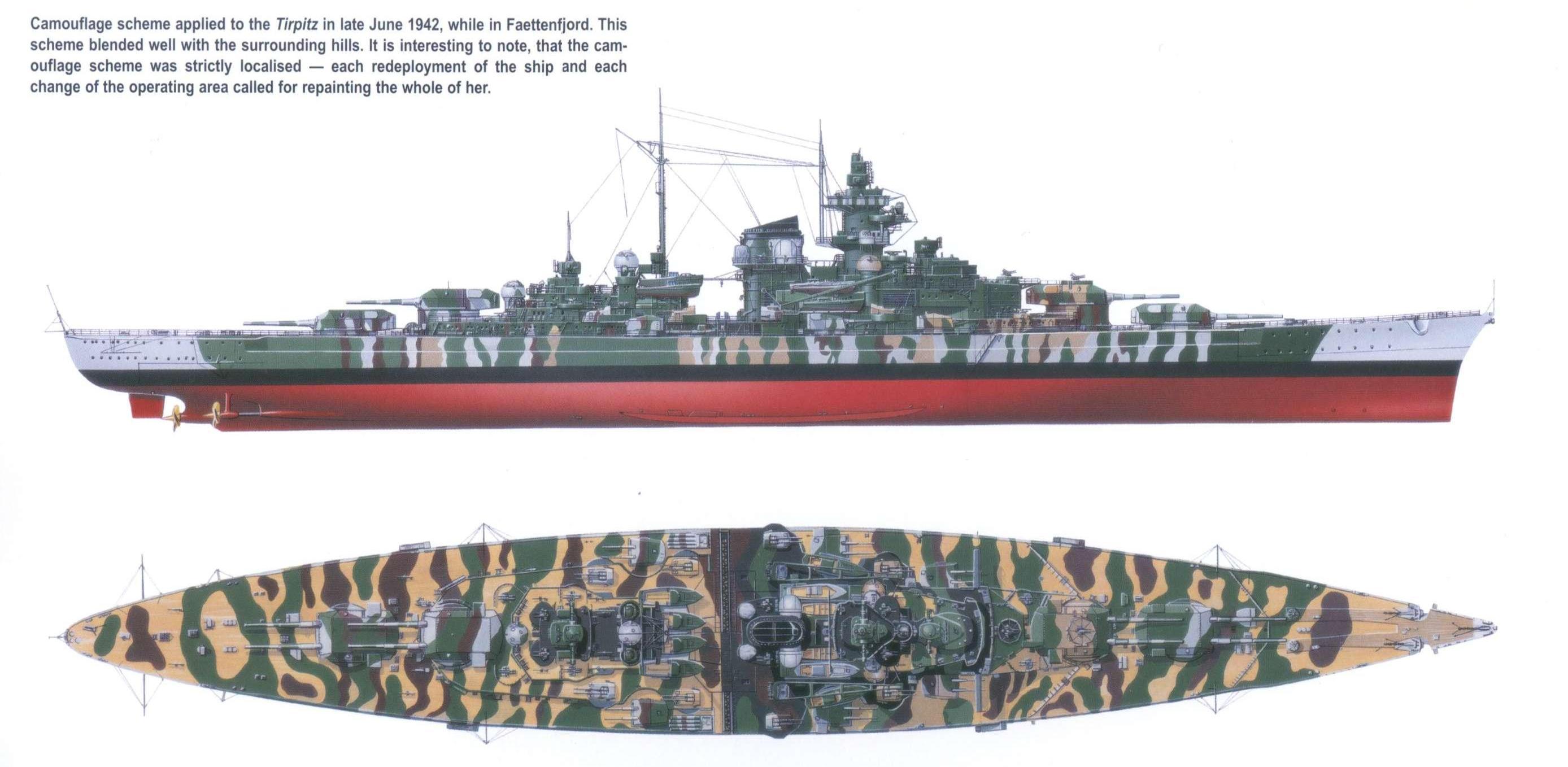
Перед операцией "Рёссельшпрунг" в июле 1942 года "Tirpitz" получил камуфляжную окраску для действий в северных широтах со светло-серыми и темно-серыми полосами в средней части корпуса и замаскированными очень светлым цветом оконечностями.
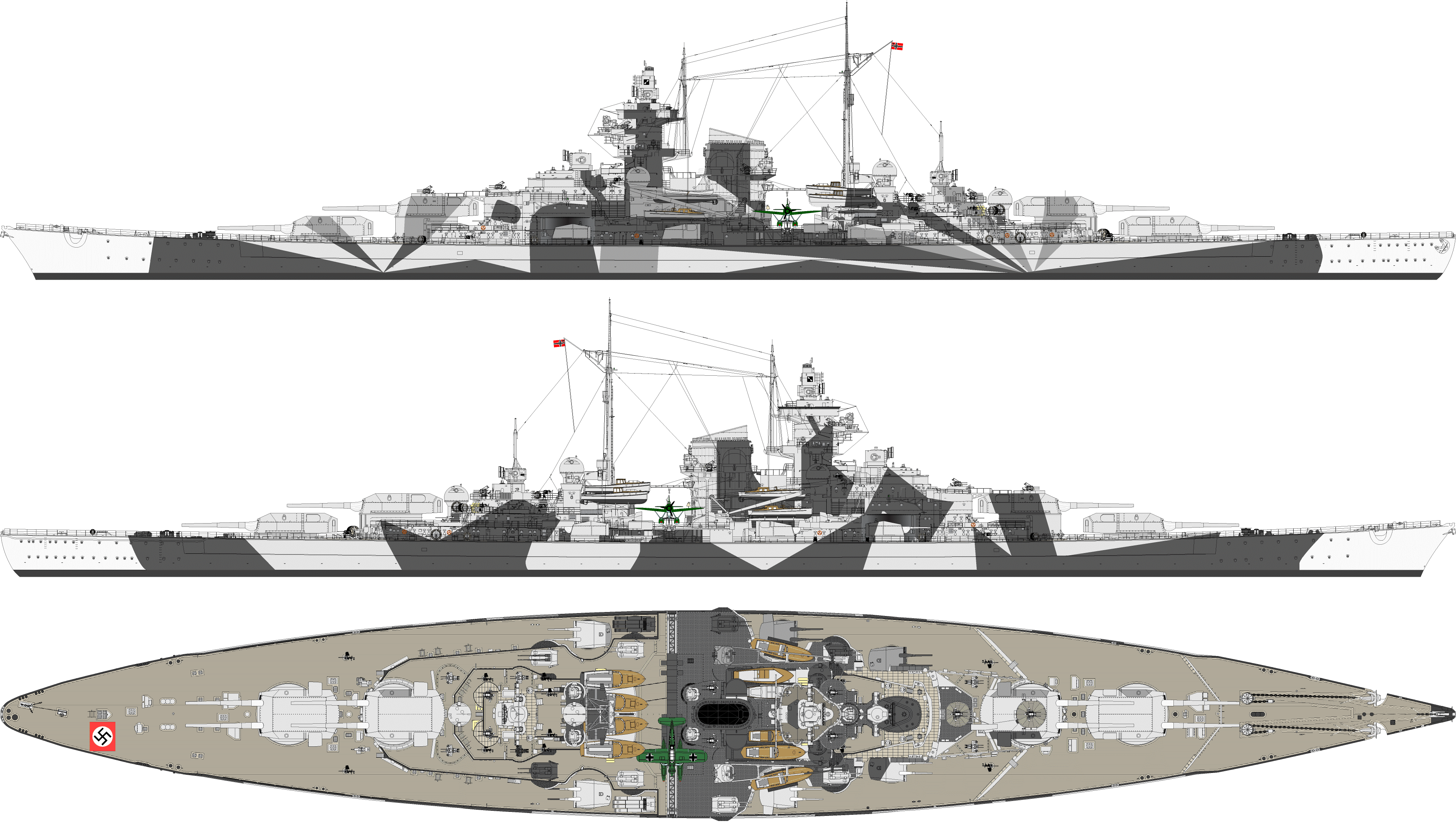
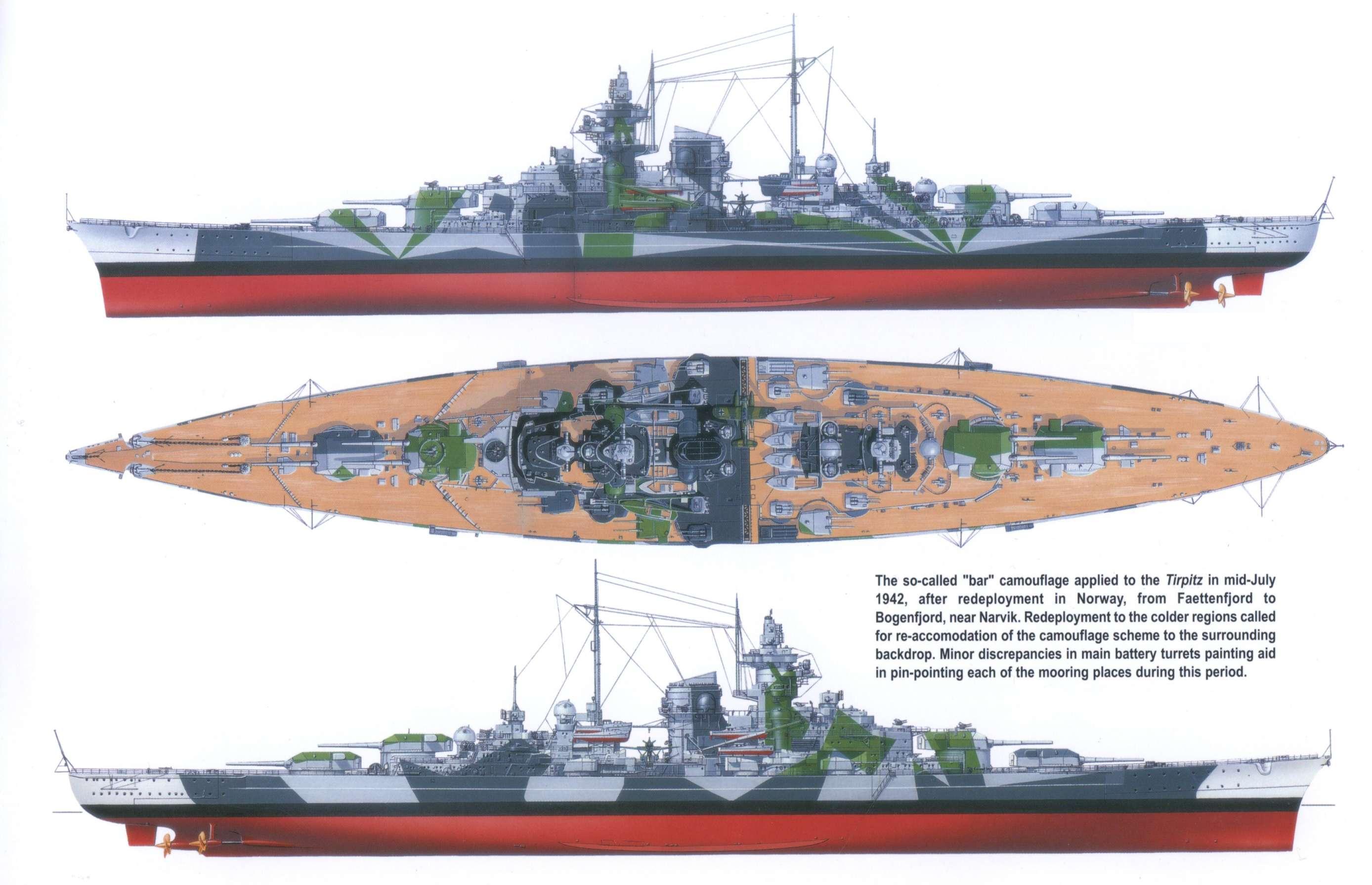
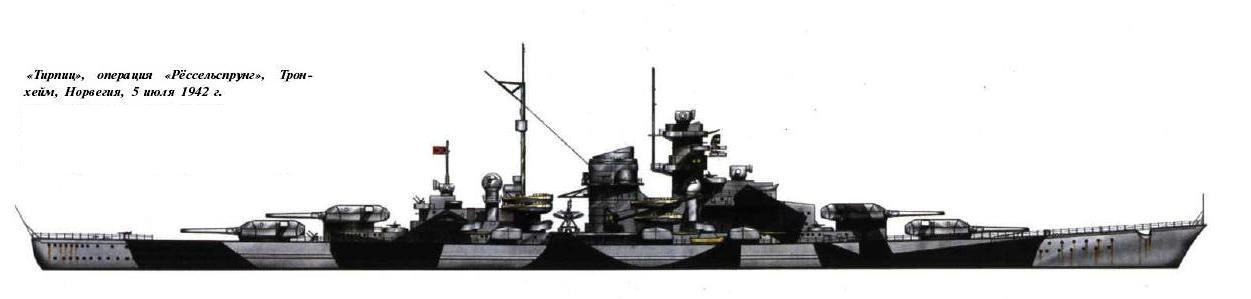
В сентябре 1942 г., на время рейда на Шпицберген, крыши башен были окрашены в красный для опознавания своей авиацией.
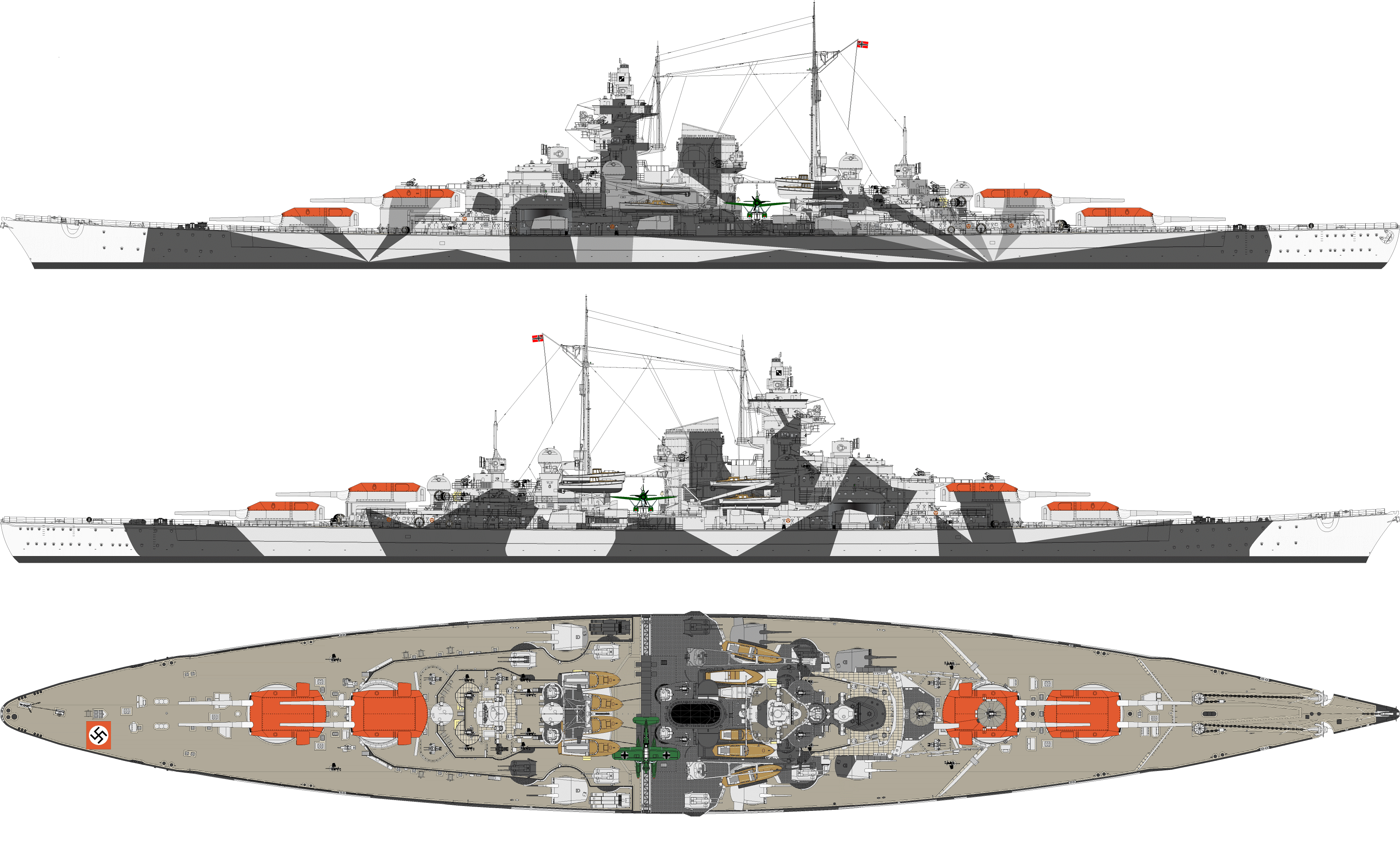
В дальнейшем рисунок камуфляжа менялся, но общая схема оставалась все той же:
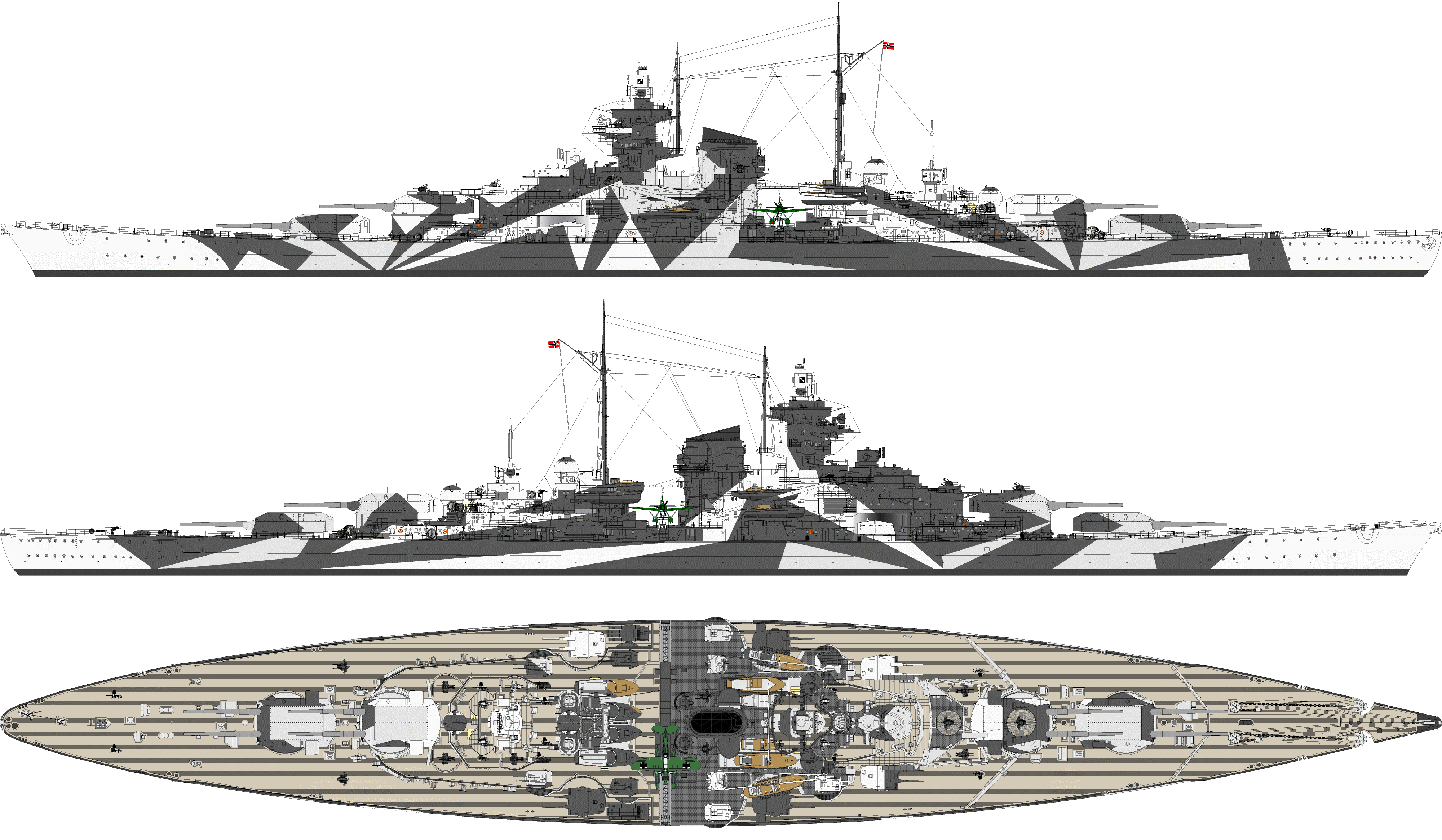
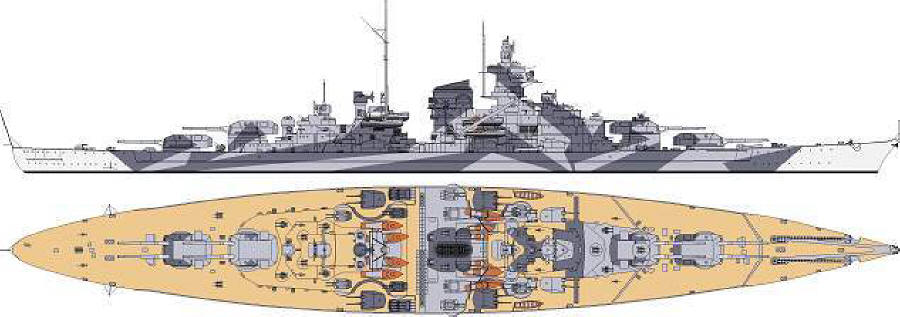
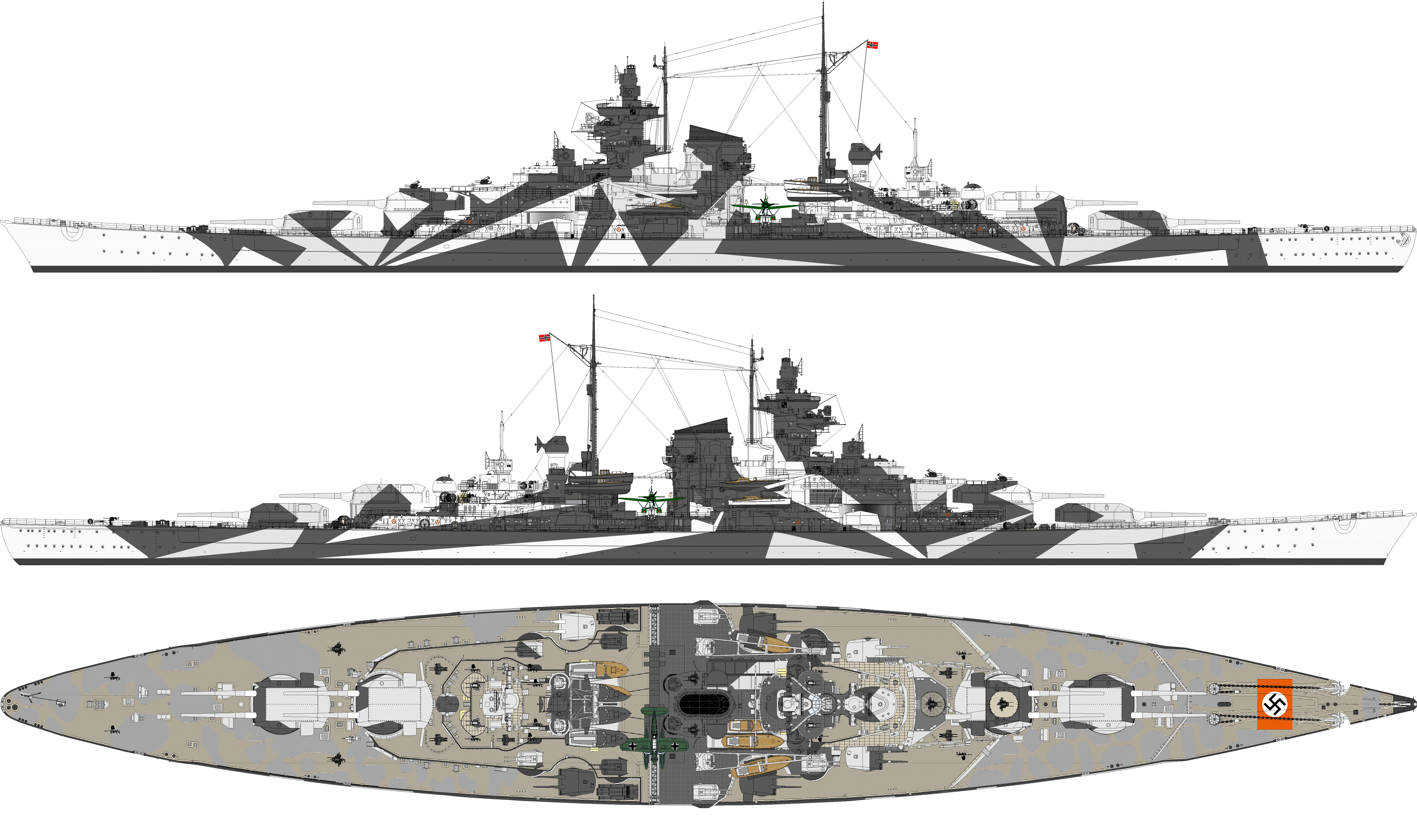
Только в июле 1944 г. схема окраски была изменена — корпус, нижняя часть надстройки и нижние башни были окрашены в очень темный серый цвет, остальная надстройка и верхние башни — в обычный серый, а верх передней надстройки и дальномер — в белый. Такой рисунок камуфляжа корабль сохранил на момент гибели.
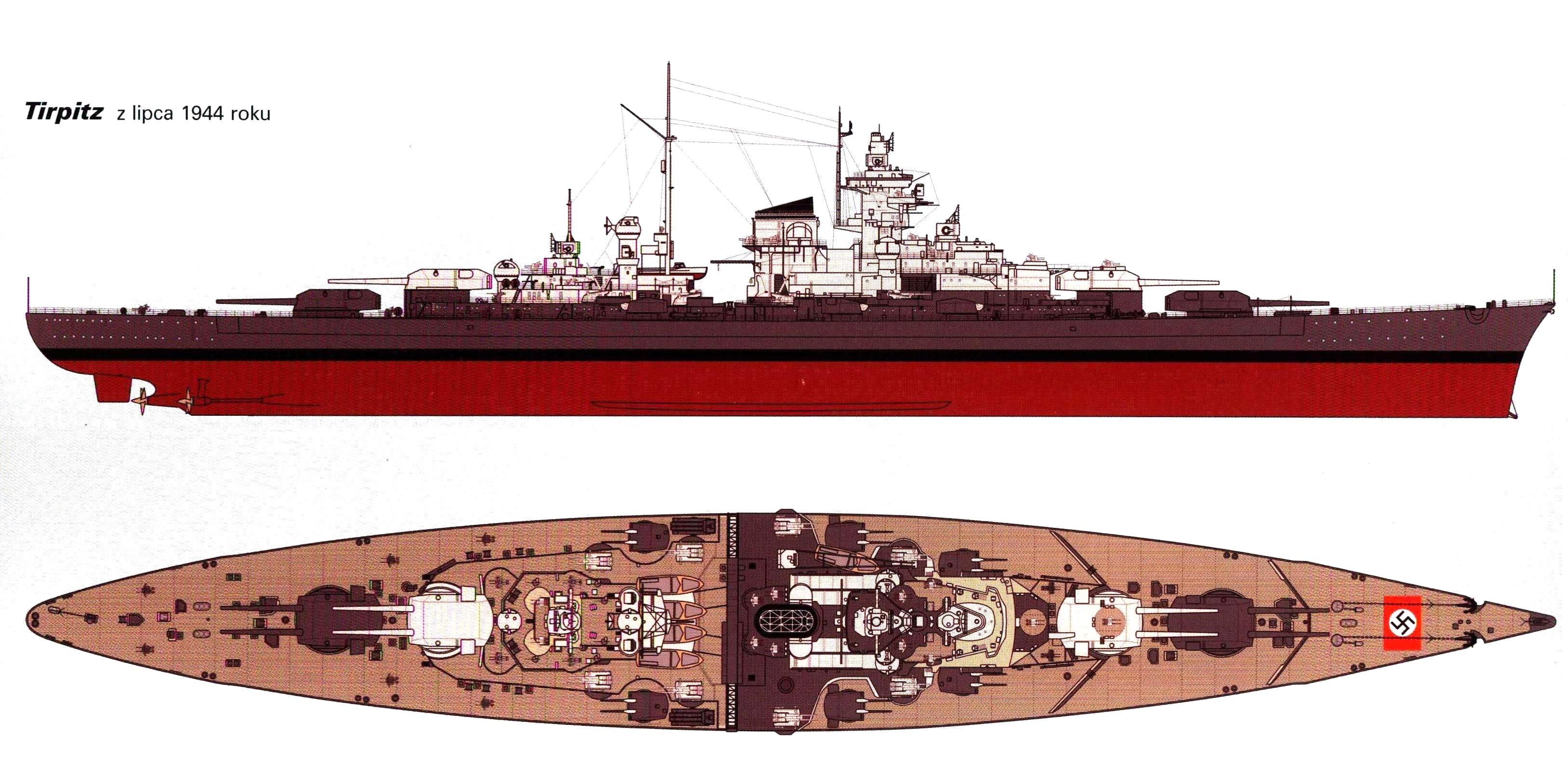
| ИСТОРИЯ СЛУЖБЫ |
|
|
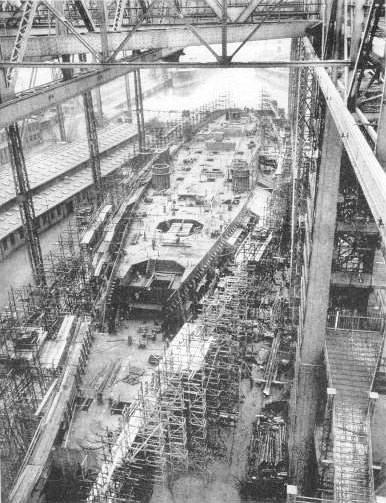 1 июля 1936 года на стапеле N-9 - наибольшем на верфи "Blohm und Voss" в присутствии дирекции предприятия и представителей командования военно-морского флота и Управления кораблестроения был установлен на кильблоки небольшой прямоугольный лист, размером 2 х 9 м. Так была начата постройка корабля, получившего заводской строительный номер 509 и известного нам как "Bismarck".
1 июля 1936 года на стапеле N-9 - наибольшем на верфи "Blohm und Voss" в присутствии дирекции предприятия и представителей командования военно-морского флота и Управления кораблестроения был установлен на кильблоки небольшой прямоугольный лист, размером 2 х 9 м. Так была начата постройка корабля, получившего заводской строительный номер 509 и известного нам как "Bismarck".
В декабре 1936 года были установлены построечные леса и продольные и поперечные помосты. Работы по созданию корабля велись круглосуточно и к октябрю следующего года корпус был сформирован до уровня броневой палубы. Еще продолжались работы на броневых скосах и в носовых отсеках. До конца года были закончены работы по формированию отсеков подводной противоторпедной защиты. В новом, 1938 году, темп работ не замедлился. С января велись работы на броневой палубе, между форштевнем и барбетом башни "А". Заканчивалась установка барбетов носовых башен СК с обоих бортов, монтировалась противоторпедная переборка. В начале весны продолжались примерно "те же работы, но уже были полностью установлены все остальные барбеты СК и заканчивался монтаж барбета ГК "С". А к апрелю уже велись работы на артиллерийской палубе, устанавливались противоторпедные переборки.
В мае 1938 года в штабе Военно-Морских сил Германии ("Kriegsmarine") во время встречи Редера с представителями всех заинтересованных ведомств и фирм было заявлено, что постройку линкора следует ускорить, а спуск на воду произвести в середине марта 1939 года. На окончательную достройку отводилось, не более полутора лет. Предполагалось, что установка, монтаж и наладка котлов займет около года, а полное насыщение помещений энергетической установки планировалось закончить не позднее декабря 1939 года.
 Неожиданное решение Гитлера об изменении сроков окончательной готовности линкоров и ввода их в строй 1 декабря 1940 и 1 января 1941 года внесло смятение и вызвало расстройство графика постройки. Тем не менее по утверждениям строителей кораблей сроки могли быть выдержаны, но лишь при условии своевременной поставки главных механизмов. Однако Управление вооружения указало, что в поставленные Гитлером сроки тяжелая артиллерия, заказ на проектирование которой был выдан в 1934 году, не может быть изготовлена и предложило перенести сроки готовности на 4-5 месяцев. Первая башня ГК, по их мнению должна была бить готова в декабре 1938 года. Тем не менее сроки перенесены не были и, забегая вперед при описании событий, следует сказать, что они оказались выполнены и даже перевыполнены, что достигалось полной мобилизацией всех мощностей верфей на строительство линкоров. Головной корабль был спущен на воду на месяц раньше назначенного срока, а флоту передан с еще большим опережением, составлявшим три месяца.
Неожиданное решение Гитлера об изменении сроков окончательной готовности линкоров и ввода их в строй 1 декабря 1940 и 1 января 1941 года внесло смятение и вызвало расстройство графика постройки. Тем не менее по утверждениям строителей кораблей сроки могли быть выдержаны, но лишь при условии своевременной поставки главных механизмов. Однако Управление вооружения указало, что в поставленные Гитлером сроки тяжелая артиллерия, заказ на проектирование которой был выдан в 1934 году, не может быть изготовлена и предложило перенести сроки готовности на 4-5 месяцев. Первая башня ГК, по их мнению должна была бить готова в декабре 1938 года. Тем не менее сроки перенесены не были и, забегая вперед при описании событий, следует сказать, что они оказались выполнены и даже перевыполнены, что достигалось полной мобилизацией всех мощностей верфей на строительство линкоров. Головной корабль был спущен на воду на месяц раньше назначенного срока, а флоту передан с еще большим опережением, составлявшим три месяца.
В сентябре 1938 года были закончены работы по настилке верхней палубы. Уже обрисовался силуэт корпуса корабля, были закончены работы по монтажу барбетов башен главного и среднего калибра, кроме барбета башни "Anton", установка которого заканчивалась. Интенсивно велись работы в шахтах и помещениях МО. К концу года уже начался монтаж надстроек и еще до празднования Рождества были настланы палубы первого яруса. По корпусу работы были почти закончены, началась предспусковая покраска. В январе на форштевне установили герб. Началось строительство трибуны для почетных гостей, приглашенных на спуск линкора. В феврале работы по подготовке к спуску были почти закончены.
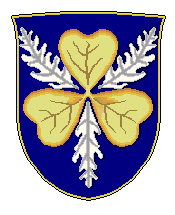 Спуск на воду состоялся 14 февраля 1939 года в присутствии главы государства Адольфа Гитлера и главнокомандующего Кригсмарине генерал-адмирала Эриха Редера. Крещение корабля произвела внучка Отто фон Бисмарка — фрау Доротея фон Левенфельд. По немецкой традиции, после крещения корабля в носовой части по бортам вывешивались таблички с его названием и с этого момента линкор стал официально носить имя "Bismarck". Корабль был назван в честь известного немецкого политика Отто Эдуарда Леопольда фон Бисмарка, князя Шенгаузена, герцога Лауенбургского (1815-1898) - первого рейхсканцлера Германской Империи.
Спуск на воду состоялся 14 февраля 1939 года в присутствии главы государства Адольфа Гитлера и главнокомандующего Кригсмарине генерал-адмирала Эриха Редера. Крещение корабля произвела внучка Отто фон Бисмарка — фрау Доротея фон Левенфельд. По немецкой традиции, после крещения корабля в носовой части по бортам вывешивались таблички с его названием и с этого момента линкор стал официально носить имя "Bismarck". Корабль был назван в честь известного немецкого политика Отто Эдуарда Леопольда фон Бисмарка, князя Шенгаузена, герцога Лауенбургского (1815-1898) - первого рейхсканцлера Германской Империи.
В немецком военном флоте уже были корабли, носящие это имя. Первый из них - корвет "Bismarck" был спущен на воду в 1877 году, другой - броненосный крейсер "Fürst Bismarck" сошел со стапеля в Киле в 1897 году. В 1917 году во время боевых действий потоплен одноименный рыболовный траулер, мобилизованный для военных целей.
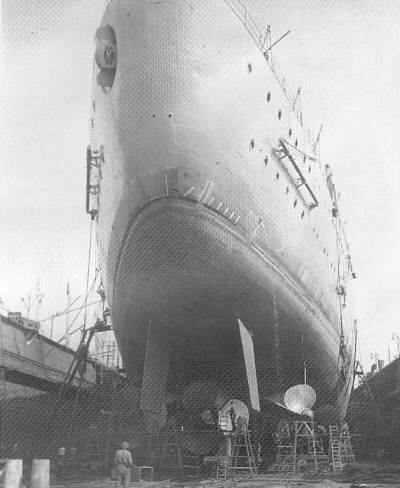
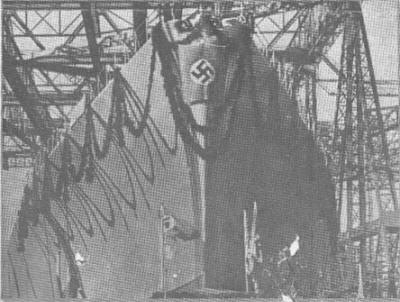
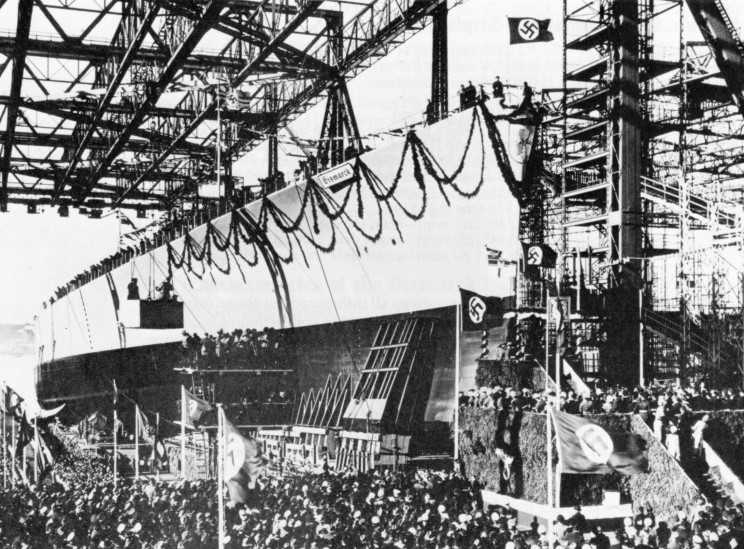
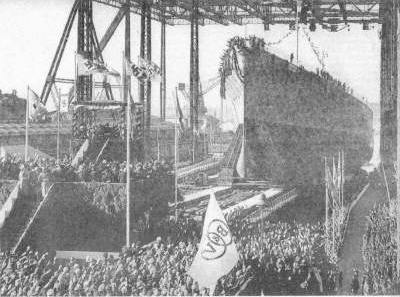
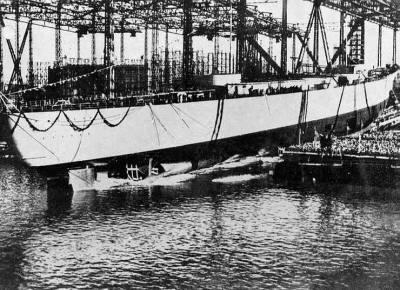

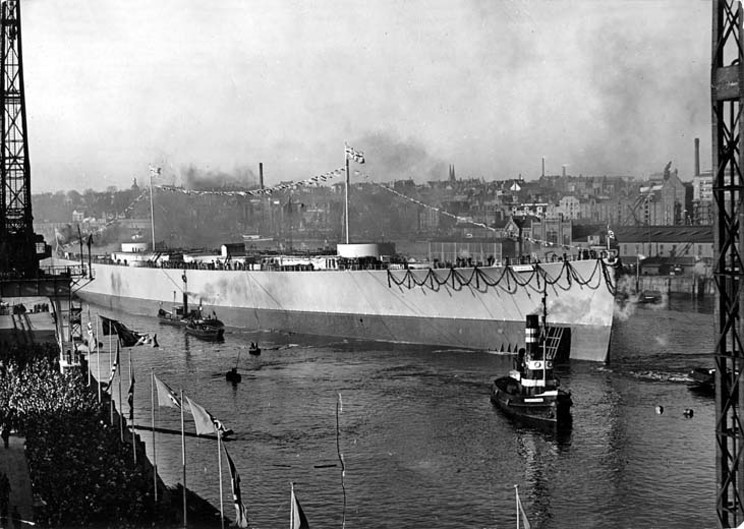

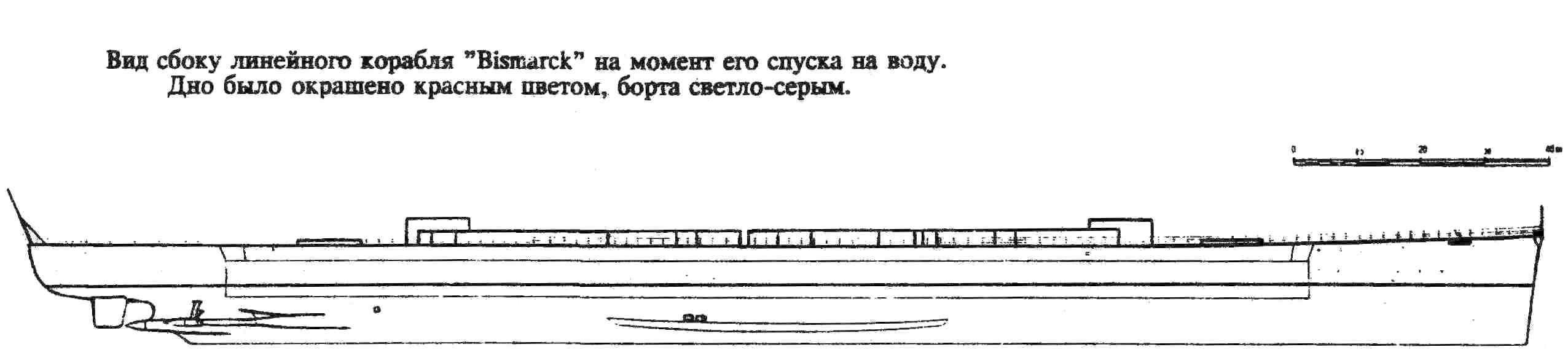

 Во время спуска произошел небольшой инцидент: будучи уже на плаву, "Bismarck" кормой ударил стоявший поблизости пассажирский пароход "Vaterland". В результате на линкоре была незначительно вдавлена обшивка в корме.
Во время спуска произошел небольшой инцидент: будучи уже на плаву, "Bismarck" кормой ударил стоявший поблизости пассажирский пароход "Vaterland". В результате на линкоре была незначительно вдавлена обшивка в корме.
Сразу после спуска на линкоре возобновились работы. По результатам плаваний крупных кораблей в Атлантике было решено изменить форму форштевня, сделав его в надводной части гораздо более наклонным к воде - так называемая атлантическая форма". В связи с этим на корабле сняли герб и демонтировали полуклюзы, которые так же получили иную форму.
 В апреле на корабле интенсивно велись работы по монтажу носовой надстройки, а к июню приступили к установке грот-мачты и монтированию ангара гидросамолетов.
В апреле на корабле интенсивно велись работы по монтажу носовой надстройки, а к июню приступили к установке грот-мачты и монтированию ангара гидросамолетов.
С 12 июня по 14 июля "Bismarck" стоял в доке N-IV на верфи "Blohm und Voss". На корабле были укреплены гребные винты (перед спуском на линкоре были установлены только валы с, конусными наконечниками) и одновременно установлены гидрофоны на обоих бортах и обмотка размагничивания корабля NES. Окраску подводной частя проводили гамбургская фирма "Dreews". Корабль готовили к передаче флоту. 21 июля он прошел кренгование для определения остойчивости. При водоизмещении 42 500 т метацентрическая высота оказалась равной 3,9 м.


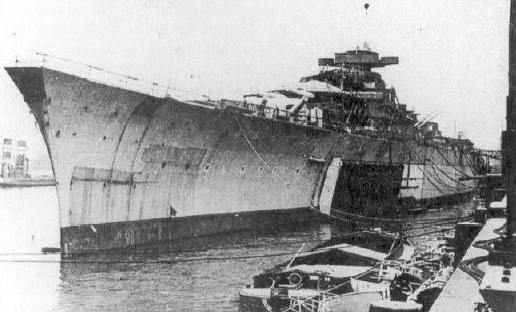
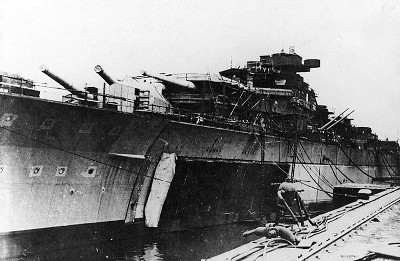

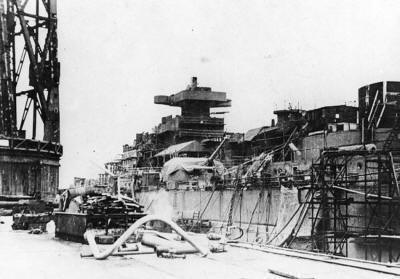
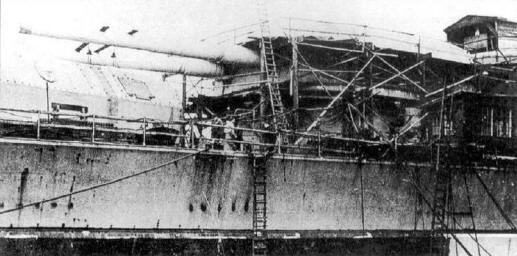
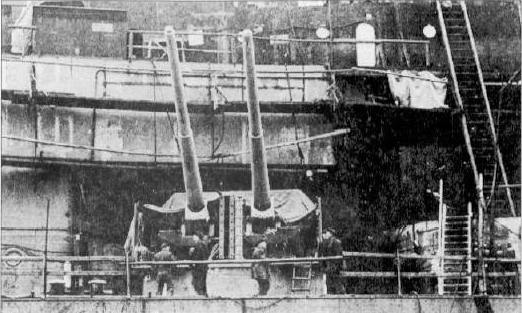

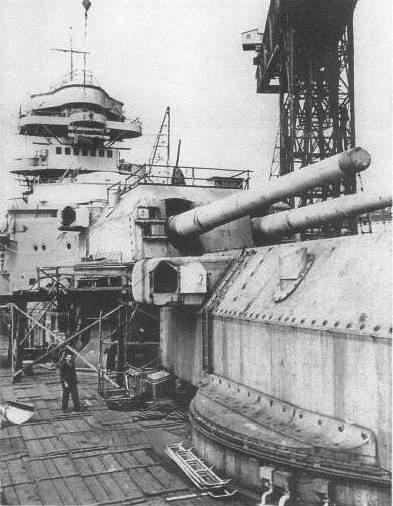
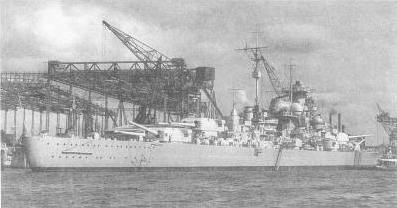

 В июле 1940 г. был назначен командир корабля — капитан-цур-зее Эрнст Линдеман (Ernst Lindemann). Он поступил на службу в германский флот весной 1913 г. и воевал в Первую мировую войну. В Рейхсмарине Линдеман имел квалификацию артиллерийского специалиста и служил, в частности, старшим артиллеристом на "броненосце" "Admiral Graf Spee". С началом войны он стал начальником Морской артиллерийской школы и именно с этого поста в возрасте 47 лет перешел на должность командира нового линкора. В то же время на линкор были назначены старший офицер — фрегаттен-капитан Ганс Оэльс (Hans Oels), старший штурман — корветтен-капитан Вольф Нойендорф (Wolf Neuendorf), старший артиллерийский офицер — корветтен-капитан Адальберт Шнайдер (Adalbert Schneider), старший механик — корветтен-капитан-инженер Вальтер Леманн (Walter Lehmann).
В июле 1940 г. был назначен командир корабля — капитан-цур-зее Эрнст Линдеман (Ernst Lindemann). Он поступил на службу в германский флот весной 1913 г. и воевал в Первую мировую войну. В Рейхсмарине Линдеман имел квалификацию артиллерийского специалиста и служил, в частности, старшим артиллеристом на "броненосце" "Admiral Graf Spee". С началом войны он стал начальником Морской артиллерийской школы и именно с этого поста в возрасте 47 лет перешел на должность командира нового линкора. В то же время на линкор были назначены старший офицер — фрегаттен-капитан Ганс Оэльс (Hans Oels), старший штурман — корветтен-капитан Вольф Нойендорф (Wolf Neuendorf), старший артиллерийский офицер — корветтен-капитан Адальберт Шнайдер (Adalbert Schneider), старший механик — корветтен-капитан-инженер Вальтер Леманн (Walter Lehmann).







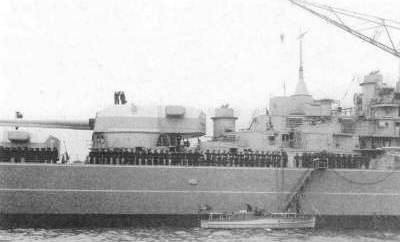 24 августа 1940 года состоялась официальная церемония вступления в строй линкора. В ту же ночь прошло и боевое крещение "Bismarck" во время налета английской авиации на Гамбург. Низкая облачность и темнота не позволяли вести прицельный зенитный огонь, поэтому легкие зенитные автоматы линкора ограничились заградительным огнем, выпустив 52 37-мм и 400 20-мм снарядов. Налеты состоялись также 21 августа, 8 и 10 сентября, но линкор не получил никаких повреждений, выпустив очень небольшое количество малокалиберных снарядов. После вступления в строй экипаж продолжал знакомство с корабельным оборудованием и системами, проводил их тестирование. Так, с 27 августа начался пробный запуск котлов линкора — вначале поочередно, а затем всех вместе.
24 августа 1940 года состоялась официальная церемония вступления в строй линкора. В ту же ночь прошло и боевое крещение "Bismarck" во время налета английской авиации на Гамбург. Низкая облачность и темнота не позволяли вести прицельный зенитный огонь, поэтому легкие зенитные автоматы линкора ограничились заградительным огнем, выпустив 52 37-мм и 400 20-мм снарядов. Налеты состоялись также 21 августа, 8 и 10 сентября, но линкор не получил никаких повреждений, выпустив очень небольшое количество малокалиберных снарядов. После вступления в строй экипаж продолжал знакомство с корабельным оборудованием и системами, проводил их тестирование. Так, с 27 августа начался пробный запуск котлов линкора — вначале поочередно, а затем всех вместе.
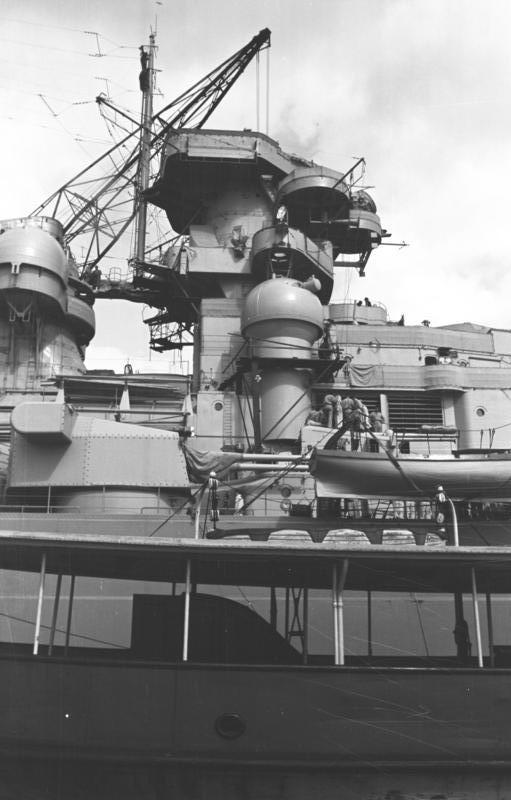
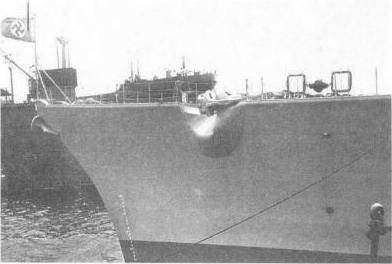 Только 14 сентября корабль и его экипаж были готовы к первому пробному выходу в море. К этому времени на "Bismarck" еще не были установлены дальномеры, готовность которых задерживалась.
Только 14 сентября корабль и его экипаж были готовы к первому пробному выходу в море. К этому времени на "Bismarck" еще не были установлены дальномеры, готовность которых задерживалась.
Было решено, что разумнее как можно быстрее отправить корабль на Балтику для его окончательного освоения экипажем и испытаний, чем ждать готовности недостающего оборудования у стенки верфи. Днем 14 сентября 1940 г. буксиры развернули линкор и сопроводили его вниз по Эльбе. Проводка корабля прошла без происшествий, если не считать небольшого столкновения с буксиром "Atlantic" (повреждений корабли не получили).
В ночь с 15 на 16 сентября линкор отражал очередной авианалет, впервые задействовав даже 105-мм орудия, которых на корабле пока была установлена только половина. 16— 17 сентября при помощи буксиров "Bismarck" был проведен Кильским каналом и после полудня 17 сентября прибыл в Киль, где пробыл до 28 сентября — до отправки в основной район учений и испытаний в Данцигском заливе. 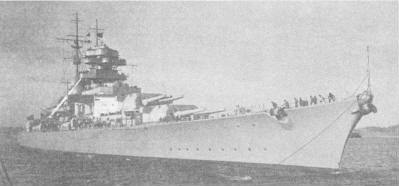 В Готенхафене на корабли были установлены два 10.5-метровых дальномера и 4 кормовых 105-мм спаренных установки новой модели LC/37.
В Готенхафене на корабли были установлены два 10.5-метровых дальномера и 4 кормовых 105-мм спаренных установки новой модели LC/37.
 Адмирал Редер настоял на подробной программе испытаний и тренировок практически по стандартам мирного времени без форсирования боевой готовности за счет сокращенной программы. В результате все системы корабля были испытаны, а команды прошли соответствующую тренировку. О военных действиях напоминала только повышенная боеготовность зенитных расчетов. Из-за сосредоточения всех трех германских линкоров в Готенхафене Линдеман опасался повторения событий в Таранто и держал своих зенитчиков наготове.
Адмирал Редер настоял на подробной программе испытаний и тренировок практически по стандартам мирного времени без форсирования боевой готовности за счет сокращенной программы. В результате все системы корабля были испытаны, а команды прошли соответствующую тренировку. О военных действиях напоминала только повышенная боеготовность зенитных расчетов. Из-за сосредоточения всех трех германских линкоров в Готенхафене Линдеман опасался повторения событий в Таранто и держал своих зенитчиков наготове.
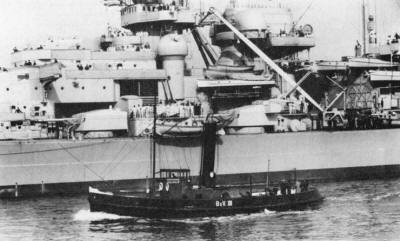
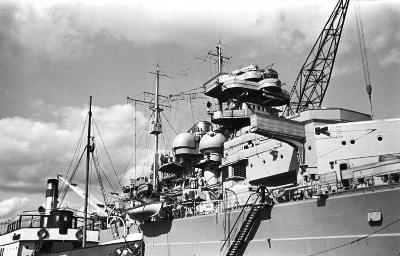
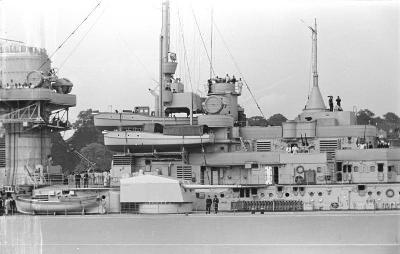









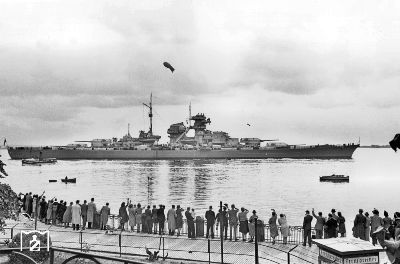


 7 - 8 марта линкор вновь прошел Кильским каналом — как оказалось, в последний раз. В Киле "Bismarck" был поставлен в док"С" завода "Дойче Верке" для небольшого ремонта дна и покраски. Корабль был загружен припасами, провизией и боеприпасами.
7 - 8 марта линкор вновь прошел Кильским каналом — как оказалось, в последний раз. В Киле "Bismarck" был поставлен в док"С" завода "Дойче Верке" для небольшого ремонта дна и покраски. Корабль был загружен припасами, провизией и боеприпасами.
15 марта на борт были приняты два самолета, и через два дня "Bismarck" вновь отбыл в Готенхафен. Из-за задержек в Гамбурге пришлось несколько сократить программу испытаний и тренировок, которая проводилась с 18 марта. Кроме того, у линкора выявились проблемы с авиационным оборудованием. Краны оказались ненадежными, а правая катапульта была повреждена. В результате катапульту заменили на снятую с "Tirpitz", и 2 апреля на корабль были загружены еще два "Арадо".
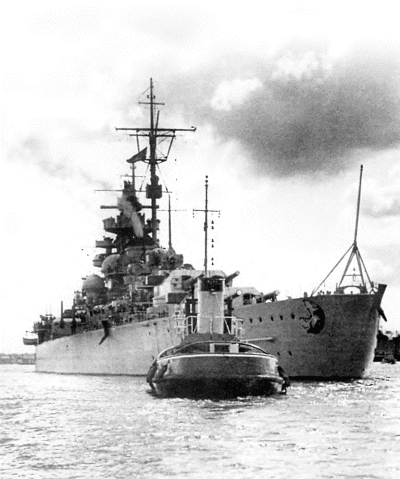
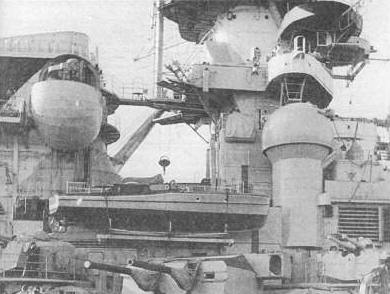
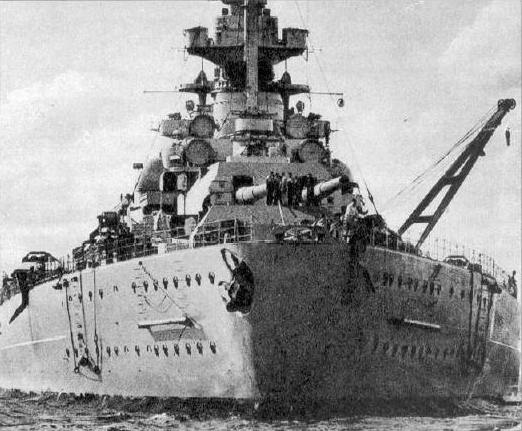
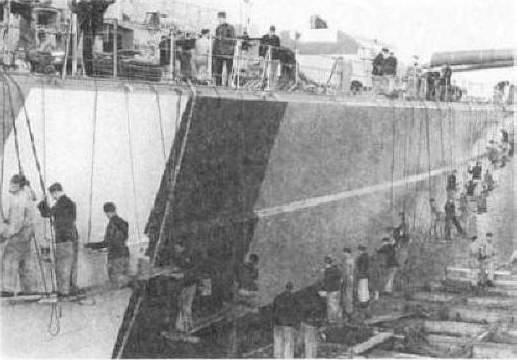
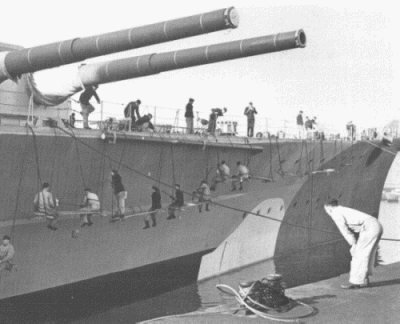
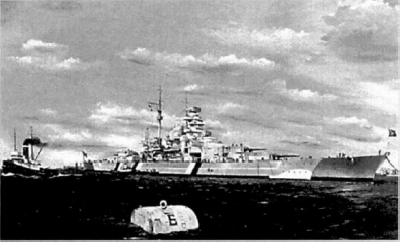
 Планирование операции "Рейнюбунг"
Планирование операции "Рейнюбунг"
 Отказ от вторжения в Англию (операция "Зеелёве") дал Кригсмарине полную свободу по планированию действии против коммуникаций противника в Атлантике, поскольку других больших задач у флота не было. После захвата Франции ее базы могли использоваться как для подводных лодок, так и надводных кораблей. Адмирал Редер считал состоявшиеся рейды "Admiral Scheer", "Scharnhorst" и "Gneisenau" и даже "Admiral Hipper" полностью успешными и вследствие этого 2 апреля 1941 г. издал директиву "Будущие операции надводных сил". Действия вышеупомянутых кораблей были признаны в этой директиве имеющими важные стратегические и тактические последствия, а подобные действия в будущем могли бы вызвать необходимость перегруппировки сил англичанами. Так, усиление давления тяжелыми кораблями на атлантические коммуникации могло вызвать необходимость переброски дополнительных британских линкоров со Средиземноморского театра для их включения в состав охраны конвоев и, таким образом, изменить баланс сил на Средиземном море.
Отказ от вторжения в Англию (операция "Зеелёве") дал Кригсмарине полную свободу по планированию действии против коммуникаций противника в Атлантике, поскольку других больших задач у флота не было. После захвата Франции ее базы могли использоваться как для подводных лодок, так и надводных кораблей. Адмирал Редер считал состоявшиеся рейды "Admiral Scheer", "Scharnhorst" и "Gneisenau" и даже "Admiral Hipper" полностью успешными и вследствие этого 2 апреля 1941 г. издал директиву "Будущие операции надводных сил". Действия вышеупомянутых кораблей были признаны в этой директиве имеющими важные стратегические и тактические последствия, а подобные действия в будущем могли бы вызвать необходимость перегруппировки сил англичанами. Так, усиление давления тяжелыми кораблями на атлантические коммуникации могло вызвать необходимость переброски дополнительных британских линкоров со Средиземноморского театра для их включения в состав охраны конвоев и, таким образом, изменить баланс сил на Средиземном море.
 Весь план Редера был основан на использовании новейших линкоров "Bismarck" и "Tirpitz" против конвоев. При нападении на конвой один из них должен был связать боем линкор охранения англичан, а второй — атаковать транспорты. Правда, "Tirpitz" не мог быть вовремя приведен в боеготовность в соответствии с высокими требованиями к программе подготовки экипажа, поэтому пришлось временно использовать вместо второго линкора тяжелый крейсер "Prinz Eugen". Альтернативы у Редера просто не было: линкоры "Scharnhorst" и "Gneisenau" застряли в Бресте, "карманники" были слишком медленными, "Admiral Hipper" нуждался в ремонте после похода, а легкие крейсера вообще было опасно выпускать в открытое море из-за дефектов в конструкции. "Prinz Eugen" был быстроходным, со скорострельной 203-мм артиллерией, полезной против конвоев, и торпедными аппаратами, которых не было на "Bismarck". Его основным недостатком была неэкономичная энергетическая установка, повышавшая требования к снабжению кораблей топливом в море. Рассматривалась возможность того, что США вступят в войну на стороне Великобритании. Участие в боевых действиях дополнительно и американских линкоров могло сделать всю операцию бессмысленной, поэтому Редер не хотел ждать вступления в строй "Tirpitz".
Весь план Редера был основан на использовании новейших линкоров "Bismarck" и "Tirpitz" против конвоев. При нападении на конвой один из них должен был связать боем линкор охранения англичан, а второй — атаковать транспорты. Правда, "Tirpitz" не мог быть вовремя приведен в боеготовность в соответствии с высокими требованиями к программе подготовки экипажа, поэтому пришлось временно использовать вместо второго линкора тяжелый крейсер "Prinz Eugen". Альтернативы у Редера просто не было: линкоры "Scharnhorst" и "Gneisenau" застряли в Бресте, "карманники" были слишком медленными, "Admiral Hipper" нуждался в ремонте после похода, а легкие крейсера вообще было опасно выпускать в открытое море из-за дефектов в конструкции. "Prinz Eugen" был быстроходным, со скорострельной 203-мм артиллерией, полезной против конвоев, и торпедными аппаратами, которых не было на "Bismarck". Его основным недостатком была неэкономичная энергетическая установка, повышавшая требования к снабжению кораблей топливом в море. Рассматривалась возможность того, что США вступят в войну на стороне Великобритании. Участие в боевых действиях дополнительно и американских линкоров могло сделать всю операцию бессмысленной, поэтому Редер не хотел ждать вступления в строй "Tirpitz".
 Изначальный план операции, получившей кодовое наименование "Рейнюбунг" ("Rheinubung" — "Учения на Рейне") предусматривал выход одного боевого о гряда во главе с "Bismarck" из Германии и второго — линкоров "Scharnhorst" и "Gneisenau" — из Бреста. Два отряда могли внести большую дезориентацию в действия англичан и таким образом скорее достичь успеха на коммуникациях. Однако этим планам не суждено было сбыться. Вначале на "Scharnhorst" были выявлены технические проблемы (в частности, требовалась замена всех трубок пароперегревателей), и корабль выбыл из строя на несколько месяцев. Измененный план предполагал, что брестская группа будет состоять из одного "Gneisenau", который пройдет между Азорскими островами и островами Зеленого Мыса и позже соединится с группой "Bismarck". Но немцам фатально не везло — 6 апреля "Gneisenau" был поврежден авиаторпедой с британского "Бофорта", в итоге "Bismarck" и "Prinz Eugen" остались без поддержки.
Изначальный план операции, получившей кодовое наименование "Рейнюбунг" ("Rheinubung" — "Учения на Рейне") предусматривал выход одного боевого о гряда во главе с "Bismarck" из Германии и второго — линкоров "Scharnhorst" и "Gneisenau" — из Бреста. Два отряда могли внести большую дезориентацию в действия англичан и таким образом скорее достичь успеха на коммуникациях. Однако этим планам не суждено было сбыться. Вначале на "Scharnhorst" были выявлены технические проблемы (в частности, требовалась замена всех трубок пароперегревателей), и корабль выбыл из строя на несколько месяцев. Измененный план предполагал, что брестская группа будет состоять из одного "Gneisenau", который пройдет между Азорскими островами и островами Зеленого Мыса и позже соединится с группой "Bismarck". Но немцам фатально не везло — 6 апреля "Gneisenau" был поврежден авиаторпедой с британского "Бофорта", в итоге "Bismarck" и "Prinz Eugen" остались без поддержки.
как "Prinz Eugen" должен был атаковать транспорты.  В отличие от предыдущих операций, эскадре было разрешено атаковать защищенные конвои. Задачей "Bismarck" было сковать боем эскорт, по возможности избегая повреждений, в то время Было подчеркнуто, что основной задачей оставалось уничтожение торговых судов. Вступать в бой с военными кораблями следовало только если этого требовала основная задача и одновременно можно было избежать излишнего риска. Вся Северная Атлантика к северу от экватора, за исключением только лишь территориальных вод нейтральных государств, была назначена оперативной зоной. Зона действий надводных кораблей не отделялась от зоны действия подводных лодок. Кроме того, по опыту предыдущих операций считалось, что установление взаимодействия с подводными лодками, способными отслеживать пути движения конвоев, было бы весьма полезным. Руководство операцией до того момента, как корабли пересекут линию между южной точкой Гренландии и Северными Гебридами, возлагалось на группу ВМС "Норд", а южнее переходило к группе "Вест" со штабом в Париже.
В отличие от предыдущих операций, эскадре было разрешено атаковать защищенные конвои. Задачей "Bismarck" было сковать боем эскорт, по возможности избегая повреждений, в то время Было подчеркнуто, что основной задачей оставалось уничтожение торговых судов. Вступать в бой с военными кораблями следовало только если этого требовала основная задача и одновременно можно было избежать излишнего риска. Вся Северная Атлантика к северу от экватора, за исключением только лишь территориальных вод нейтральных государств, была назначена оперативной зоной. Зона действий надводных кораблей не отделялась от зоны действия подводных лодок. Кроме того, по опыту предыдущих операций считалось, что установление взаимодействия с подводными лодками, способными отслеживать пути движения конвоев, было бы весьма полезным. Руководство операцией до того момента, как корабли пересекут линию между южной точкой Гренландии и Северными Гебридами, возлагалось на группу ВМС "Норд", а южнее переходило к группе "Вест" со штабом в Париже.
 Опыт проведения операции "Berlin" (рейд линкоров "Scharnhorst" и "Gneisenau" в январе—марте 1941 года) показал необходимость хорошей разведки и отслеживания движения конвоев. В частности, нужно было вести широкий поиск в океане для прочесывания ожидаемых путей движения судов. Эскадра была укомплектована не менее чем семью "Arado", но "Berlin", как и другие рейдерские операции, продемонстрировал также недостатки использования бортовых гидросамолетов. Оно сильно зависело от погодных условий, которые в Атлантике редко бывали хорошими, и представляло значительную опасность для кораблей-носителей во время подъема гидросамолетов на борт, когда требовалась фактическая остановка движения.
Опыт проведения операции "Berlin" (рейд линкоров "Scharnhorst" и "Gneisenau" в январе—марте 1941 года) показал необходимость хорошей разведки и отслеживания движения конвоев. В частности, нужно было вести широкий поиск в океане для прочесывания ожидаемых путей движения судов. Эскадра была укомплектована не менее чем семью "Arado", но "Berlin", как и другие рейдерские операции, продемонстрировал также недостатки использования бортовых гидросамолетов. Оно сильно зависело от погодных условий, которые в Атлантике редко бывали хорошими, и представляло значительную опасность для кораблей-носителей во время подъема гидросамолетов на борт, когда требовалась фактическая остановка движения.
 Опять же по опыту операции "Berlin" для поддержки ведения разведки были выделены также два так называемых "разведывательных судна" (Spahschiffe) — "Honzenheim" и "Cota Pinang". Они были оснащены запасами для четырехмесячного плавания и подготовлены для размещения дополнительного персонала призовых команд, а также имели помещения для содержания 300 пленников. "Honzenheim" 11 апреля направился из Штеттина в Голландию для модернизации на верфи "Вилтон Верфт" в Схидаме для выполнения своей задачи. "Cota Pinang" оснащался на верфи "П. Смит" в Роттердаме. Работы нужно было закончить в течение двух недель, поскольку оба корабля должны были быть готовы к 26 апреля. Корабли считались гражданскими судами, плававшими под торговым флагом, однако для военного руководства на них были откомандированы два офицера с "Gneisenau" и военнослужащие для связи и призовых команд.
Опять же по опыту операции "Berlin" для поддержки ведения разведки были выделены также два так называемых "разведывательных судна" (Spahschiffe) — "Honzenheim" и "Cota Pinang". Они были оснащены запасами для четырехмесячного плавания и подготовлены для размещения дополнительного персонала призовых команд, а также имели помещения для содержания 300 пленников. "Honzenheim" 11 апреля направился из Штеттина в Голландию для модернизации на верфи "Вилтон Верфт" в Схидаме для выполнения своей задачи. "Cota Pinang" оснащался на верфи "П. Смит" в Роттердаме. Работы нужно было закончить в течение двух недель, поскольку оба корабля должны были быть готовы к 26 апреля. Корабли считались гражданскими судами, плававшими под торговым флагом, однако для военного руководства на них были откомандированы два офицера с "Gneisenau" и военнослужащие для связи и призовых команд.
Кроме этих двух кораблей, для операции "Рейнюбунг" были отряжены два эскадренных танкера: "Ermland" имел вместимость 9366 кубометров нефти, а "Spihern" мог нести 8000 м³ нефти и около 3000 м³ дизельного топлива. В задачу последнего входило также снабжение подводных лодок. "Ermland" должен был находиться в квадрате DR16 (900 миль к юго-западу от Азорских островов), а "Spihern" — в квадрате CD64 (400 миль к западу от Азорских островов). Кроме того, снабжение также должно было осуществляться пятью малыми танкерами: "Belhen" (квадрат AJ26 — к югу от мыса Фарвел, Гренландия), "Lothringen" (к востоку от "Belhen", в проливе Дэвиса), "Esso Hamburg" (квадрат CD32, 390 миль к юго-западу от Азорских островов),  "Breme" (квадрат DF96, 600 миль к юго-западу от Азорских островов) и "Weissenurg" (в Арктике). Танкер "Heide" должен был служить резервом для "Weissenurg", а "Wollin" — осуществлять заправку эскадры топливом в Центральной Норвегии.
"Breme" (квадрат DF96, 600 миль к юго-западу от Азорских островов) и "Weissenurg" (в Арктике). Танкер "Heide" должен был служить резервом для "Weissenurg", а "Wollin" — осуществлять заправку эскадры топливом в Центральной Норвегии.
 Большое значение играл также прогноз погоды. Шторм, туман или низкая видимость были важными факторами, позволявшими избежать обнаружения британским Северным Патрулем. Наиболее важным был проход Датским проливом. Для обеспечения возвращения "Admiral Scheer" и "Admiral Hipper" из рейдов в начале марта командование Кригсмарине направило в пролив суда наблюдения за погодой, которые докладывали о погодных условиях и границе ледяного покрова. Последнее было особенно важным, поскольку граница льда определяла ширину пролива и возможности по маневрированию для уклонения от вражеских патрулей. Эту задачу частично выполняли самолеты Fw 200 "Кондор", но, во-первых, на их полеты также влияли погодные условия, а во-вторых, летчики подчинялись Люфтваффе и их взаимодействие с флотом часто было весьма формальным. Командующий группой "Норд" адмирал Карльс боялся за безопасность надводных метеоразведчиков и предлагал использовать для этих целей подводные лодки с базой в норвежском порту Ставангер. В дальнейшем он предлагал использовать для наблюдений за погодой трофейные голландские субмарины UD-1 — UD-5. Однако возобладали другие взгляды, и 16 марта из Тронхейма вышел 284-тонный переоборудованный траулер "Sachsen". Его район назначения находился примерно в 300 милях к востоку от полуострова Ланганес. Другой траулер, 344-тонный "Koburg", находился в глубине пролива Дэвиса в районе острова Резолюшн. "Sachsen" должен был впоследствии прийти ему на замену. За ним к берегам Исландии направился вышедший 2 апреля из Тронхейма "Ostmark". Первый доклад с "Koburg" был получен 23 марта, после чего судну было приказано направиться к Датскому проливу. Второй доклад о ледовой обстановке поступил 27 марта от "Кондора" из состава I/KG 40, действующей с аэродрома под Тронхеймом.
Большое значение играл также прогноз погоды. Шторм, туман или низкая видимость были важными факторами, позволявшими избежать обнаружения британским Северным Патрулем. Наиболее важным был проход Датским проливом. Для обеспечения возвращения "Admiral Scheer" и "Admiral Hipper" из рейдов в начале марта командование Кригсмарине направило в пролив суда наблюдения за погодой, которые докладывали о погодных условиях и границе ледяного покрова. Последнее было особенно важным, поскольку граница льда определяла ширину пролива и возможности по маневрированию для уклонения от вражеских патрулей. Эту задачу частично выполняли самолеты Fw 200 "Кондор", но, во-первых, на их полеты также влияли погодные условия, а во-вторых, летчики подчинялись Люфтваффе и их взаимодействие с флотом часто было весьма формальным. Командующий группой "Норд" адмирал Карльс боялся за безопасность надводных метеоразведчиков и предлагал использовать для этих целей подводные лодки с базой в норвежском порту Ставангер. В дальнейшем он предлагал использовать для наблюдений за погодой трофейные голландские субмарины UD-1 — UD-5. Однако возобладали другие взгляды, и 16 марта из Тронхейма вышел 284-тонный переоборудованный траулер "Sachsen". Его район назначения находился примерно в 300 милях к востоку от полуострова Ланганес. Другой траулер, 344-тонный "Koburg", находился в глубине пролива Дэвиса в районе острова Резолюшн. "Sachsen" должен был впоследствии прийти ему на замену. За ним к берегам Исландии направился вышедший 2 апреля из Тронхейма "Ostmark". Первый доклад с "Koburg" был получен 23 марта, после чего судну было приказано направиться к Датскому проливу. Второй доклад о ледовой обстановке поступил 27 марта от "Кондора" из состава I/KG 40, действующей с аэродрома под Тронхеймом.
Новый корабль наблюдения за погодой — "Lauenburg" — был направлен из Киля в Тронхейм с дальнейшими приказами заменить "Sachsen" к концу мая. 23 апреля в море вышел "München", предназначенный для замены "Ostmark" к 1 мая.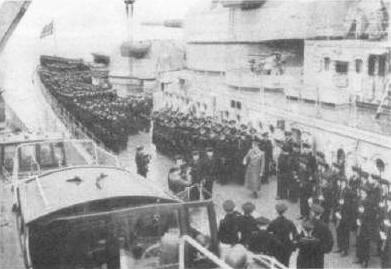
Поскольку радиограммы метеоразведчиков перехватывались англичанами, Королевский флот осознавал важность охоты за этими судами, тем более, что они были беззащитными и изолированными, что делало возможным их внезапный захват. Первой жертвой англичан стал "München", перехваченный отрядом крейсеров и эсминцев 7 мая к югу от Ян-Майена. На него высадился отряд моряков с эсминца "Somali" и захватил шифровальную машину и другие секретные материалы. Вместе с захватом других судов это имело важное значение для последующих усилий англичан по расшифровке немецких кодов (операция "Ультра").
 "Bismarck" был снабжен запасами на 3 месяца и его экипаж постоянно пополнялся военными корреспондентами, киносъемочными группами, призовыми командами и другими сверхштатными единицами. Было ясно, что готовится какая-то операция, но даже Линдеман не имел об этом четкой информации кроме той, что его корабль должен был быть готов на несколько недель раньше графика, так что программу испытаний артиллерии пришлось свернуть. Катапульта правого борта была вновь повреждена 17 апреля и заменена спустя три дня. Последние несколько дней линкор отрабатывал совместные действия с "Prinz Eugen", а также сигнальные, противолодочные и противовоздушные маневры.
"Bismarck" был снабжен запасами на 3 месяца и его экипаж постоянно пополнялся военными корреспондентами, киносъемочными группами, призовыми командами и другими сверхштатными единицами. Было ясно, что готовится какая-то операция, но даже Линдеман не имел об этом четкой информации кроме той, что его корабль должен был быть готов на несколько недель раньше графика, так что программу испытаний артиллерии пришлось свернуть. Катапульта правого борта была вновь повреждена 17 апреля и заменена спустя три дня. Последние несколько дней линкор отрабатывал совместные действия с "Prinz Eugen", а также сигнальные, противолодочные и противовоздушные маневры.
План операции оказался под угрозой, когда 22 апреля "Prinz Eugen" был поврежден в результате подрыва на магнитной мине при переходе из Готенхафена в Киль. Вместо относительно темных апрельских ночей в период новолуния крейсер мог быть готов к выходу только в наименее благоприятный для прорыва период в конце мая. Встал вопрос — дожидаться ли окончания ремонта крейсера? Имелось три варианта:
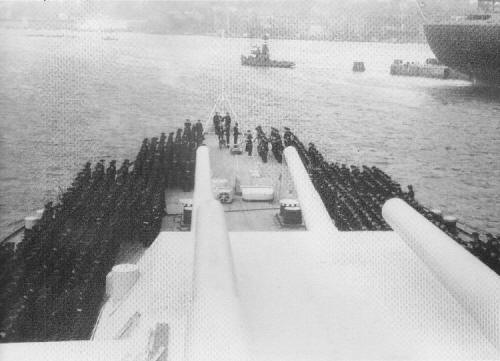 1. Послать "Bismarck" в одиночку, используя наступающий период новолуния;
1. Послать "Bismarck" в одиночку, используя наступающий период новолуния;
2. Отложить операцию до готовности обоих кораблей и следующего новолуния;
3. Начать операцию немедленно по окончании ремонта крейсера, не дожидаясь новолуния.
25 апреля гросс-адмирал Редер обсудил с командующим надводными силами (Flottenchef) адмиралом Гюнтером Лютьенсом предстоящую операцию с учетом ситуации. Лютьенс не выражал восторга по поводу изменения плана операции с комбинированного выхода сил из Бреста и Германии на рейд одной эскадры из двух кораблей, однако Редер настойчиво хотел вывести корабли в море, пока США все еще сохраняли нейтралитет.  Лютьенс же предлагал подождать до окончания ремонта "Scharnhorst" или даже до ввода встрой "Tirpitz". Главком был, безусловно, прав в отношении нежелания ждать возвращения в строй первого линкора, при сложившихся в Бресте условиях он мог быть поврежден снова еще до окончания ремонта. В отношении "Tirpitz" сказался подход Кригсмарине и, в частности, Редера к вопросу приведения корабля в боевую готовность: гросс-адмирал настаивал на как минимум шестимесячном периоде подготовки, поэтому корабль не мог быть подключен к операции. В конечном итоге, решение о посылке только "Bismarck" и "Prinz Eugen" было в наибольшей степени основано на опасениях Редера по поводу вступления США в войну против Германии.
Лютьенс же предлагал подождать до окончания ремонта "Scharnhorst" или даже до ввода встрой "Tirpitz". Главком был, безусловно, прав в отношении нежелания ждать возвращения в строй первого линкора, при сложившихся в Бресте условиях он мог быть поврежден снова еще до окончания ремонта. В отношении "Tirpitz" сказался подход Кригсмарине и, в частности, Редера к вопросу приведения корабля в боевую готовность: гросс-адмирал настаивал на как минимум шестимесячном периоде подготовки, поэтому корабль не мог быть подключен к операции. В конечном итоге, решение о посылке только "Bismarck" и "Prinz Eugen" было в наибольшей степени основано на опасениях Редера по поводу вступления США в войну против Германии.
Это опасение могло быть основано на особо ценных предложениях Редера Гитлеру на их встрече 20 апреля I941 года. Они состояли, помимо ряда других пунктов, в том, чтобы игнорировать полностью или частично установленную США зону нейтралитета и захватывать американские торговые суда по призовому праву. Мягкая реакция США на вторжение Германии на Балканы была аргументом в пользу того, что осуществление данных предложений не приведет ко вступлению США в войну. Однако в глубине души Редер мог опасаться другого развития событий. Хотя Гитлер и не принял предложений Редера, но дал некоторую надежду, что ситуация может в скором времени измениться. Сам Гитлер был достаточно равнодушен к "Рейнюбунгу", его мысли были в основном заняты планом "Барбаросса".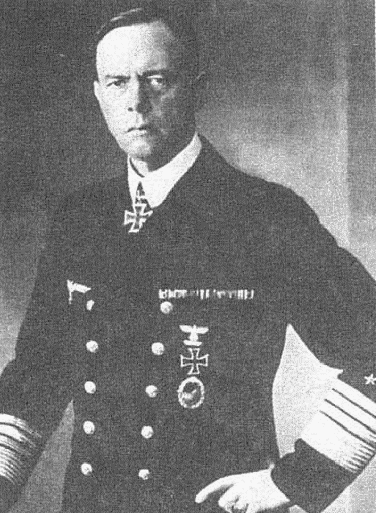
"Bismarck" был готов к боевым действиям, однако вечером 25 апреля командование Кригсмарине уведомило Линдемана о задержке операции на 7—12 дней из-за повреждений "Prinz Eugen" двумя днями ранее. Хотя команда не была уведомлена о переносе сроков, Линдеман опасался, что излишняя задержка вызовет некоторый упадок боевого духа. 5 мая стоявший в Готенхафене линкор посетил Адольф Гитлер в сопровождении фельдмаршала Кейтеля, большой компании высокопоставленных нацистов и адмирала Лютьенса. Именно последнему предстояло вести отряд в океанский рейд.
Нельзя пройти мимо личностей еще двух офицеров. Начальником штаба Лютьенса в ходе операции "Рейнюбунг" являлся капитан-цур-зее Харальд Нецбандг, командовавший линкором "Gneisenau" во время предыдущего океанского рейда. Первым офицером штаба (I.Asto) был корветтен-капитан Пауль Ашер, который в 1939 г. служил старшим артиллеристом "броненосца" "Admiral Graf Spee" и нелегально вернулся из Аргентины, где был интернирован после гибели своего корабля.
 После окончания ремонта "Prinz Eugen" операция еше несколько задержалась. 14 мая во время совместных учений с крейсером "Leipzig" на "Bismarck" поломался 12-тонный кран левого борта, и на его ремонт ушло три дня. Только 16 мая был получен приказ командования о начале операции с полуночи 17—18 мая. На совещании на борту линкора 18 мая адмирал Лютьенс познакомил командиров "Bismarck" и "Prinz Eugen" (капитан-цур-зее Гельмут Бринкман) с планом операции.
После окончания ремонта "Prinz Eugen" операция еше несколько задержалась. 14 мая во время совместных учений с крейсером "Leipzig" на "Bismarck" поломался 12-тонный кран левого борта, и на его ремонт ушло три дня. Только 16 мая был получен приказ командования о начале операции с полуночи 17—18 мая. На совещании на борту линкора 18 мая адмирал Лютьенс познакомил командиров "Bismarck" и "Prinz Eugen" (капитан-цур-зее Гельмут Бринкман) с планом операции.
Оперативные приказы рекомендовали после выхода из Норвегии при благоприятной погоде осуществить немедленный прорыв между Исландией и Фарерскими островами. При неблагоприятной погоде отряд должен был следовать на север на рандеву с танкером "Weissenburg" в точке 70° N, 1° W. Там кораблям предстояло по максимуму заправиться топливом, чтобы иметь возможность осуществлять прорыв на большой скорости, не заботясь о его расходе.  После этого "Weissenburg" должен был немедленно возвращаться на базу, а на его место подходил танкер "Heide", в задачу которого входила заправка отряда топливом при неудаче первой попытки прорыва.
После этого "Weissenburg" должен был немедленно возвращаться на базу, а на его место подходил танкер "Heide", в задачу которого входила заправка отряда топливом при неудаче первой попытки прорыва.
Командование группы "Норд" запросило у Люфтваффе провести 19 мая ледовую разведку Датского пролива с воздуха, в то время как "Weissenburg" и "Heide" (с 7000 кубометрами топлива и месячными запасами каждый) были отправлены в море с расчетным временем прибытия в пункт назначения 22 мая. Другие танкеры были направлены в точки рандеву из портов Западной Франции, а разведывательные суда "Honzenheim" и ""Cota Pinang"" вышли в море 17 и 18 мая.
 Наконец, днем 18 мая "Bismarck" и "Prinz Eugen" начали заправку топливом. Линкор недобрал примерно 200 т из-за разрыва одного из заправочных шлангов, после чего заправку решено было прекратить. Затем "Prinz Eugen" отправился на испытания размагничивающего устройства и на закате вышел в море. В 2 часа ночи 19 мая "Bismarck" последовал за ним. К этому времени англичане почти ничего не знали о готовящейся операции, им удалось лишь перехватить и расшифровать радиограммы Люфтваффе о доставке на "Bismarck" морских карт.
Наконец, днем 18 мая "Bismarck" и "Prinz Eugen" начали заправку топливом. Линкор недобрал примерно 200 т из-за разрыва одного из заправочных шлангов, после чего заправку решено было прекратить. Затем "Prinz Eugen" отправился на испытания размагничивающего устройства и на закате вышел в море. В 2 часа ночи 19 мая "Bismarck" последовал за ним. К этому времени англичане почти ничего не знали о готовящейся операции, им удалось лишь перехватить и расшифровать радиограммы Люфтваффе о доставке на "Bismarck" морских карт.
В полдень 19 мая корабли соединились у мыса Анкона (остров Рюген). Там к эскадре присоединились эсминцы Z-23 и "Friedrich Eckoldt", а также флотилия тральщиков. В 22:30 к эскадре подошел вышедший из Киля эсминец "Hans Lodi". Командир линкора проинформировал экипаж о том, что они направляются в трехмесячное плавание в Атлантику для перехвата британских конвоев. Соединение продолжало двигаться курсом на северо-запад и в ночь с 19 на 20 мая вошло в Большой Бельт, а к полудню 20 мая достигло Каттегата. Для зашиты от возможного обнаружения английскими разведывательными самолетами корабли прикрывались истребителями Люфтваффе.
 Вскоре отряд прошел пролив и оказался неподалеку от западного побережья Швеции. До этого времени навстречу им попалось только несколько датских и шведских рыбачьих лодок.
Вскоре отряд прошел пролив и оказался неподалеку от западного побережья Швеции. До этого времени навстречу им попалось только несколько датских и шведских рыбачьих лодок.
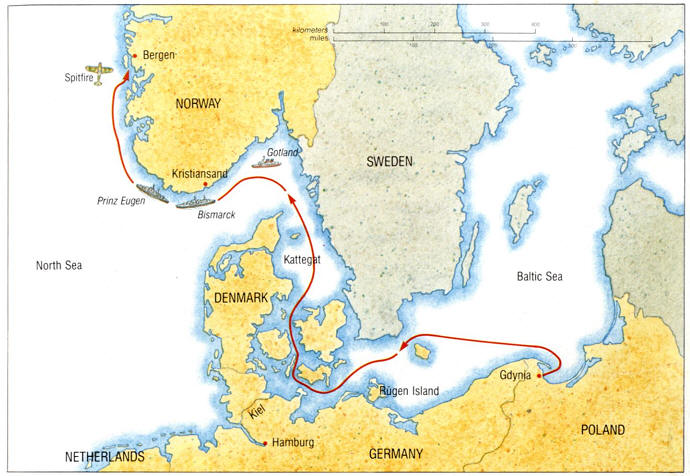 Около 15:00 произошло весьма неприятное происшествие: у Марстранда эскадра встретила шведский крейсер "Gotland", который послал в Стокгольм радиограмму: "Два больших корабля, три эсминца, 5 эскортных кораблей и 10—12 самолетов прошли Марстранд, курс 205/20". Этот сигнал был перехвачен и расшифрован разведывательной командой на "Bismarck". Адмирал Лютьенс известил группу "Норд", что эскадра вероятно обнаружена. Удивительно, но командующий группой "Норд" адмирал Карльс ответил, что поскольку Швеция соблюдает строгий нейтралитет, маловероятно, чтобы сведения о передвижении германских кораблей дошли до англичан. Карльсу, как и руководству Кригсмарине, было хорошо известно, что 25 января британский морской атташе в Стокгольме сообщил в Лондон о проходе через проливы "Scharnhorst" и "Gneisenau" с указанием точного времени. Поэтому выбор пути эскадры с самого начала выглядел странным. Действительно, информация с "Gotland" вскоре попала к британскому военному атташе в Стокгольме кэптену Генри В. Денхэму через его друга, полковника Рошера Лунла.
Около 15:00 произошло весьма неприятное происшествие: у Марстранда эскадра встретила шведский крейсер "Gotland", который послал в Стокгольм радиограмму: "Два больших корабля, три эсминца, 5 эскортных кораблей и 10—12 самолетов прошли Марстранд, курс 205/20". Этот сигнал был перехвачен и расшифрован разведывательной командой на "Bismarck". Адмирал Лютьенс известил группу "Норд", что эскадра вероятно обнаружена. Удивительно, но командующий группой "Норд" адмирал Карльс ответил, что поскольку Швеция соблюдает строгий нейтралитет, маловероятно, чтобы сведения о передвижении германских кораблей дошли до англичан. Карльсу, как и руководству Кригсмарине, было хорошо известно, что 25 января британский морской атташе в Стокгольме сообщил в Лондон о проходе через проливы "Scharnhorst" и "Gneisenau" с указанием точного времени. Поэтому выбор пути эскадры с самого начала выглядел странным. Действительно, информация с "Gotland" вскоре попала к британскому военному атташе в Стокгольме кэптену Генри В. Денхэму через его друга, полковника Рошера Лунла.
Эскадра слегка задержалась, встретив конвой из 11 немецких и нейтральных судов, заблокированных минным полем на входе из Скагеррака в Каттегат. Поле было протралено к 16:00, и флотилия тральщиков отсоединилась от эскадры. Между 21:00 и 22:00 проходившую около норвежского берега у Кристиансанна корабли заметил Вигго Аксельсен из отряда норвежского Сопротивления, и эта информации также была передана британской разведке. 21 мая в 4:40 отряд изменил курс на северный. Примерно в это время британское Адмиралтейство получило информацию от своего атташе в Стокгольме о проходе в северо-западном направлении двух неопознанных крупных кораблей в охранении трех эсминцев.  18-я авиагруппа Берегового командования немедленно получила приказ осуществить на рассвете 21 мая разведывательные полеты между Тронхеймом и Ставангером. В 6:40 утра на "Prinz Eugen" перехватили и расшифроваш английские приказы береговой авиации искать в море два линкора и три эсминца. Сразу после восхода солнца низко над горизонтом были вроде бы замечены самолеты, однако они не предприняли попыток сблизиться с кораблями. В самом деле ближайший разведывательный самолет "Бленхейм" Н/254 был все еще вне зоны видимости эскадры, когда германские корабли вошли в находящийся в районе Бергена Корс-фьорд.
18-я авиагруппа Берегового командования немедленно получила приказ осуществить на рассвете 21 мая разведывательные полеты между Тронхеймом и Ставангером. В 6:40 утра на "Prinz Eugen" перехватили и расшифроваш английские приказы береговой авиации искать в море два линкора и три эсминца. Сразу после восхода солнца низко над горизонтом были вроде бы замечены самолеты, однако они не предприняли попыток сблизиться с кораблями. В самом деле ближайший разведывательный самолет "Бленхейм" Н/254 был все еще вне зоны видимости эскадры, когда германские корабли вошли в находящийся в районе Бергена Корс-фьорд.
 Хотя изначально Лютьенс не планировал заходить в Норвегию, вероятно, хорошая погода заставила его изменить планы. Прорыв нужно было осуществлять при плохой видимости. Поскольку ни Лютьенс, ни кто-либо из его штаба или высокопоставленных офицеров не пережил этот поход, то о причинах принятия тех или иных решений во время операции можно только догадываться. "Prinz Eugen" стал на якорь в заливе Кальванес, а "Bismarck" — в Гримстад-фьорде. Лютьенс запросил последние данные по местонахождению британских кораблей, и офицер Люфтваффе прилетел из Ставангера для того, чтобы ознакомить адмирала с аэрофотосъемкой Скапа-Флоу и Датского пролива. Тяжелый крейсер и эсминцы были дозаправлены топливом от танкера "Wollin", однако "Bismarck" не заправлялся, поскольку именно это предусматривали разработанные оперативные планы. На заправку всех пяти кораблей не было времени, а линкор имел наибольшую дальность плавания. Вместо этого на нем был закрашен его знаменитый камуфляж из косых полос.
Хотя изначально Лютьенс не планировал заходить в Норвегию, вероятно, хорошая погода заставила его изменить планы. Прорыв нужно было осуществлять при плохой видимости. Поскольку ни Лютьенс, ни кто-либо из его штаба или высокопоставленных офицеров не пережил этот поход, то о причинах принятия тех или иных решений во время операции можно только догадываться. "Prinz Eugen" стал на якорь в заливе Кальванес, а "Bismarck" — в Гримстад-фьорде. Лютьенс запросил последние данные по местонахождению британских кораблей, и офицер Люфтваффе прилетел из Ставангера для того, чтобы ознакомить адмирала с аэрофотосъемкой Скапа-Флоу и Датского пролива. Тяжелый крейсер и эсминцы были дозаправлены топливом от танкера "Wollin", однако "Bismarck" не заправлялся, поскольку именно это предусматривали разработанные оперативные планы. На заправку всех пяти кораблей не было времени, а линкор имел наибольшую дальность плавания. Вместо этого на нем был закрашен его знаменитый камуфляж из косых полос.
 В это время с аэродромов в Шотландии для поиска германских кораблей поднялись два разведчика "Spitfire". Около 13:15 один из них, пилотируемый лейтенантом Майклом Саклингом, обнаружил и сфотографировал "Bismarck" и "Prinz Eugen" с высоты около 8000 м. Как только информация о тяжелых кораблях в Норвегии получила подтверждение, командующий Флотом метрополии адмирал Джон Тови предупредил патрулировавшие Датский пролив тяжелые крейсера "Norfolk" и "Suffolk", а также легкие крейсера "Birmingham" и "Manchester", к которым позже должна была присоединиться "Arethusa". Отряд в составе линкора "Prince of Wales", линейного крейсера "Hood" и 6 эсминцев под командованием вице-адмирала Ланселота Холланда был выслан около полуночи 21 мая для патрулирования проходов в Атлантику, особенно района севернее 62 широты. Сам Тови с линкором "King George V", крейсерами и эсминцами оставался в Скапа-Флоу до прояснения ситуации.
В это время с аэродромов в Шотландии для поиска германских кораблей поднялись два разведчика "Spitfire". Около 13:15 один из них, пилотируемый лейтенантом Майклом Саклингом, обнаружил и сфотографировал "Bismarck" и "Prinz Eugen" с высоты около 8000 м. Как только информация о тяжелых кораблях в Норвегии получила подтверждение, командующий Флотом метрополии адмирал Джон Тови предупредил патрулировавшие Датский пролив тяжелые крейсера "Norfolk" и "Suffolk", а также легкие крейсера "Birmingham" и "Manchester", к которым позже должна была присоединиться "Arethusa". Отряд в составе линкора "Prince of Wales", линейного крейсера "Hood" и 6 эсминцев под командованием вице-адмирала Ланселота Холланда был выслан около полуночи 21 мая для патрулирования проходов в Атлантику, особенно района севернее 62 широты. Сам Тови с линкором "King George V", крейсерами и эсминцами оставался в Скапа-Флоу до прояснения ситуации.
Тем временем Королевские ВВС организовали налет силами 6 "Уитли" 612-й, 10 "Хадсонов" 220-й и двух 269-й эскадрильи. Однако погода к тому времени испортилась, и хотя 2 "Хадсона" произвели бомбардировку закрытой облаками стоянки, германских кораблей там уже не было. В 19:30 "Bismarck" поднял якорь и направился в залив Кальванес. К 23:00 эскадра адмирала Лютьенса покинула фьорды и направилась в арктические широты. В 4:15 утра эсминцы отсоединились от эскадры у Тронхейма. Поскольку, как уже отмечалось, никто из штаба Лютьенса не уцелел, неизвестно, по каким причинам он отказался от прорыва по между Фарерскими островами и Исландией и направил свои корабли севернее.
В 19:30 "Bismarck" поднял якорь и направился в залив Кальванес. К 23:00 эскадра адмирала Лютьенса покинула фьорды и направилась в арктические широты. В 4:15 утра эсминцы отсоединились от эскадры у Тронхейма. Поскольку, как уже отмечалось, никто из штаба Лютьенса не уцелел, неизвестно, по каким причинам он отказался от прорыва по между Фарерскими островами и Исландией и направил свои корабли севернее.
Погода оставалась туманной, и отряд Лютьенса в течение большей части дня 22 мая поддерживал ход 24 узла. Около 9:30 адмирал получил шифровку от группы "Норд", что по последней информации выход эскадры из Бергена остался не замеченным англичанами. В 12:37 была поднята тревога и полчаса корабли шли зигзагом для уклонения от возможной атаки подводных лодок. К полудню Лютьенс принял решение отказаться от первоначального плана дозаправиться топливом от танкера "Weissenburg", о чем он известил командира "Prinz Eugen". Он, видимо, считал погоду благоприятной для прорыва и сообщил, что не будет дозаправляться если она не улучшится. В 13:10 оба корабля повернули налево на курс 325° и направились к Датскому проливу.
К вечеру погода еще больше ухудшилась: поднялся юго-западный ветер, позже начался дождь. К этому времени были отданы распоряжения перекрасить крыши башен в серый цвет и закрыть брезентом свастики на верхней палубе. Корабли вошли в зону, в которой встреч со своими самолётами не ожидалось, а опознавание их авиацией противника следовало по возможности усложнить. Поздно вечером погода совсем испортилась: видимость упала до 300—400 м, и шедший головным "Bismarck" уже не был виден с крейсера.
Поздно вечером погода совсем испортилась: видимость упала до 300—400 м, и шедший головным "Bismarck" уже не был виден с крейсера.
После 23:00 Лютьенс получил три важных радиограммы. Одна из них подтверждала предположение о том, что выход эскадры в море остался незамеченным. Вторая сообщала, что воздушная разведка Скапа-Флоу 22 мая указала на наличие на базе четырех линейных кораблей, возможно одного авианосца, вероятно 6 легких крейсеров и нескольких эсминцев. Впоследствии выяснилось, что доклад воздушной разведки оказался ошибочным — к тому времени "Hood" и ""Prince of Wales" уже вышли в море.
 Третья радиограмма сообщала об отсутствии признаков оперативной активности британских сил и указывала на возможность нанести серьезный урон Британии на море. Как видно, плохая погода не только благоприятствовала германским кораблям, но и мешала немецкой авиации получить достоверную информацию о действиях англичан. По-видимому, эти радиограммы окончательно убедили Лютьенса в правильности немедленного прорыва Датским проливом, и в 23:22 он приказал отряду лечь на курс 266°.
Третья радиограмма сообщала об отсутствии признаков оперативной активности британских сил и указывала на возможность нанести серьезный урон Британии на море. Как видно, плохая погода не только благоприятствовала германским кораблям, но и мешала немецкой авиации получить достоверную информацию о действиях англичан. По-видимому, эти радиограммы окончательно убедили Лютьенса в правильности немедленного прорыва Датским проливом, и в 23:22 он приказал отряду лечь на курс 266°.
В тот же день, 22 мая, гросс-адмирал Редер имел встречу с Гитлером в Бергхофе и кратко проинформировал фюрера о проводящейся операции. Во время встречи Редеру пришлось убеждать Гитлера не отзывать корабли. Последнего беспокоили возможные осложнения отношений с Соединенными Штатами, чего он хотел любой ценой избежать, особенно перед началом кампании против Советского Союза и во время проведения операции по захвату Крита.
Плохая погода в течение 22 мая сильно осложняла и ответные действия противника. Для удара по германским кораблям в Бергене не знавшие об их уходе англичане отрядили 30 "Хэмпденов" и 42-ю эскадрилью торпедоносцев "Бофорт". В готовности находились 7 "Альбакоров" 828-й эскадрильи FAA. Они ждали улучшения погоды для вылета к Бергену. Было выслано несколько разведывательных самолетов, но видимость вскоре ухудшилась настолько, что все полеты пришлось прекратить. Однако Адмиралтейство отчаянно нуждалось в информации о местонахождении "Bismarck", поэтому были вызваны два добровольца, совершившие вылет на "Мэриленде" 771-й эскадрильи FAA из Хэтстона на Оркнейских островах.
Самолету удалось найти место стоянки германских кораблей и обнаружить их отсутствие. В результате Адмиралтейство распорядилось об организации воздушного патрулирования оснащенными радарами летающими лодками "Сандерленд" водного пространства у норвежского берега до Ставангера и Бергена, а также между Шетландскими и Фарерскими островами и между Фарерскими островами и Исландией. Район к югу от Исландии и Датский пролив должен был патрулироваться "Каталинами". Однако вследствие тяжелых погодных условий вылеты патрульных самолетов или не состоялись, или были сильно сокращены. В 22:15 вторая эскадра под командованием самого адмирала Тови в составе линкора "King George V", авианосца "Victorious", легких крейсеров "Kenya", "Neptun", "Galatea", "Aurora", "Hermione" и 6 эсминцев вышла из Скапа-Флоу и направилась в Северную Атлантику. Линейному крейсеру "Repulse" было приказано выйти из Клайда и присоединиться к эскадре севернее Гебридских островов утром 23 мая. Также 23 мая из Гибралтара вышло Соединение "Н" вице-адмирала Сомервилла в составе линейного крейсера "Renown", авианосца "Ark Royal", крейсера "Sheffild" и эсминцев.
 В 4:00 23 мая два германских корабля повернули на курс 250° и увеличили ход до 27 уз. "Bismarck" шел головным, "Prinz Eugen" — в 700 м позади. Стоял легкий туман, видимость составляла от 3000 до 4000 м. Около 10:00 заметили плавающий лед, и ход уменьшили до 24 уз. К полудню эскадра уже находилась севернее Исландии. В 18:11 была объявлена тревога, оказавшаяся ложной — замеченные по правому борту объекты оказались обычными айсбергами. В 18:21 корабли достигли кромки ледяного поля. Надо льдом видимость была хорошей, но восток был затянут туманом. До сих пор не было никаких признаков английских патрулей. Корабли повернули в пролив на курс 240°, маневрируя между плавучими льдинами.
В 4:00 23 мая два германских корабля повернули на курс 250° и увеличили ход до 27 уз. "Bismarck" шел головным, "Prinz Eugen" — в 700 м позади. Стоял легкий туман, видимость составляла от 3000 до 4000 м. Около 10:00 заметили плавающий лед, и ход уменьшили до 24 уз. К полудню эскадра уже находилась севернее Исландии. В 18:11 была объявлена тревога, оказавшаяся ложной — замеченные по правому борту объекты оказались обычными айсбергами. В 18:21 корабли достигли кромки ледяного поля. Надо льдом видимость была хорошей, но восток был затянут туманом. До сих пор не было никаких признаков английских патрулей. Корабли повернули в пролив на курс 240°, маневрируя между плавучими льдинами.
В 19:22 на "Bismarck" неожиданно сыграли боевую тревогу. С помощью гидрофонов и радара впереди с правого борта на расстоянии примерно 12,5 км был обнаружен неопознанный корабль. Это был тяжелый крейсер "Suffolk" (кэптен Эллис), патрулировавший район и только что отвернувший от кромки льда на юго-запад. Англичане также заметили немецкие корабли, и крейсер быстро укрылся в тумане, доложив об обнаружении одного линкора и одного крейсера, идущих курсом 240. После этого "Suffolk" пропустил противника вперед и занял позицию сзади для слежения за немецкой эскадрой. В 20:15 Лютьенс послал радиограмму группе "Норд" об обнаружении одного тяжелого крейсера противника. В 20:34 адмирал Карльс получил ее, а еще через 17 минут — расшифровку перехваченной радиограммы "Suffolk". Карльс немедленно запросил воздушную разведку Скапа-Флоу, однако она не могла быть проведена из-за погодных условий.
Примерно через час после первого контакта "Bismarck" обнаружил радаром второй корабль по левому борту и немедленно передал эту информацию на "Prinz Eugen". Неожиданно английский корабль (а это был крейсер "Norfolk" под флагом контр-адмирала Уэйк-Уокера) вынырнул из тумана всего в 6400 м от германского линкора. Поскольку башни "Bismarck" по информации от радара уже были развернуты на левый борт, корабль немедленно открыл огонь, дав пять залпов главным калибром.  Три из них накрыли "Norfolk", но он избежал прямых попаданий и немедленно отвернул в туман, поставив дымовую завесу и увеличив скорость, чтобы отойти подальше от неприятельского линкора. На "Bismarck" же в результате сотрясений от стрельбы и дульных газов вышел из строя носовой радар, и Лютьенс отдал приказ "Prinz Eugen" возглавить эскадру.
Три из них накрыли "Norfolk", но он избежал прямых попаданий и немедленно отвернул в туман, поставив дымовую завесу и увеличив скорость, чтобы отойти подальше от неприятельского линкора. На "Bismarck" же в результате сотрясений от стрельбы и дульных газов вышел из строя носовой радар, и Лютьенс отдал приказ "Prinz Eugen" возглавить эскадру.
"Suffolk" расположился за кормой кораблей Лютьенса на расстоянии несколько меньше дальности действия своего радара типа 284, которая составляла 24 км, в то время как оснащенный менее мощным радаром типа 286Р "Norfolk" занял позицию слева от немецкой эскадры. Ледяные поля делали невозможным сколь-нибудь интенсивное маневрирование справа от германских кораблей. Иногда дождь или снежный заряд скрывали немцев, но "Suffolk" продолжал удерживать радиолокационный контакт. Около 22:00 эскадра Лютьенса укрылась в дожде и увеличила ход до 30 узлов. В этот момент "Bismarck" сделал разворот на 180°, направившись прямо на следовавший позади "Suffolk".  Тот отвернул на восток и в результате потерял контакт, а линкор вернулся на прежний курс. Тем не менее, немецкие корабли продолжали принимать излучение британских радаров, что весьма беспокоило Лютьенса, не догадывавшегося о том, что его корабли находились вне зоны обнаружения. Потерявшие же противника британские крейсера повернули обратно в пролив, но, не обнаружив и там немецкую эскадру, вскоре вернулись на прежний курс. Все раннее утро 24 мая "Bismarck", "Prinz Eugen" и два английских крейсера шли параллельными курсами на юго-запад, и в 2:56 "Suffolk" удалось восстановить радиолокационный контакт.
Тот отвернул на восток и в результате потерял контакт, а линкор вернулся на прежний курс. Тем не менее, немецкие корабли продолжали принимать излучение британских радаров, что весьма беспокоило Лютьенса, не догадывавшегося о том, что его корабли находились вне зоны обнаружения. Потерявшие же противника британские крейсера повернули обратно в пролив, но, не обнаружив и там немецкую эскадру, вскоре вернулись на прежний курс. Все раннее утро 24 мая "Bismarck", "Prinz Eugen" и два английских крейсера шли параллельными курсами на юго-запад, и в 2:56 "Suffolk" удалось восстановить радиолокационный контакт.
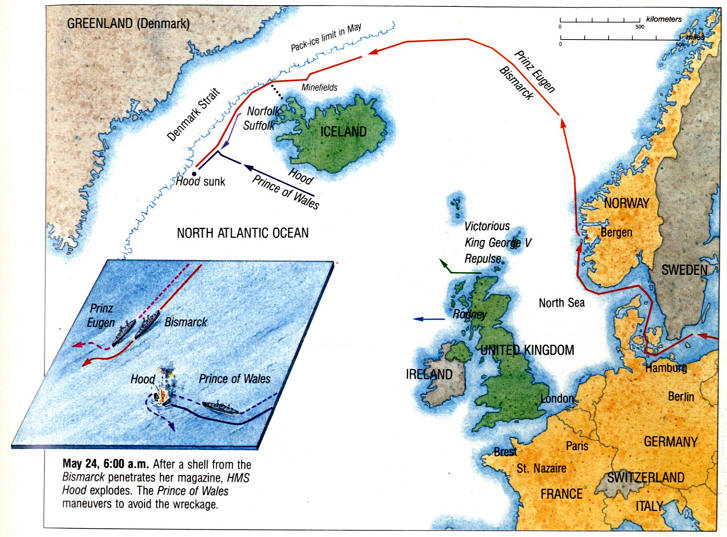 Информация об обнаружении "Suffolk" германских кораблей не была получена Тови. К тому времени, как он получил сообщение с "Norfolk", его эскадра двигалась к южному выходу из Датского пролива и была еще достаточно далеко. С другой стороны, вице-адмирал Холланд в 20:02 23 мая получил первый доклад с "Suffolk", согласно которому противник находился в 300 милях севернее его эскадры, состоявшей из "Hood" (кэптен Керр), "Prince of Wales" (кэптен Лич) и четырех эсминцев, еще два эсминца были направлены в Исландию для заправки топливом. Холланд направил свои корабли на перехват противника. Кроме того, улучшившиеся погодные условия над Исландией позволили подключить к поиску базировавшиеся там самолеты: "Сандерленды" 201-й эскадрильи из Рейкьявика и "Хадсоны" 269-й эскадрильи из Калдадарнеса.
Информация об обнаружении "Suffolk" германских кораблей не была получена Тови. К тому времени, как он получил сообщение с "Norfolk", его эскадра двигалась к южному выходу из Датского пролива и была еще достаточно далеко. С другой стороны, вице-адмирал Холланд в 20:02 23 мая получил первый доклад с "Suffolk", согласно которому противник находился в 300 милях севернее его эскадры, состоявшей из "Hood" (кэптен Керр), "Prince of Wales" (кэптен Лич) и четырех эсминцев, еще два эсминца были направлены в Исландию для заправки топливом. Холланд направил свои корабли на перехват противника. Кроме того, улучшившиеся погодные условия над Исландией позволили подключить к поиску базировавшиеся там самолеты: "Сандерленды" 201-й эскадрильи из Рейкьявика и "Хадсоны" 269-й эскадрильи из Калдадарнеса.
Получив сообщение с "Norfolk", Холланд изменил курс на 295° и увеличил скорость до 27 узлов, рассчитывая выйти на дистанцию боя утром 24 мая. Когда крейсера потеряли противника, адмирал предположил, что тот резко изменил курс, поэтому в 0:12 развернул свои корабли на курс 340°, а в 0:17 на северный и следовал этим курсом до 2:05, когда отряд разделился. Эсминцы были отправлены в северном направлении, чтобы расширить зону поиска, а тяжелые корабли повернули на 200°. В 2:14 скорость была увеличена до 26, а затем до 27 узлов. На самом деле Холланд подошел весьма близко к противнику и около 1:40 двигался с ним параллельными курсами на расстоянии примерно 20 миль. Вскоре после этого немецкий отряд несколько довернул на запад, следуя вдоль ледовых полей, и начал потихоньку удаляться от британской эскадры. После восстановления "Suffolk" радиолокационного контакта Холланд обнаружил, что его корабли находятся на расстоянии всего около 35 миль от отряда Лютьенса. Англичане дважды доворачивали на противника — в 3:21 на курс 220°, в 3:42 на курс 240°, а в 3:53 дали полный ход — 28 узлов.
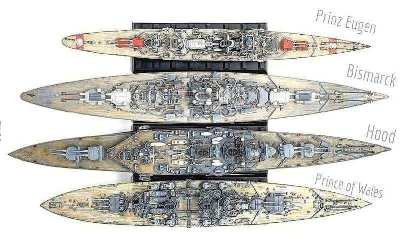 24 мая в 5:15 утра "Prinz Eugen" установил гидроакустический контакт, определенный как шум быстро вращающихся винтов. В 5:45 по левому борту был замечен дым, и вскоре на горизонте показались мачты военных кораблей. На германской эскадре сыграли боевую тревогу. Английские наблюдатели обнаружили противника уже в 5:35, на 10 минут раньше немцев, и в 5:38 корабли Холланда повернули на курс 280° для быстрейшего сближения, а в 5:49 довернули еще на 20 градусов, следуя курсом 300°.
24 мая в 5:15 утра "Prinz Eugen" установил гидроакустический контакт, определенный как шум быстро вращающихся винтов. В 5:45 по левому борту был замечен дым, и вскоре на горизонте показались мачты военных кораблей. На германской эскадре сыграли боевую тревогу. Английские наблюдатели обнаружили противника уже в 5:35, на 10 минут раньше немцев, и в 5:38 корабли Холланда повернули на курс 280° для быстрейшего сближения, а в 5:49 довернули еще на 20 градусов, следуя курсом 300°.
 Наблюдатели на "Bismarck" и "Prinz Eugen" не могли вначале уверенно опознать британские корабли. Некоторые офицеры правильно определили головной как "Hood", другие считали, что это тяжелый крейсер "Exeter". В 5:52 стороны сблизились на 26 000 м, и "Hood" открыл огонь. В 5:53 к нему присоединился "Prince of Wales", который был правильно опознан немцами как линкор типа "King George V". Немцы считали, что это был сам "King George V", не предполагая, что абсолютно новый линкор мог быть брошен в бой без соответствующей подготовки, которой был так привержен германский флот. Проблема англичан состояла в том, что в результате маневров Холланда они попали в невыгодное тактическое положение, близкое к охвату головы, и их кормовые башни оказались не у дел.
Наблюдатели на "Bismarck" и "Prinz Eugen" не могли вначале уверенно опознать британские корабли. Некоторые офицеры правильно определили головной как "Hood", другие считали, что это тяжелый крейсер "Exeter". В 5:52 стороны сблизились на 26 000 м, и "Hood" открыл огонь. В 5:53 к нему присоединился "Prince of Wales", который был правильно опознан немцами как линкор типа "King George V". Немцы считали, что это был сам "King George V", не предполагая, что абсолютно новый линкор мог быть брошен в бой без соответствующей подготовки, которой был так привержен германский флот. Проблема англичан состояла в том, что в результате маневров Холланда они попали в невыгодное тактическое положение, близкое к охвату головы, и их кормовые башни оказались не у дел.
 Хотя "Bismarck" был накрыт четвертым залпом "Prince of Wales", он несколько задержался с ответом, поскольку Лютьенс не сразу дал разрешение вести стрельбу. Наконец в 5:55 Линдеман отдал приказ об открытии огня, и линкор начал стрелять по головному британскому кораблю четырехорудийными залпами. В ту же минуту к флагману присоединился "Prinz Eugen", также использовавший четырехорудийные залпы. Он начал стрельбу дежурными фугасными снарядами с головным взрывателем. Его старший артиллерийский офицер корветтен-капитан Пауль Яспер по прежнему считал головной неприятельский корабль, по которому велся огонь, крейсером. Одновременно, недалеко от самого "Prinz Eugen" (на расстоянии от 140 до 460 м) стали падать снаряды с "Hood", поэтому на крейсере не смогли наблюдать падение первого залпа. Второй залп был произведен уже фугасными снарядами с донным взрывателем и дал накрытие. Третьим залпом тяжелого крейсера было достигнуто попадание в шлюпочную палубу "Hood" в районе третьей 102-мм установки левого борта. Попадание вызвало хорошо наблюдаемый пожар кордитных зарядов дежурных выстрелов, вероятно, неуправляемых зенитных ракет (UP). В 5:58 был получен приказ с "Bismarck" перенести огонь на второй корабль. "Prinz Eugen" также навел на противника торпедные аппараты, и Бринкман отдал приказ стрелять торпедами, как только дистанция позволит. За это время в крейсер в район основания дымовой трубы попал осколок от 356-мм снаряда с "Prince of Wales" — единственное полученное крейсером за весь бой повреждение.
Хотя "Bismarck" был накрыт четвертым залпом "Prince of Wales", он несколько задержался с ответом, поскольку Лютьенс не сразу дал разрешение вести стрельбу. Наконец в 5:55 Линдеман отдал приказ об открытии огня, и линкор начал стрелять по головному британскому кораблю четырехорудийными залпами. В ту же минуту к флагману присоединился "Prinz Eugen", также использовавший четырехорудийные залпы. Он начал стрельбу дежурными фугасными снарядами с головным взрывателем. Его старший артиллерийский офицер корветтен-капитан Пауль Яспер по прежнему считал головной неприятельский корабль, по которому велся огонь, крейсером. Одновременно, недалеко от самого "Prinz Eugen" (на расстоянии от 140 до 460 м) стали падать снаряды с "Hood", поэтому на крейсере не смогли наблюдать падение первого залпа. Второй залп был произведен уже фугасными снарядами с донным взрывателем и дал накрытие. Третьим залпом тяжелого крейсера было достигнуто попадание в шлюпочную палубу "Hood" в районе третьей 102-мм установки левого борта. Попадание вызвало хорошо наблюдаемый пожар кордитных зарядов дежурных выстрелов, вероятно, неуправляемых зенитных ракет (UP). В 5:58 был получен приказ с "Bismarck" перенести огонь на второй корабль. "Prinz Eugen" также навел на противника торпедные аппараты, и Бринкман отдал приказ стрелять торпедами, как только дистанция позволит. За это время в крейсер в район основания дымовой трубы попал осколок от 356-мм снаряда с "Prince of Wales" — единственное полученное крейсером за весь бой повреждение.
 Первый залп "Bismarck", по оценке его старшего артиллерийского офицера Адальберта Шнайдера, лег с недолетом и спереди от "Hood". Второй залп дал перелет, однако Шнайдер посчитал его накрытием. Третий залп также дал накрытие с одним возможным попаданием (вероятно, это было попадание с "Prinz Eugen"). После начала пожара на шлюпочной палубе британского корабля, артиллерийские офицеры "Bismarck" смогли более уверенно определить дистанцию до противника, и Шнайдер распорядился перейти на полные восьмиорудийные залпы. Четвертый залп "Bismarck" дал недолет.
Первый залп "Bismarck", по оценке его старшего артиллерийского офицера Адальберта Шнайдера, лег с недолетом и спереди от "Hood". Второй залп дал перелет, однако Шнайдер посчитал его накрытием. Третий залп также дал накрытие с одним возможным попаданием (вероятно, это было попадание с "Prinz Eugen"). После начала пожара на шлюпочной палубе британского корабля, артиллерийские офицеры "Bismarck" смогли более уверенно определить дистанцию до противника, и Шнайдер распорядился перейти на полные восьмиорудийные залпы. Четвертый залп "Bismarck" дал недолет.
 "Hood" первоначально открыл огонь по "Prinz Eugen", приняв его за "Bismarck". Командир "Prince of Wales" кэптен Лич понял ошибку Холланда и отдал приказ открыть огонь по второму кораблю. Вскоре исправился и Холланд, приказав перенести огонь на второй мателот. Оба британских корабля могли стрелять только головными башнями, вдобавок на "Prince of Wales" одно из орудий в носовой четырехорудийной башне не действовало. Тем не менее этот линкор в течение 6 минут смог трижды поразить "Bismarck" с дистанции порядка 20—22 тысяч метров. Один снаряд попал в носовой 60-мм пояс в районе отсека XXI и пробил корабль насквозь, проделав две дыры в районе ватерлинии. Второй уничтожил капитанский катер, но также не взорвался. Третий снаряд попал под броневой пояс в районе отсеков XIII и XIV и взорвался при попадании в противоторпедную переборку.
"Hood" первоначально открыл огонь по "Prinz Eugen", приняв его за "Bismarck". Командир "Prince of Wales" кэптен Лич понял ошибку Холланда и отдал приказ открыть огонь по второму кораблю. Вскоре исправился и Холланд, приказав перенести огонь на второй мателот. Оба британских корабля могли стрелять только головными башнями, вдобавок на "Prince of Wales" одно из орудий в носовой четырехорудийной башне не действовало. Тем не менее этот линкор в течение 6 минут смог трижды поразить "Bismarck" с дистанции порядка 20—22 тысяч метров. Один снаряд попал в носовой 60-мм пояс в районе отсека XXI и пробил корабль насквозь, проделав две дыры в районе ватерлинии. Второй уничтожил капитанский катер, но также не взорвался. Третий снаряд попал под броневой пояс в районе отсеков XIII и XIV и взорвался при попадании в противоторпедную переборку.
 Адмирал Холланд решил несколько отвернуть, введя в действие кормовые башни. В 6:00 был поднят сигнал изменить курс на 20° влево. К этому моменту "Hood" произвел порядка шести, а "Prince of Wales" — восьми залпов. Во время этого маневра в 6:01 пятый залп "Bismarck" с дистанции менее 167 гектометров (принятая в германской морской артиллерии мера расстояния; 1 гектометр = 100 м.) поразил головной корабль противника одним или несколькими снарядами в район грот-мачты. Раздался огромный взрыв, и "Hood" — краса и гордость Королевского флота, олицетворение могущества Британии на морях — в течение примерно трех минут затонул. Из экипажа в 1418 человек спаслось всего трое. Существует много версий по поводу точного места попадания и причины взрыва, но их обсуждение выходит за рамки данной книги. Почти наверняка тем или иным способом был подожжен кордит в кормовых погребах главного калибра, что привело к их взрыву. Произведший девятый залп "Prince of Wales" вынужден был сманеврировать, чтобы избежать столкновения с тонущим флагманом.
Адмирал Холланд решил несколько отвернуть, введя в действие кормовые башни. В 6:00 был поднят сигнал изменить курс на 20° влево. К этому моменту "Hood" произвел порядка шести, а "Prince of Wales" — восьми залпов. Во время этого маневра в 6:01 пятый залп "Bismarck" с дистанции менее 167 гектометров (принятая в германской морской артиллерии мера расстояния; 1 гектометр = 100 м.) поразил головной корабль противника одним или несколькими снарядами в район грот-мачты. Раздался огромный взрыв, и "Hood" — краса и гордость Королевского флота, олицетворение могущества Британии на морях — в течение примерно трех минут затонул. Из экипажа в 1418 человек спаслось всего трое. Существует много версий по поводу точного места попадания и причины взрыва, но их обсуждение выходит за рамки данной книги. Почти наверняка тем или иным способом был подожжен кордит в кормовых погребах главного калибра, что привело к их взрыву. Произведший девятый залп "Prince of Wales" вынужден был сманеврировать, чтобы избежать столкновения с тонущим флагманом.
 С седьмого залпа "Bismarck" перенес огонь на новую цель, и теперь одинокий британский линкор оказался под огнем обоих германских кораблей. Седьмой залп "Bismarck" лег с недолетом, но восьмой примерно в 6:02 дал попадание в переднюю надстройку на уровне компасной платформы. Тут же еще один снаряд, по-видимому с "Prinz Eugen", попал в основание носового зенитного директора правого борта. Он также прошел насквозь без взрыва, но вывел из строя оба директора вспомогательной артиллерии и другое оборудование.
С седьмого залпа "Bismarck" перенес огонь на новую цель, и теперь одинокий британский линкор оказался под огнем обоих германских кораблей. Седьмой залп "Bismarck" лег с недолетом, но восьмой примерно в 6:02 дал попадание в переднюю надстройку на уровне компасной платформы. Тут же еще один снаряд, по-видимому с "Prinz Eugen", попал в основание носового зенитного директора правого борта. Он также прошел насквозь без взрыва, но вывел из строя оба директора вспомогательной артиллерии и другое оборудование.
Вскоре еще один 380-мм снаряд попал в стойку крана на высоте 3 м над шлюпочной палубой, рикошетировал и взорвался за второй трубой. Ударной волной и осколками были нанесены значительные повреждения палубному оборудованию, в частности, выведен из строя левый кормовой зенитный директор, гидросамолет "Уолрус", пробита вторая дымовая труба. В течение последующих нескольких минут "Prince of Wales" получил еще одно попадание с "Bismarck" и три с "Prinz Eugen". 380-мм снаряд прошел по подводной траектории и, пробив обшивку в 8,5 метрах ниже ватерлинии и две переборки, уткнулся в главную ПТП и остановился без взрыва. Это попадание осталось незамеченным и было обнаружено только при осмотре линкора в сухом доке в Розайте, поэтому его точное время установить нельзя. Из трех 203-мм снарядов взорвался только один.
 Когда дистанция упала до 18 300 м, "Bismarck" открыл огонь из 150-мм орудий. Вскоре дистанция сократилась до 14 км и тогда огонь открыли даже 105-мм зенитки немцев.
Когда дистанция упала до 18 300 м, "Bismarck" открыл огонь из 150-мм орудий. Вскоре дистанция сократилась до 14 км и тогда огонь открыли даже 105-мм зенитки немцев.
 "Prince of Wales", обогнув обломки "Hood", вышел на почти параллельные с немецкой эскадрой курсы. Линкор испытывал проблемы с артиллерией, стреляя в основном трехорудийными залпами. Поэтому кэптен Лич принял решение выйти из боя. Контр-адмирал Уэйк-Уокер, находившийся на "Norfolk" и ставший после гибели Холланда старшим командиром эскадры, согласился с этим решением. Примерно в 6:06 "Prince of Wales" отвернул от противника и начал ставить дымовую завесу. При отходе он дал еще три залпа кормовой башней, не добившись никакого успеха. В какой-то момент немцам показалось, что английские тяжелые крейсера выпустили по ним торпеды, поэтому в это время немецкие корабли проводили маневр уклонения. Их стрельба в последние минуты боя также была неэффективной, и в 6:09 они прекратили огонь. Около 6:19 "Suffolk" попытался присоединиться к бою, сделав шесть залпов по "Bismarck" с предельной дистанции, но через несколько минут прекратил огонь, поскольку практически никакой надежды на попадания не было.
"Prince of Wales", обогнув обломки "Hood", вышел на почти параллельные с немецкой эскадрой курсы. Линкор испытывал проблемы с артиллерией, стреляя в основном трехорудийными залпами. Поэтому кэптен Лич принял решение выйти из боя. Контр-адмирал Уэйк-Уокер, находившийся на "Norfolk" и ставший после гибели Холланда старшим командиром эскадры, согласился с этим решением. Примерно в 6:06 "Prince of Wales" отвернул от противника и начал ставить дымовую завесу. При отходе он дал еще три залпа кормовой башней, не добившись никакого успеха. В какой-то момент немцам показалось, что английские тяжелые крейсера выпустили по ним торпеды, поэтому в это время немецкие корабли проводили маневр уклонения. Их стрельба в последние минуты боя также была неэффективной, и в 6:09 они прекратили огонь. Около 6:19 "Suffolk" попытался присоединиться к бою, сделав шесть залпов по "Bismarck" с предельной дистанции, но через несколько минут прекратил огонь, поскольку практически никакой надежды на попадания не было.
 Несмотря на настойчивость Линдемана, предпочитавшего преследовать противника, Лютьенс решил этого не делать. "Bismarck" уже получил определенные повреждения, и командующий эскадрой не мог рисковать. Точное состояние британского линкора было неизвестным. Следовало учитывать и два неприятельских тяжелых крейсера, к тому же вооруженных торпедами. Основной целью рейда были атлантические конвои, и планом операции явно предписывалось не идти на излишний риск. В 6:36 Лютьенс послал радиограмму командованию группы "Норд" о потоплении линейного крейсера (предположительно "Hood") и повреждении "King George V" или "Renown". В это время британские тяжелые крейсера продолжали держать германскую эскадру в поле своего зрения.
Несмотря на настойчивость Линдемана, предпочитавшего преследовать противника, Лютьенс решил этого не делать. "Bismarck" уже получил определенные повреждения, и командующий эскадрой не мог рисковать. Точное состояние британского линкора было неизвестным. Следовало учитывать и два неприятельских тяжелых крейсера, к тому же вооруженных торпедами. Основной целью рейда были атлантические конвои, и планом операции явно предписывалось не идти на излишний риск. В 6:36 Лютьенс послал радиограмму командованию группы "Норд" о потоплении линейного крейсера (предположительно "Hood") и повреждении "King George V" или "Renown". В это время британские тяжелые крейсера продолжали держать германскую эскадру в поле своего зрения.





Итоги боя: повреждения "Bismarck"
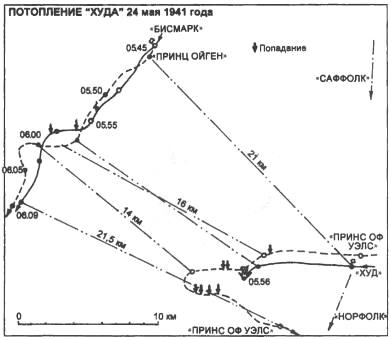 В результате первоначального маневрирования Холланда во время всего боя немецкая сторона имела определенное огневое преимущество, поскольку кормовые башни английских кораблей не действовали. В принципе понятно стремление британского адмирала побыстрее сблизиться с противником, которому он к тому же уступал в скорости, но подобное быстрое сближение на острых углах содержало определенный риск. В данном случае он оказался неоправданным, хотя можно считать, что англичанам просто не повезло. Обе стороны неплохо стреляли на прямых курсах (за исключением не разобравшегося изначально с целями "Hood"), но абсолютно перестали попадать при маневрировании. "Prince of Wales", видимо, уже не достиг ни одного попадания после начала маневра по огибанию тонущего "Hood". Немцы шли прямым курсом дольше и перестали попадать при уклонении от мнимых торпед.
В результате первоначального маневрирования Холланда во время всего боя немецкая сторона имела определенное огневое преимущество, поскольку кормовые башни английских кораблей не действовали. В принципе понятно стремление британского адмирала побыстрее сблизиться с противником, которому он к тому же уступал в скорости, но подобное быстрое сближение на острых углах содержало определенный риск. В данном случае он оказался неоправданным, хотя можно считать, что англичанам просто не повезло. Обе стороны неплохо стреляли на прямых курсах (за исключением не разобравшегося изначально с целями "Hood"), но абсолютно перестали попадать при маневрировании. "Prince of Wales", видимо, уже не достиг ни одного попадания после начала маневра по огибанию тонущего "Hood". Немцы шли прямым курсом дольше и перестали попадать при уклонении от мнимых торпед.
Всего "Bismarck" выпустил 93 бронебойных снаряда главного калибра, таким образом, его боевая скорострельность составила около 0,7 выстрела в минуту. Кроме этого, линкор израсходовал неизвестное число 150-мм и даже некоторое количество 105-мм снарядов. Последние были выпущены, по-видимому, в английскую летающую лодку, наблюдавшую за боем, хотя точно известно, что "Prinz Eugen" стрелял 105-мм снарядами и по британскому линкору.
 Сам "Bismarck" получил три попадания. Первое — 356-мм снарядом, попавшим в 60-мм противоосколочный пояс в носу в отсеке XXI (на два отсека впереди носового броневого траверза). Снаряд не взорвался, но прошел насквозь и образовал в 60-мм поясе две дыры диаметром 850 мм немного выше ватерлинии, но ниже уровня носового буруна. По пути снаряд пробил поперечную переборку между отсеками XXI и XX, которые начали заполняться водой (в итоге принято от 1000 до 2000 т). Вначале поступление воды было небольшим и аварийная партия предложила снизить скорость и затопить цистерны для увеличения дифферента на корму. Эти меры должны были поднять пробоину над носовой волной, что позволило бы заделать ее. Однако тактические соображения не позволяли адмиралу Лютьенсу снизить скорость менее 28 узлов, в результате чего напор воды начал увеличивать повреждения. Еще одним неприятным последствием попадания стал обрыв трубопровода, ведущего к носовым топливным цистернам. Передняя водоотливная помпа и нефтяная помпа оказались под водой. Около 1000 т нефти в носовых отсеках были отрезаны от топливной системы корабля, эта нефть начала просачиваться за борт через пробитый трубопровод, а цистерны частично заполняться водой. Корабль получил дифферент в 2° на нос и небольшой крен на левый борт.
Сам "Bismarck" получил три попадания. Первое — 356-мм снарядом, попавшим в 60-мм противоосколочный пояс в носу в отсеке XXI (на два отсека впереди носового броневого траверза). Снаряд не взорвался, но прошел насквозь и образовал в 60-мм поясе две дыры диаметром 850 мм немного выше ватерлинии, но ниже уровня носового буруна. По пути снаряд пробил поперечную переборку между отсеками XXI и XX, которые начали заполняться водой (в итоге принято от 1000 до 2000 т). Вначале поступление воды было небольшим и аварийная партия предложила снизить скорость и затопить цистерны для увеличения дифферента на корму. Эти меры должны были поднять пробоину над носовой волной, что позволило бы заделать ее. Однако тактические соображения не позволяли адмиралу Лютьенсу снизить скорость менее 28 узлов, в результате чего напор воды начал увеличивать повреждения. Еще одним неприятным последствием попадания стал обрыв трубопровода, ведущего к носовым топливным цистернам. Передняя водоотливная помпа и нефтяная помпа оказались под водой. Около 1000 т нефти в носовых отсеках были отрезаны от топливной системы корабля, эта нефть начала просачиваться за борт через пробитый трубопровод, а цистерны частично заполняться водой. Корабль получил дифферент в 2° на нос и небольшой крен на левый борт.
После окончания боя аварийная партия попыталась ограничить поступление воды. Но противоосколочный пояс не мог быть заделан без остановки корабля. Выяснилось также, что помпы в отсеке XXII не справляются с поступлением воды, а коллекторы в топливных трубопроводах затоплены и не действуют. Аварийная партия попыталась наладить откачку топлива из отсеков XXI и XXII через шланги в обход затопленных помп и трубопроводов, но эти попытки не увенчались успехом. Для предотвращения дальнейшего повреждения корпуса напором воды через пробоины водолазы начали заделывать их матами изнутри. Для завершения этой операции скорость хода была снижена до 22 узлов, однако поток воды уменьшился незначительно.
Второй снаряд уничтожил адмиральский катер по левому борту и пролетел дальше без взрыва. Осколки катера повредили катапульту и разорвали или смяли трубопровод сжатого воздуха. Никто из экипажа не пострадал, однако запуск гидросамолетов стал невозможным. Немцы обнаружили это только 27 мая, когда провалилась попытка запустить "Arado".
Третий снаряд прошел по подводной траектории и пробил борт под броневым поясом в отсеке XIV по шпангоуту 145,6. Он взорвался при попадании в левую противоторпедную переборку снаружи от турбогенераторного отделения № 4 и пробил дыры в 45-мм броневой переборке. Попадание пришлось близко к главной поперечной переборке между отсеками XI11 и XIV, в которой образовались большие трещины. Осколки повредили главный паропровод в турбогенераторном отделении, в результате чего обслуживающий персонал получил ожоги, и отсек пришлось закрыть. Осколки также проникли в соседние бортовые отсеки и цистерны в двойном дне. Потеря турбогенераторного отделения не сказалась на боеспособности корабля, поскольку немецкий линкор имел 100-процентное резервирование по электроэнергии. Аварийная партия заделала щели в поперечной переборке брезентовыми матрасами для предотвращения распространения воды, однако закрытое генераторное отделение и бортовые отсеки были затоплены. Кроме того, попадание привело к дополнительным потерям топлива из пробитых цистерн.
В результате затоплений от полученных попаданий дифферент на нос увеличился до 3°, а крен на левый борт — до 9°. Сочетание крена на левый борт и дифферента привело к тому, что винт правого борта время от времени показывался из воды. Поскольку топливо в носовых цистернах было отрезано, приходилось тратить запасы из бортовых и кормовых цистерн, что ухудшало ситуацию с дифферентом. Пришлось затопить пустые цистерны правого борта в отсеках II и III. Это в некоторой степени решило проблему, в частности, с оголением правого винта, однако дифферент на нос по-прежнему сохранялся, и максимальная скорость упала до 28 узлов.
Через час после окончании боя Лютьенс и Линдеман обсудили ход дальнейших действий. Адмирал решил вернуть "Bismarck" в Брест или Сен-Назер для ремонта и выделить "Prinz Eugen" для самостоятельных действий против конвоев. Решение вернуть линкор было основано на следующих соображениях:
1. Максимальная скорость была ограничена 28 узлами и могла упасть до 26 узлов, если два котла в котельном отделении №2 выйдут из строя вследствие затопления. Половина резерва электрогенераторных мощностей уже потеряна из-за затопления турбогенераторного отделения № 4.
2. Попадания в носовую часть и в отсек XIV привели к значительной потере топлива. В худшем случае дальность плавания могла упасть до 1100 миль. При этом полученные повреждения не могли быть даже временно исправлены в море.
3. Британские корабельные радары оказались гораздо эффективнее, чем можно было предположить, и позволяли англичанам поддерживать контакт в условиях плохой видимости. Перехваченные радиограммы крейсеров противника о местонахождении немецких кораблей содержали довольно точную информацию. Это весьма затрудняло действия отряда — в частности, в условиях радиолокационного контакта со стороны англичан заправка топливом в море была невозможна.
В 8:01 Лютьенс отправил вторую радиограмму командованию группы "Норд", сообщив о потере генераторного отделения №4, контролируемых затоплениях в котельном отделении №2 и максимальной скорости 28 узлов. Ширина свободной ото льда части Датского пролива составляла около 50 миль. Лютьенс также сообщал о том, что британские корабли оснащены радарами и, наконец, о своем намерении вернуться в Сен-Назер, выделив "Prinz Eugen" для самостоятельных действий на коммуникациях. Радиограммы Лютьенса дошли до адмирала Карльса с большой задержкой (только в 15:00 и 15:05), так что всю первую половину дня 24 мая командование группы "Норд" имело весьма смутное представление о происходивших событиях. Было известно, что эскадра Лютьенса сопровождается двумя крейсерами. Из радиоперехватов сообщений англичан стало ясно, что утром еще два британских корабля с позывными ОТТ и OVY установили визуальный контакт с германской эскадрой, но Карльсу было неизвестно, какие корабли скрывались под этими позывными. В 10:36 Лютьенсу была отправлена радиограмма следующего содержания:
1. Сообщить о своем местоположении (которое было все равно известно англичанам), ситуации и намерениях.
2. Возможные действия: оторваться от преследователей и дать возможность "Prinz Eugen" заправиться топливом или навести англичан на линию патрулирования немецких подводных лодок.
3. Командование подводными лодками информировано о ситуации.
4. С 12:00 командование операцией переходит к группе "Вест".
5. Три эсминца находятся в Тронхейме, а танкер "Weissenburg" — в заданном районе.
Ситуация стала проясняться после получения сообщений от Лютьенса. Адмирал Карльс был озабочен значительной задержкой с получением радиограмм, но предположил, что причиной стали сбитые в результате боя антенны. Карльсу были не вполне понятны причины, по которым Лютьенс решил отказаться от продолжения рейда, но тем не менее он принял меры на случай, если Лютьенс будет возвращаться через находившееся в зоне ответственности группы "Норд" Северное море. 6-й флотилии эскадренных миноносцев был направлен приказ задержаться в Тронхейме, а командование подводными силами получило запрос обеспечить патрулирование по линии между Исландией и Фарерскими островами. Были также предупреждены ударные и разведывательные эскадрильи Люфтваффе на случай, если их помощь понадобится для обеспечения порыва. В 16:59 была получена еще одна радиограмма от Лютьенса, сообщившая о потоплении "Hood" менее чем за 5 минут (интересно, что через полтора часа был получен доклад о воздушной разведке Скапа-Флоу, сообщавший, что "Hood" находится в базе!).
В течение дня несколько раз немецкие корабли отгоняли зенитным огнем неприятельские разведывательные самолеты. Поскольку расстояние до Исландии было уже достаточно велико, англичане могли проводить разведку только летающими лодками "Каталина". Несмотря на то, что немцы поддерживали высокую скорость, "Suffolk", "Norfolk" и "Prince of Wales" продолжали преследование, держась примерно в 20 милях за кормой. Адмирал Лютьенс решил отделить "Prinz Eugen" после полудня 25 мая. Он уведомил капитана-цур-зее Бринкмана, что в подходящий момент "Bismarck" повернет на запад под прикрытием дождевого шквала, а "Prinz Eugen" должен будет выдерживать прямой курс еще в течение трех часов, а в дальнейшем действовать самостоятельно, заправившись топливом от танкеров "Belhen" или "Lothringen". В 14:20 в ожидании команды на разделение (кодовый сигнал "Hood") скорость была снижена до 24 узлов. Лютьенс решил также навести преследующие "Bismarck" английские корабли на немецкие подводные лодки и послал радиограмму с просьбой сосредоточить "у-боты" (в этом районе находились U-93, U-43, U-46, U-557, U-66 и U-94) в квадрате AJ68.
Около 15:40 германский отряд накрыл шквал с дождем, и Лютьенс решил, что момент для разделения настал. "Bismarck" увеличил скорость до 28 узлов и повернул на правый борт, однако почти сразу немецкие корабли вышли из дождевой завесы и оказались на виду у неприятеля. Лютьенсу пришлось отменить разделение и вновь вернуться на один курс с крейсером. В 18:14 со второй попытки немецкие корабли наконец разделились. Прикрывая разделение, "Bismarck" повернул на 180° на правый борт и пошел на сближение с "Suffolk", открыв огонь главным калибром. Попаданий достигнуто не было, англичане наблюдали падение снарядов примерно в 900 метрах по левому борту и ответили из 203-мморудий, успев дать девять залпов. Когда дистанция упала до 10 миль, британский крейсер отвернул, укрывшись за дымовой завесой.
В 18:46 находившийся в 9 км полевому борту "Prince of Wales" второй раз за день открыл огонь по немецкому линкору, выпустив 12 залпов с дистанции порядка 27,5 км. Англичане посчитали, что один из них дал накрытие, но попаданий не было. В ответ "Bismarck" столь же безрезультатно дал девять залпов по "Prince of Wales". По окончании перестрелки все три британских корабля заняли позиции по левому борту "Bismarck", продолжая преследование. К этому времени командование операцией перешло к группе "Вест", получившей от Лютьенса радиограмму о происшедших событиях, однако адмирал выразился несколько неясно по поводу отделения "Prinz Eugen". В 20:56 Лютьенс послал еще одну радиограмму, в которой он говорил о том, что не может избавиться от преследующих его крейсеров и направляется прямо в Сен-Назер из-за недостатка топлива.
В течение дня Адмиралтейство концентрировало силы в Северной Атлантике. Крейсера "Manchester", "Birmingham" и "Arethusa" образовали патрульную линию у северо-восточной оконечности Исландии на случай, если немецкая эскадра развернется и последует назад потому же маршруту. Королевские ВВС перебросили 6 торпедоносцев "Бофорт" 22-й эскадрильи в Исландию. Сам адмирал Тови на "King George V" вместе с линейным крейсером "Repulse", авианосцем "Victorious", 2-й эскадрой крейсеров и девятью эсминцами направлялся на юго-запад на перехват противника. Для прикрытия конвоев в Атлантике помимо эскадр Тови, Уэйк-Уокера и Соединения "Н", находился линкор "Rodney". Линкор "Ramillies" был отозван от конвоя НХ-127 и направлен на поиск, а из Галифакса вышел линкор "Revenge".
"Rodney" (кэптен Дэлримпл-Гамильтон) направлялся на ремонт в Бостон, а заодно эскортировал лайнер "Britannic", используемый как войсковой транспорт. В полдень линкор вместе с эсминцами "Somali", "Tartar" и "Mashona" был отозван и направлен на поиск "Bismarck". Адмирал Тови опасался, что быстроходная немецкая эскадра может ускользнуть, поэтому в районе 14:00 выделил "Victorious" (кэптен Бовелл) в сопровождении крейсеров 2-й эскадры контр-адмирала Куртейса ("Galatea", "Aurora", "Kenya" и "Hermione") для нанесения авиаудара по германскому отряду.
 Атака торпедоносцев "Victorious"
Атака торпедоносцев "Victorious"
"Victorious", подобно "Prince of Wales", только что вступил в строй. Он должен был доставить 48 разобранных "Харрикейнов" на Мальту, но при получении известий о рейде "Bismarck" эта операция была отменена. Однако "Харрикейны" были уже загружены, и не оставалось времени, чтобы снять их все с авианосца. Поэтому "Victorious" смог принять лишь несколько самолетов — 6 "Фулмаров" звена 800Z и 9 "Суордфишей" 825-й эскадрильи.
В 22:00 именно эти самолеты вылетели для атаки немецкой эскадры. Каждый "Суордфиш" был вооружен 450-мм торпедой. Погода была плохой, и пилоты получили первый в жизни опыт взлета с качающейся палубы авианосца.
 Набрав высоту 500 м, "Суордфиши" 825-й эскадрильи под командованием лейтенанта-коммандера Юджина Эсмонда устремились к цели. Самолеты были оснащены радарами, что позволяло им искать цели в условиях не самой лучшей видимости. Именно радарами были обнаружены и чуть не атакованы американский корабль береговой охраны "Modock" и собственный крейсер "Norfolk". "Bismarck" в этот момент находился всего в 6 милях от "Modock" и заметил английские самолеты, которые в 23:27, наконец, обнаружили нужную цель. На "Bismarck" сыграли боевую тревогу, и линкор открыл огонь из всех орудий, подключив даже 380-мм и 150-мм орудия для создания огневой завесы. Одновременно корабль начал маневрировать зигзагом, что, вероятно, сказалось на точности его огня — ни один из английских самолетов не был сбит. Самолет Эсмонда был поврежден примерно в 4 милях от цели, но продолжал атаку. Семь торпедоносцев зашли с левого борта, еше один — с правого. Девятый "Суордфиш" нес радар вместо торпеды и не атаковал. Все восемь самолетов успешно сбросили торпеды, и именно атаковавший с правого борта смог добиться попадания.
Набрав высоту 500 м, "Суордфиши" 825-й эскадрильи под командованием лейтенанта-коммандера Юджина Эсмонда устремились к цели. Самолеты были оснащены радарами, что позволяло им искать цели в условиях не самой лучшей видимости. Именно радарами были обнаружены и чуть не атакованы американский корабль береговой охраны "Modock" и собственный крейсер "Norfolk". "Bismarck" в этот момент находился всего в 6 милях от "Modock" и заметил английские самолеты, которые в 23:27, наконец, обнаружили нужную цель. На "Bismarck" сыграли боевую тревогу, и линкор открыл огонь из всех орудий, подключив даже 380-мм и 150-мм орудия для создания огневой завесы. Одновременно корабль начал маневрировать зигзагом, что, вероятно, сказалось на точности его огня — ни один из английских самолетов не был сбит. Самолет Эсмонда был поврежден примерно в 4 милях от цели, но продолжал атаку. Семь торпедоносцев зашли с левого борта, еше один — с правого. Девятый "Суордфиш" нес радар вместо торпеды и не атаковал. Все восемь самолетов успешно сбросили торпеды, и именно атаковавший с правого борта смог добиться попадания.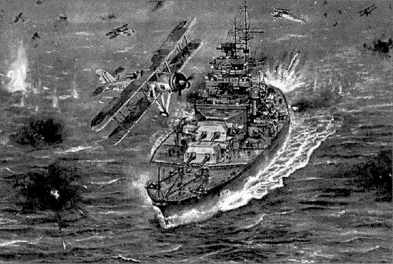
Торпеда была установлена на углубление 9,45 м, но реально пошла на значительно меньшей глубине, ударив в подводную часть главного пояса в районе фок-мачты. Поднялся большой столб воды, а из трубы линкора вырвался столб черного дыма, образовавшегося в результате сильного сотрясения от взрыва. От сотрясения также вышел из строя распределительный щит в турбогенераторном отделении №3. Унтер-офицер Курт Кирхберг силой взрыва был отброшен на надстройку и погиб, еше 5 человек в турбогенераторном отделении получили ранения.
 Немцы считали, что они сбили 5 английских самолетов. Наряду с незначительностью полученных повреждений это подняло моральный дух экипажа, хотя на самом деле дела обстояли не так хорошо. Самолеты благополучно вернулись на "Victorious", за исключением двух "Фулмаров", на которых кончилось горючее. Сам линкор по видимому получил небольшие затопления в бортовых отсеках двойного дна. Изнутри корабля доступа к этим отсекам не было, и лишь осмотр в доке мог бы дать их более-менее достоверную картину. Гораздо хуже для немецкого корабля было то, что интенсивное маневрирование на высокой скорости и полученное сотрясение от попадания торпеды ослабили пластыри в носовой части корпуса, и дифферент на нос несколько увеличился. Кроме того, сотрясение и небольшая деформация корпуса расширили заделанные до этого брезентовыми матрасами щели в главной поперечной переборке и увеличили течь в котельном отделении №2 до такого размера, что ее не удалось взять под контроль, и отделение было полностью затоплено. Пришлось временно снизить скорость до 16 узлов и послать водолазов в затопленные носовые отсеки, чтобы те поправили сдвинутые маты. После завершения этих работ скорость была увеличена до 20 узлов.
Немцы считали, что они сбили 5 английских самолетов. Наряду с незначительностью полученных повреждений это подняло моральный дух экипажа, хотя на самом деле дела обстояли не так хорошо. Самолеты благополучно вернулись на "Victorious", за исключением двух "Фулмаров", на которых кончилось горючее. Сам линкор по видимому получил небольшие затопления в бортовых отсеках двойного дна. Изнутри корабля доступа к этим отсекам не было, и лишь осмотр в доке мог бы дать их более-менее достоверную картину. Гораздо хуже для немецкого корабля было то, что интенсивное маневрирование на высокой скорости и полученное сотрясение от попадания торпеды ослабили пластыри в носовой части корпуса, и дифферент на нос несколько увеличился. Кроме того, сотрясение и небольшая деформация корпуса расширили заделанные до этого брезентовыми матрасами щели в главной поперечной переборке и увеличили течь в котельном отделении №2 до такого размера, что ее не удалось взять под контроль, и отделение было полностью затоплено. Пришлось временно снизить скорость до 16 узлов и послать водолазов в затопленные носовые отсеки, чтобы те поправили сдвинутые маты. После завершения этих работ скорость была увеличена до 20 узлов.
Примерно в то время, когда самолеты с "Victorious" атаковали "Bismarck", три корабля Уэйк-Уокера потеряли визуальный контакт с линкором. Снижение скорости и маневрирование немецкого корабля позволили англичанам сократить дистанцию, и контакт был восстановлен около 1:30 25 мая. Дистанция с "Prince of Wales" составляла всего около 15 км, и британский линкор немедленно открыл огонь главным калибром. "Bismarck" начал ответную стрельбу. Противники сделали всего по два безрезультатных залпа, и огонь был прекращен — условия видимости не позволяли надеяться на успех.
Радиолокационный контакт поддерживался "Suffolk", следовавшим противолодочным зигзагом с левого борта "Bismarck" примерно в 10,5 милях позади. Крейсер регулярно терял контакт, удаляясь от линкора, и восстанавливал его на ближней к противнику петле зигзага. Во время одного из таких маневров контакт не был восстановлен. Примерно в 3:10 "Bismarck" совершил резкий поворот на 270° на правый борт и, обойдя преследователя, вновь взял курс на Сен-Назер. Точно неизвестно, почему Лютьенс предпринял именно такой маневр. Видимо, немцам было очевидно, что все британские корабли находятся с левого борта, а правый борт не охраняется.
Через час после потери контакта "Suffolk" все еще не мог его восстановить, и англичанам пришлось признать, что они потеряли "Bismarck". Тови предположил, что немецкий линкор направился на рандеву с танкером к югу Гренландии или Азорским островам, и приказал контр-адмиралу Куртейсу с "Victorious" и крейсерами вести поиск на западе и северо-западе на пути к Гренландии, а сам вместе с отрядом Уэйк-Уокера продолжил поиск в юго-западном направлении. "Bismarck" же уходил на юго-восток.
Немцы продолжали улавливать излучение британских радаров с дистанции 41 км и, хотя на самом деле сигналы были слишком слабыми, чтобы приемники англичан могли уловить их отражение от немецкого корабля, Лютьенс полагал, что противник по-прежнему следит за ним. В то время радар был еще новым устройством, поэтому его эффективная дальность сильно преувеличивалась немецким адмиралом. В 7:27 он послал сообщение группе "Вест" о том, что в 7:00 английский линкор и два крейсера сохраняют контакт, даже не позаботившись о посылке радиограммы короткими сигналами для затруднения определения своего местоположения. При этом совершенно непонятно, на каком основании Лютьенс сделал такой вывод. Англичане прекратили передавать местоположение "Bismarck" в 3:06, что было известно командованию группы "Вест". Специалисты по радиоперехвату на борту линкора должны были прийти к такому же выводу. В 8:46 командование группы "Вест" передало на "Bismarck", что контакт с ним потерян.
По-видимому, процедуры кодирования, передачи и декодирования заняли достаточное время, потому что в 9:00 Лютьенс послал очередную весьма длинную радиограмму, передача которой заняла около 30 минут. Радиограмма подробно сообщала о бое и полученных повреждениях, великолепных характеристиках английских радаров, эффективная дальность которых, по мнению Лютьенса, достигала 35 км, и ситуации с топливом. В ответ от группы "Вест" пришло указание прекратить радиопередачи, и после 10:00 "Bismarck" сохранял радиомолчание.
Последняя длинная радиограмма позволила англичанам с американской помощью определить положение линкора, однако оно было ошибочно нанесено на карту в штабе адмирала Тови, в результате чего тот предположил, что "Bismarck" направляется к проходу между Исландией и Фарерскими островами, и все силы были сосредоточены на северо-восточном направлении. Англичане не смогли расшифровать последнюю радиограмму и не имели пока точной информации о действительных намерениях противника, однако утром 25 мая в охоте были задействованы уже 46 кораблей. Позже Адмиралтейство предположило, что "Bismarck" может направляться во французский порт, и некоторые силы, в частности, линкор "Rodney" и Соединение "Н" были отправлены прикрывать это направление. Поиск противника вели палубные "Суордфиши" с "Victorious" и "Каталины" 210-й эскадрильи, базировавшейся в Исландии, но безо всякого успеха. Мнение Адмиралтейства о курсе "Bismarck" на основании полученной им информации поменялось еще пару раз за день, но в течение суток 25 мая линкор так и не был обнаружен.
Вероятно, адмирал Лютьенс уже считал корабль обреченным, поскольку в полдень 25 мая обратился к экипажу с речью, в которой, в частности, говорил о том, что линкор направляется во Францию, а когда противник перекроет путь и вступит в бой, "Bismarck" будет драться до последнего снаряда. Эта довольно пессимистическая речь не могла не сказаться на моральном состоянии команды. Вскоре после полудня "Bismarck" снизил скорость до 12 узлов, чтобы провести ремонтные работы в затопленных отсеках XX и XXI. Водолазам удалось добраться до затопленных коллекторов и открыть вентили, что позволило использовать несколько сот тонн нефти из носовых цистерн. Один из находившихся на борту конструкторов из кораблестроительного отдела ОКМ предложил сбросить за борт якоря и якорные цепи для разгрузки носовой оконечности, но его предложение было отвергнуто. Определенное беспокойство на борту вызывала возможность попадания соленой воды из затопленного котельного отделения в систему водопитания остальных котлов, что могло привести к повреждениям энергетической установки корабля. Всю резервную воду очистили при помощи вспомогательного котла и четырех дистилляторов, и к вечеру опасность была ликвидирована.
Адмирал Тови понял свою ошибку относительно позиции "Bismarck" вечером 25 мая. На следующее утро "Хадсоны", "Каталины" и "Сандерленды" с исландских аэродромов безуспешно прочесывали Датский пролив к югу от Исландии и пролив между Исландией и Фарерами. В результате расшифрованных радиоперехватов англичане получили сведения о подготовке к приему немецкого корабля в Бресте и передислокации эскадрилий Люфтваффе на аэродромы рядом с Брестом. В ночь на 26 мая эти сведения были подтверждены информацией от группы французского Сопротивления. Поэтому две патрульных "Каталины" были отправлены на возможные пути возвращения "Bismarck" во Францию — машина Z/209 в южном направлении и М/204 в северном. В готовности к удару по обнаруженному противнику находились 5 "Бофортов" 22-й эскадрильи в Кальдадарнесе, 8 из 42-й и 2 из 22-й эскадрильи в Вике, 10 из 217-й эскадрильи в Сент-Эвале и 8 из 42-й эскадрильи в Льючарсе. Шесть подводных лодок были посланы для формирования линии патрулирования на подходах к Бресту и Сен-Назеру.
Атака торпедоносцев "Ark Royal"
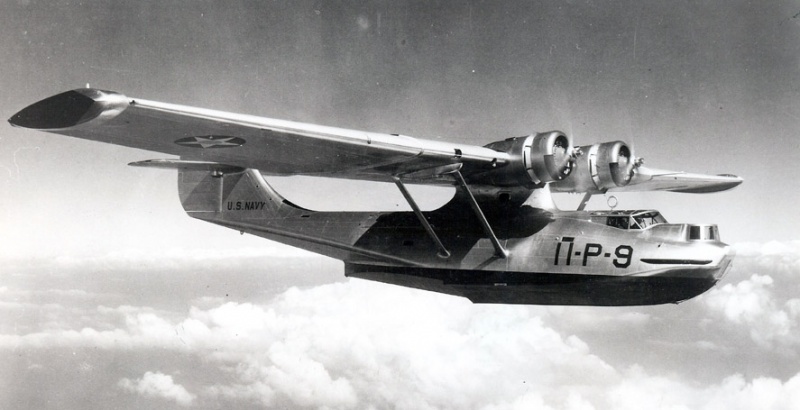 "Bismarck" приближался к французскому побережью и вскоре должен был оказаться в зоне действия своей авиации, поэтому утром 26 мая был отдан приказ вновь покрасить крыши башен в желтый цвет. Однако линкор был обнаружен не своими самолетами, а противником. После долгих поисков, в 10:30 утра 26 мая "Каталина" Z/209 заметила вначале нефтяной след, а затем, в просвете между облаками, и сам "Bismarck", идущий курсом 150° в 690 милях от Бреста. "Каталина" немедленно отправила радиограмму об обнаружении, но вскоре вылетела из облаков и попала под обстрел, получив несколько попаданий. Самолет отвернул и в 10:45 потерял контакт, но дело было сделано. Доклад был получен как Тови, так и, в результате радиоперехвата, командующим группой "Вест" адмиралом Заальвехтером, который передал его Лютьенсу.
"Bismarck" приближался к французскому побережью и вскоре должен был оказаться в зоне действия своей авиации, поэтому утром 26 мая был отдан приказ вновь покрасить крыши башен в желтый цвет. Однако линкор был обнаружен не своими самолетами, а противником. После долгих поисков, в 10:30 утра 26 мая "Каталина" Z/209 заметила вначале нефтяной след, а затем, в просвете между облаками, и сам "Bismarck", идущий курсом 150° в 690 милях от Бреста. "Каталина" немедленно отправила радиограмму об обнаружении, но вскоре вылетела из облаков и попала под обстрел, получив несколько попаданий. Самолет отвернул и в 10:45 потерял контакт, но дело было сделано. Доклад был получен как Тови, так и, в результате радиоперехвата, командующим группой "Вест" адмиралом Заальвехтером, который передал его Лютьенсу.
 Получив сообщение от "Каталины", авианосец "Ark Royal" (кэптен Монд) из состава Соединения "Н" немедленно поднял два разведывательных "Суордфиша" с дополнительными топливными баками, однако немецкий линкор был в 11:54 обнаружен другим самолетом авианосца — одним из десяти, поднятых для поиска за два часа до этого. В течение всего дня 26 мая самолеты RAF и FAA периодически поддерживали контакт с "Bismarck", который иногда отгонял их зенитным огнем. Англичанам необходимо было точно убедиться, что перед ними именно он, а не "Prinz Eugen". Доклады самолетов подтвердили, что корабль находился примерно в 100 милях к юго-востоку от "Ark Royal". Скорость линкора оценивалась в 26 узлов в 12:10 (хотя на самом деле она составляла 20 уз.), 20 узлов в 16:05 и 22 узла в 18:00.
Получив сообщение от "Каталины", авианосец "Ark Royal" (кэптен Монд) из состава Соединения "Н" немедленно поднял два разведывательных "Суордфиша" с дополнительными топливными баками, однако немецкий линкор был в 11:54 обнаружен другим самолетом авианосца — одним из десяти, поднятых для поиска за два часа до этого. В течение всего дня 26 мая самолеты RAF и FAA периодически поддерживали контакт с "Bismarck", который иногда отгонял их зенитным огнем. Англичанам необходимо было точно убедиться, что перед ними именно он, а не "Prinz Eugen". Доклады самолетов подтвердили, что корабль находился примерно в 100 милях к юго-востоку от "Ark Royal". Скорость линкора оценивалась в 26 узлов в 12:10 (хотя на самом деле она составляла 20 уз.), 20 узлов в 16:05 и 22 узла в 18:00.
 Адмирал Тови на "King George V" находился в 135 милях к северу от немецкого линкора. "Repulse" ранее ушел на заправку топливом на Ньюфаундленд, однако к британскому флагману мог присоединиться находившийся в 125 милях к северо-западу от "Bismarck", но сравнительно тихоходный "Rodney". Проблема состояла в том, что англичане не догоняли противника, имевшего преимущество в скорости. С ним мог попробовать сразиться только находившийся ближе всего в составе Соединения "Н" линейный крейсер "Renown" (кэптен МакГригор), однако, помня о судьбе "Hood", Тови послал "Renown" специальный приказ не вступать в бой. Вся надежда опять была на торпедоносцы "Ark Royal" — 30 "Суордфишей" 810-й, 818-й и 820-й эскадрилий. Адмирал Сомервилл приказал крейсеру "Sheffild" (кэптен Ларком) установить контакт с "Bismarck", и в 13:50 крейсер отправился на поиск.
Адмирал Тови на "King George V" находился в 135 милях к северу от немецкого линкора. "Repulse" ранее ушел на заправку топливом на Ньюфаундленд, однако к британскому флагману мог присоединиться находившийся в 125 милях к северо-западу от "Bismarck", но сравнительно тихоходный "Rodney". Проблема состояла в том, что англичане не догоняли противника, имевшего преимущество в скорости. С ним мог попробовать сразиться только находившийся ближе всего в составе Соединения "Н" линейный крейсер "Renown" (кэптен МакГригор), однако, помня о судьбе "Hood", Тови послал "Renown" специальный приказ не вступать в бой. Вся надежда опять была на торпедоносцы "Ark Royal" — 30 "Суордфишей" 810-й, 818-й и 820-й эскадрилий. Адмирал Сомервилл приказал крейсеру "Sheffild" (кэптен Ларком) установить контакт с "Bismarck", и в 13:50 крейсер отправился на поиск.
Между 14:50 и 15:00 "Ark Royal" поднял 15 "Суордфишей" с торпедами. Один из самолетов был вынужден вернуться из-за неисправностей, но остальные 14 направились с приказом атаковать "Bismarck". Облачность была достаточно низкой, и англичане задействовали для обнаружения противника имевшиеся у них радары. Вскоре был установлен радиолокационный контакт, и "Суордфиши" немедленно атаковали, сбросив 11 торпед.  Как выяснилось, целью атаки стал... "Sheffild", о присутствии которого в данном районе летчики ничего не знали. Многие торпеды преждевременно взорвались из-за дефектных магнитных взрывателей, от остальных крейсеру удалось увернуться.
Как выяснилось, целью атаки стал... "Sheffild", о присутствии которого в данном районе летчики ничего не знали. Многие торпеды преждевременно взорвались из-за дефектных магнитных взрывателей, от остальных крейсеру удалось увернуться.
В 17:24 "Sheffild" обнаружили немцы, и на "Bismarck" была сыграна боевая тревога. Крейсер, в свою очередь, установил контакт с линкором в 17:40 и сообщил об этом радиограммой. Она была перехвачена немецкой "В-Dienst", и группа "Вест" отдала приказ находившейся в этом районе подводной лодке U-48 постараться атаковать противника.
Вторая ударная волна с участием также 15 "Суордфишей" была запущена в 19:10 в условиях сильного волнения. На этот раз самолеты несли торпеды с контактными взрывателями, установленные на глубину 6,7 м (магнитные взрыватели были установлены на глубину 9,1 м и должны были взрываться под днищем линкора). Пилоты получили указание направляться к "Sheffild" и следовать полученным с крейсера сигналам о местоположении "Bismarck". Торпедоносцы обнаружили крейсер в 19:55 и тут же его потеряли, вновь обнаружив только в 20:35. К этому времени самолеты заметили и с "Bismarck", на котором приготовились к отражению атаки. Англичане начали ее в 20:47, заходя на линкор с кормы звеньями по три машины. В густой облачности звенья не всегда могли выдержать строй, и в атаку выходили от одного до четырех самолетов. Всего по цели было выпущено 13 торпед, еще два самолета так и не смоги выйти в атаку. "Bismarck" вел интенсивное маневрирование для уклонения от торпед и отстреливался всеми калибрами, включая 150-мм и даже 380-мм. Несмотря на это, две или три торпеды поразили линкор. Где-то в середине продолжавшейся примерно полчаса атаки два самолета подлетели на очень небольшой высоте, так что 105-мм и 37-мм зенитки не могли эффективно стрелять по ним, и сбросили 2 торпеды с высоты 450—500 м. Несмотря на то, что "Bismarck" начал маневр уклонения, дистанция была слишком мала, и одна из торпед поразила левый борт линкора в корме. В 21:05 с корабля послали радиограмму группе "Вест" о торпедном попадании. Ближе к концу атаки одна или две торпеды попали в левый борт в районе грот-мачты, о чем "Bismarck" сообщил группе "Вест" в 21:15 вместе с информацией о том, что не может управляться.
Одна или две торпеды поразили "Bismarck" в районе левого турбинного отделения (район VIII —IX отсеков), попав немного ниже главного броневого пояса. Энергия взрыва была в значительной степени поглощена ПТЗ, но в результате деформации корпуса был затоплен тоннель левого гребного винта. Облако дыма заполнило левое турбинное отделение, кроме того, туда поступило небольшое количество воды. Воздух был очищен вентиляционной системой, протечки быстро заделаны, а вода впоследствии выкачана. Однако, по всей видимости, тоннель гребного винта так и не удалось полностью осушить. Некоторые плиты пола среднего турбинного отделения выгнулись вверх на высоту до полуметра. В правом турбинном отделении от сотрясения закрылся клапан подачи пара, и турбина прекратила работу, пока клапан не был вновь открыт.
Но решающим оказалось попадание торпеды в борт под рулевым отделением перед осью левого руля. Рули в этот момент были переложены на левый борт для маневра уклонения. Взрыв проделал большую дыру в обшивке и тяжело повредил левое соединение оси руля с рулевой машиной, так что его невозможно было разъединить, и оба руля оказались заклиненными в положении 12° на левый борт, а оба рулевых отделения затоплены. Люди из этих отсеков были быстро эвакуированы, и двери в защищающей рулевое управление броневой палубе закрыты. Но через поврежденные переговорные трубы вода стала поступать на главную палубу. Для ее откачки запустили помпу, которая вскоре прекратила работу в результате неисправности. Пока проводился ремонт, соленая вода проникла в электромотор помпы и вывела ее из строя. Пустые цистерны с правого борта в районе попадания были ранее затоплены для выправления крена и дифферента от полученных 24 мая повреждений, что увеличило размер затоплений и усилило сотрясение от взрыва. Вызванное именно этим попаданием сотрясение 150-мм броневой коробки, защищавшей рулевое отделение и имевшей весьма жесткую конструкцию по сравнению с окружавшим ее корпусом, привело к тому, что по корме пошли трещины. Последние также относят на счет недостаточно прочной конструкции соединения корпуса в кормовой части, построенной как отдельный модуль, прикрепленный к остальной части корабля болтами и сваркой.
Немцы считали, что они в ходе атаки сбили 7 самолетов. В действительности же ни один "Суордфиш" не был потерян, хотя 4 машины получили сильные повреждения. Пилоты доложили по крайней мере об одном торпедном попадании. После полуночи посланные на разведку "Суордфиши" доложили, что "Bismarck" по всей видимости не управляется. Эту информацию подтвердила и "Каталина", сообщившая о том, что немецкий линкор описывает циркуляции.
Пока линкор пытался уклониться от торпед, а затем вышел на циркуляцию после потери управления, он приблизился к "Sheffild" настолько, что крейсер оказался в поле видимости, и в 21:40 "Bismarck" открыл огонь главным калибром. Первый четырехорудийный залп упал примерно в 1900 м от "Sheffild", но второй залп дал накрытие. Снаряды третьего залпа упали недалеко от борта крейсера, убив осколками троих и ранив 9 членов экипажа, а заодно и выведя из строя привод радара. Корабль поставил дымовую завесу и отвернул на север. "Bismarck" сделал еше три залпа, пока примерно в 21:55 "англичанин" не скрылся из поля зрения.
Тем временем экипаж линкора отчаянно пытался восстановить управление кораблем. Правый руль удалось отсоединить от рулевого привода и разблокировать, но с левым ничего не удавалось сделать. Несколько водолазов пытались проникнуть в рулевое отделение, однако из-за большой пробоины очень сильное движение воды в левом рулевом отделении делало любые работы невозможными, и водолазов вытащили из отсека в полном изнеможении. Вскоре после этого Линдеманн и старший механик Леман обсудили возможные меры по восстановлению управления. Оба пришли к согласию, что состояние моря не позволяет использовать водолазов для наружных работ. Предложение отсоединить заклиненные рули динамитными зарядами было отклонено Лютьенсом под тем предлогом, что это могло повредить винты. Впрочем, Лютьенс, видимо, уже смирился с участью корабля, поскольку в 21:40 он радировал, что экипаж будет драться до последнего снаряда.
В это время внешние отделения отсека III с левого борта медленно затапливались через повреждения в главной поперечной переборке между отсеками II и III, кабельную магистраль и небольшие разрывы во внешней обшивке. Вода стала проникать в коридоры левого вала, что наряду с затоплениями от второго торпедного попадания в отсеке VII вызвало крен на левый борт. Чтобы хоть как-то держать курс, кораблю пришлось существенно снизить скорость, а сильное волнение вместо юго-восточного стало сбивать линкор на неблагоприятный для него северо-западный курс, приближавший его к кораблям Тови. Линдеман попытался вернуть "Bismarck" на прежний курс за счет подбора различной скорости вращения винтов правого и левого борта. Команды механикам шли одна задругой, и для их быстрого выполнения были проигнорированы некоторые меры безопасности. Корабль удалось повернуть с северо-западного курса, но лишь для того, чтобы сделать еще один круг, после чего сильный ветер и волны развернули линкор в прежнем направлении. Вскоре после полуночи все попытки восстановить рулевое управление были прекращены. Аварийная партия укрепила переборку между 11 и 111 отсеками и заделала поврежденную переговорную трубу.
 Перед потерей контакта с германским линкором "Sheffild" передал его положение 4-й флотилии эсминцев кэптена Филипа Baйена, состоявшей из эсминцев "Сossaсk" (лидер), "Zulu", "Sikh", "Maori" и польского "Piorun".
Перед потерей контакта с германским линкором "Sheffild" передал его положение 4-й флотилии эсминцев кэптена Филипа Baйена, состоявшей из эсминцев "Сossaсk" (лидер), "Zulu", "Sikh", "Maori" и польского "Piorun".
В 22:38 "Piorun" (командор-поручик Плавски) обнаружил поврежденный линкор. Четырьмя минутами спустя последний открыл огонь по польскому кораблю главным калибром, дав три залпа и накрыв его с дистанции 12,5 км. "Piorun", тем не менее, продолжал сближение и вел огонь из 120-мм орудий еще примерно полчаса, пока близкое попадание не заставило его отвернуть. Остальные эсминцы окружили немецкий линкор со всех сторон. В 23:25 "Bismarck" радировал, что его окружили "Renown" и легкие силы, хотя линейного крейсера поблизости не было. 
 Около полуночи эсминцы начали стрельбу осветительными снарядами. За ночные часы они выпустили 14 торпед с дистанции 25—35 кбт ("Maori" — 2, "Zulu" — 4, "Сossaсk" — 3 и 1, "Sikh" — 4) и считали, что добились нескольких попаданий, но, вероятно, за попадания принимались вспышки орудий "Bismarck" или падающие около него осветительные снаряды. В частности, один из снарядов — видимо, с "Maori" — упал на бак линкора вскоре после 1:00 и вызвал пожар, который был быстро потушен.
Около полуночи эсминцы начали стрельбу осветительными снарядами. За ночные часы они выпустили 14 торпед с дистанции 25—35 кбт ("Maori" — 2, "Zulu" — 4, "Сossaсk" — 3 и 1, "Sikh" — 4) и считали, что добились нескольких попаданий, но, вероятно, за попадания принимались вспышки орудий "Bismarck" или падающие около него осветительные снаряды. В частности, один из снарядов — видимо, с "Maori" — упал на бак линкора вскоре после 1:00 и вызвал пожар, который был быстро потушен.
Ночью немцы продолжили обмен радиограммами с берегом. Было получено ободряющее сообщение, подписанное Гитлером. С "Bismarck" также направили представление на награждение Рыцарским крестом артиллерийского офицера корветтен-капитана Шнайдера за потопление "Hood", и была получена ответная радиограмма, информирующая о награждении его и командира линкора Линдемана.


Около 7:00 "Maori" выпустил последние 2 торпеды с дистанции 8000 м, но промахнулся. Эсминец был несколько раз накрыт залпами 150-мм орудий линкора, но избежал попаданий.
После неудачи с гидросамолетом в 7:10 "Bismarck" послал последнюю радиограмму группе "Вест" с просьбой прислать подводную лодку для передачи документов.
Немецкое командование практически не имело возможности помочь своему линкору. Еще вечером 26 мая адмирал Дёниц отдал приказ всем подводным лодкам с торпедами следовать в квадрат ВЕ6192, а чуть позже приказал идти на помощь даже лодкам без торпед. Немецкая авиация в ночные часы помочь своему кораблю не могла, оставалось только надеяться на утро.
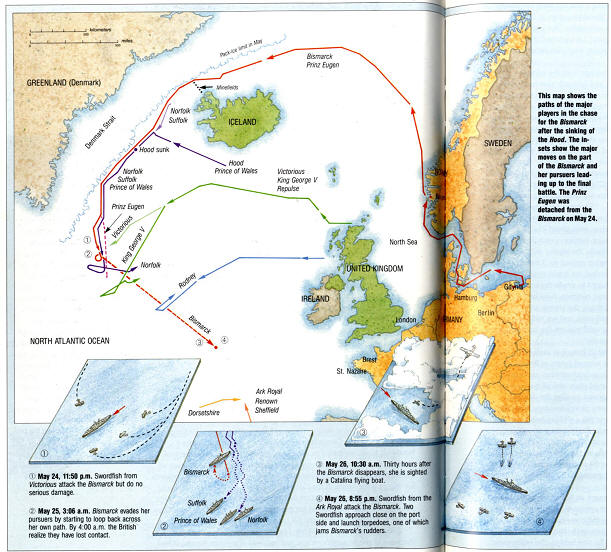
Еще в 18:26 26 мая к флагману Флота метрополии присоединился "Rodney". После полуночи 27 мая адмирал Тови имел информацию о местонахождении и повреждениях "Bismarck", и два линкора в сопровождении эсминцев "Tartar" и "Mashona" спешили навстречу неприятелю. К утру эсминцы Вайена потеряли германский линкор, поэтому в 5:09 "King George V" запустил гидросамолет "Уолрус" для поиска противника, однако из-за плохих погодных условий он не принес результатов. На рассвете "Ark Royal" готовился запустить группу из 12 "Суордфишей" для еще одного удара по "Bismarck", но из-за плохой погоды и опасения атаковать собственные корабли в условиях низкой видимости около 7 утра вылет был отменен. После того, как 4-я флотилия восстановила контакт с линкором, между 6 и 7 часами утра "Maori" посылал радиограммы с указанием местоположения противника, который был уже недалеко и шел курсом примерно 330° со скоростью, которую англичане оценили в 10 узлов.
 В 7:08 Тови разрешил "Rodney" маневрировать самостоятельно, держа дистанцию до "King George V" не менее 6 кбт. "Renown" было приказано находиться в стороне от битвы, поскольку Тови опасался за его слабое бронирование. Линейный крейсер должен был вступить в бой только в случае крайней необходимости, например, при тяжелых повреждениях линкоров Тови. В 7:53 контакт с "Bismarck" установил тяжелый крейсер "Norfolk", обнаруживший линкор на расстоянии 15 000 м. Тактика английского адмирала заключалась в быстром сближении с противником, держась в его левых носовых углах. Британские линкоры повернули вначале на юг, а в 8:33 легли на курс 110°, причем "Rodney" держался севернее "King George V" на расстоянии примерно 8 кбт.
В 7:08 Тови разрешил "Rodney" маневрировать самостоятельно, держа дистанцию до "King George V" не менее 6 кбт. "Renown" было приказано находиться в стороне от битвы, поскольку Тови опасался за его слабое бронирование. Линейный крейсер должен был вступить в бой только в случае крайней необходимости, например, при тяжелых повреждениях линкоров Тови. В 7:53 контакт с "Bismarck" установил тяжелый крейсер "Norfolk", обнаруживший линкор на расстоянии 15 000 м. Тактика английского адмирала заключалась в быстром сближении с противником, держась в его левых носовых углах. Британские линкоры повернули вначале на юг, а в 8:33 легли на курс 110°, причем "Rodney" держался севернее "King George V" на расстоянии примерно 8 кбт.
 На борту "Bismarck" утро было встречено экипажем с отчаянием, усугублявшимся утомлением от ночного боя с эсминцами. С каждой минутой напряжение нарастало, поскольку было известно о подходе британских линкоров и все ожидали последней битвы. Немцы постоянно перехватывали и дешифровывали радиограммы англичан, в частности, они знали о запуске гидросамолета с "King George V" для их поиска, а это означало, что враг близко. Вначале с линкора заметили "Norfolk", однако вскоре после 8:15 шквал с дождем накрыл "Bismarck". Когда он рассеялся, слева по носу на расстоянии порядка 24 км были обнаружены силуэты двух британских линкоров. Вскоре после 8:30 на корабле сыграли боевую тревогу. Корветтен-капитан Шнайдер объявил, что целью станет линкор "Rodney".
На борту "Bismarck" утро было встречено экипажем с отчаянием, усугублявшимся утомлением от ночного боя с эсминцами. С каждой минутой напряжение нарастало, поскольку было известно о подходе британских линкоров и все ожидали последней битвы. Немцы постоянно перехватывали и дешифровывали радиограммы англичан, в частности, они знали о запуске гидросамолета с "King George V" для их поиска, а это означало, что враг близко. Вначале с линкора заметили "Norfolk", однако вскоре после 8:15 шквал с дождем накрыл "Bismarck". Когда он рассеялся, слева по носу на расстоянии порядка 24 км были обнаружены силуэты двух британских линкоров. Вскоре после 8:30 на корабле сыграли боевую тревогу. Корветтен-капитан Шнайдер объявил, что целью станет линкор "Rodney".
 В 8:42 "King George V" обнаружил неприятеля почти по носу. Линкоры продолжили сближаться с "Bismarck" прежним курсом, и в 8:47 "Rodney" открыл огонь двумя башнями с дистанции 23 000 м. "King George V" присоединился в 8:48, также открыв огонь носовыми башнями с дистанции 22 500 м, причем дистанцию он определял по своему радару типа 284. "Bismarck" ответил в 8:49 носовыми башнями. Немецкий линкор был уже далеко не тот, что в бою в Датском проливе. Экипаж был измотан ночными атаками и пребывал не в лучшем состоянии духа. Неустойчивый курс корабля сильно снижал точность предсказания системой управления огнем его положения в момент залпа. Тем не менее, немецкий линкор начал стрельбу неплохо.
В 8:42 "King George V" обнаружил неприятеля почти по носу. Линкоры продолжили сближаться с "Bismarck" прежним курсом, и в 8:47 "Rodney" открыл огонь двумя башнями с дистанции 23 000 м. "King George V" присоединился в 8:48, также открыв огонь носовыми башнями с дистанции 22 500 м, причем дистанцию он определял по своему радару типа 284. "Bismarck" ответил в 8:49 носовыми башнями. Немецкий линкор был уже далеко не тот, что в бою в Датском проливе. Экипаж был измотан ночными атаками и пребывал не в лучшем состоянии духа. Неустойчивый курс корабля сильно снижал точность предсказания системой управления огнем его положения в момент залпа. Тем не менее, немецкий линкор начал стрельбу неплохо.
 Первый его залп лег с недолетом примерно в 900 м от "Rodney", второй дал перелет на те же 900 метров, зато третий накрыл цель, правда без попаданий, но один снаряд упал всего в 20 м от английского линкора. "Rodney" сделал маневр уклонения влево, сбивая немцам пристрелку. В свою очередь "Bismarck" стал сбиваться с курса вправо, что ухудшило его стрельбу. Почти все его последующие залпы давали перелет (один залп дал недолет) до 8:58, когда немцам снова удалось добиться накрытия. Тогда же "Bismarck" открыл огонь и 150-мм орудиями.
Первый его залп лег с недолетом примерно в 900 м от "Rodney", второй дал перелет на те же 900 метров, зато третий накрыл цель, правда без попаданий, но один снаряд упал всего в 20 м от английского линкора. "Rodney" сделал маневр уклонения влево, сбивая немцам пристрелку. В свою очередь "Bismarck" стал сбиваться с курса вправо, что ухудшило его стрельбу. Почти все его последующие залпы давали перелет (один залп дал недолет) до 8:58, когда немцам снова удалось добиться накрытия. Тогда же "Bismarck" открыл огонь и 150-мм орудиями.
 "Rodney" быстро определил дистанцию до противника. Хотя его первый залп лег далеко вправо, но уже третий и четвертый залпы накрыли "Bismarck", причем "Norfolk" наблюдал одно попадания от этих залпов в 8:50. Британские линкоры начали расходиться, чтобы не мешать друг другу. В 8:53 "Rodney" уклонился влево, открывая углы обстрела третьей башне, и пошел наперерез немецкому линкору, а "King George V" несколько повернул вправо, продолжая сближаться с "Bismarck".
"Rodney" быстро определил дистанцию до противника. Хотя его первый залп лег далеко вправо, но уже третий и четвертый залпы накрыли "Bismarck", причем "Norfolk" наблюдал одно попадания от этих залпов в 8:50. Британские линкоры начали расходиться, чтобы не мешать друг другу. В 8:53 "Rodney" уклонился влево, открывая углы обстрела третьей башне, и пошел наперерез немецкому линкору, а "King George V" несколько повернул вправо, продолжая сближаться с "Bismarck".
 В 8:54 идущий контркурсом "Norfolk" присоединился к обстрелу "Bismarck" с другого борта, кроме того, сзади с того же борта к месту боя подходил тяжелый крейсер "Dorsetshire". После первого успеха "Rodney" стал вести огонь с высокой скорострельностью по данным своего главного директора, который, как выяснилось, показывал завышенную дистанцию, и снаряды ложились перелетами, пока в 8:58 восемнадцатый залп не дал попадание в полубак недалеко от башни "Anton", временно выведя ее из строя. Через минуту неожиданного успеха добился "Norfolk": 203-мм снаряд разбил носовой КДП немецкого линкора. "Bismarck" мог отвечать одной башней "Bruno", и эффективность его огня в этот момент резко упала и уже не восстановилась до конца боя.
В 8:54 идущий контркурсом "Norfolk" присоединился к обстрелу "Bismarck" с другого борта, кроме того, сзади с того же борта к месту боя подходил тяжелый крейсер "Dorsetshire". После первого успеха "Rodney" стал вести огонь с высокой скорострельностью по данным своего главного директора, который, как выяснилось, показывал завышенную дистанцию, и снаряды ложились перелетами, пока в 8:58 восемнадцатый залп не дал попадание в полубак недалеко от башни "Anton", временно выведя ее из строя. Через минуту неожиданного успеха добился "Norfolk": 203-мм снаряд разбил носовой КДП немецкого линкора. "Bismarck" мог отвечать одной башней "Bruno", и эффективность его огня в этот момент резко упала и уже не восстановилась до конца боя.
 В 8:59 дистанция до противника у флагмана Тови сократилась примерно до 14 500 м, и "King George V" повернул на правый борт, чтобы ввести в действие кормовую башню, оказавшись на контркурсе с немецким линкором. "Rodney" примерно в 9:03 повернул вслед за флагманом, развернувшись почти на 90° на курс 182. Но до поворота он продолжал накрывать немецкий линкор, видимо, добившись нескольких попаданий. Один снаряд с "Rodney" или "King George V" в 9:02 пробил лобовую плиту башни "Bruno" или верхнюю часть ее барбета, взорвавшись внутри и полностью выбив заднюю плиту башни (во время осмотра обломков "Bismarck" была обнаружена пробоина по самой верхней кромке барбета длиной 700 мм.). Взрывом убило членов экипажа, находившихся на открытых позициях на надстройке за башней. Башня "Anton" после этого попадания продолжала молчать, выпустив впоследствии всего один залп в 9:27.
В 8:59 дистанция до противника у флагмана Тови сократилась примерно до 14 500 м, и "King George V" повернул на правый борт, чтобы ввести в действие кормовую башню, оказавшись на контркурсе с немецким линкором. "Rodney" примерно в 9:03 повернул вслед за флагманом, развернувшись почти на 90° на курс 182. Но до поворота он продолжал накрывать немецкий линкор, видимо, добившись нескольких попаданий. Один снаряд с "Rodney" или "King George V" в 9:02 пробил лобовую плиту башни "Bruno" или верхнюю часть ее барбета, взорвавшись внутри и полностью выбив заднюю плиту башни (во время осмотра обломков "Bismarck" была обнаружена пробоина по самой верхней кромке барбета длиной 700 мм.). Взрывом убило членов экипажа, находившихся на открытых позициях на надстройке за башней. Башня "Anton" после этого попадания продолжала молчать, выпустив впоследствии всего один залп в 9:27.
 Еше один снаряд попал в район катапульты, подорвав подготовленные к бою 105-мм снаряды и нанеся тяжелые потери среди расчетов зенитных орудий. Примерно в то же время еще один снаряд с одного из линкоров взорвался в верхней части носовой надстройки, уничтожив главный КДП, главный пост управления артиллерийским огнем и убив многих старших офицеров линкора. Первые попадания англичан оказались крайне удачными, почти сразу лишив "Bismarck" какой-либо возможности сопротивляться. В 9:08 "Norfolk" доложил, что стволы башни "Anton" опущены, а "Bruno" — задраны вверх. Это означало, что обе башни не действовали. В 9:04 к бою присоединился "Dorsetshire", открыв огонь с правого борта "Bismarck" с дистанции порядка 18 000м. Примерно в это время 203-мм снаряд одного из тяжелых крейсеров попал в носовую 150-мм башню правого борта, заклинив дверь и замуровав расчет внутри башни.
Еше один снаряд попал в район катапульты, подорвав подготовленные к бою 105-мм снаряды и нанеся тяжелые потери среди расчетов зенитных орудий. Примерно в то же время еще один снаряд с одного из линкоров взорвался в верхней части носовой надстройки, уничтожив главный КДП, главный пост управления артиллерийским огнем и убив многих старших офицеров линкора. Первые попадания англичан оказались крайне удачными, почти сразу лишив "Bismarck" какой-либо возможности сопротивляться. В 9:08 "Norfolk" доложил, что стволы башни "Anton" опущены, а "Bruno" — задраны вверх. Это означало, что обе башни не действовали. В 9:04 к бою присоединился "Dorsetshire", открыв огонь с правого борта "Bismarck" с дистанции порядка 18 000м. Примерно в это время 203-мм снаряд одного из тяжелых крейсеров попал в носовую 150-мм башню правого борта, заклинив дверь и замуровав расчет внутри башни.
На новом курсе огню "Rodney" мешал дым от трубы и орудийных залпов, и его скорострельность упала. Тем не менее, линкор наблюдал накрытия цели, и возможно добился нескольких попаданий 31-м или 32-м залпом. Примерно в 9:13 он прекратил огонь, готовясь развернуться и действовать в дальнейшем полностью самостоятельно от флагмана. Английские линкоры в это время поддерживали скорость хода порядка 16 узлов.
 "King George V" по наблюдениям его артиллеристов добился первого попадания в 8:53, а до 9:13, когда радар типа 284 вышел из строя от собственных дульных газов, добился 14 накрытий за 34 залпа. Часть этих накрытий наверняка дали попадания, но воссоздать точную хронологию попаданий в "Bismarck" не представляется возможным. В 9:05 флагман Тови ненадолго открыл огонь 133-мм артиллерией, но быстро выяснилось, что дым от ее стрельбы только мешал управлению огнем главного калибра.
"King George V" по наблюдениям его артиллеристов добился первого попадания в 8:53, а до 9:13, когда радар типа 284 вышел из строя от собственных дульных газов, добился 14 накрытий за 34 залпа. Часть этих накрытий наверняка дали попадания, но воссоздать точную хронологию попаданий в "Bismarck" не представляется возможным. В 9:05 флагман Тови ненадолго открыл огонь 133-мм артиллерией, но быстро выяснилось, что дым от ее стрельбы только мешал управлению огнем главного калибра.
 "Bismarck" в 9:10 перевел управление огнем кормовыми башнями на кормовой артиллерийский пост под командованием четвертого артиллерийского офицера капитан-лейтенанта Буркхардафон Мюлленхайм-Рехбсрга (Барон фон Мюлленхайм-Рехберг оказался старшим по званию из спасшихся с линкора, и его мемуары являются основным источником информации о происходившем на корабле в последнем бою). Он выбрал в качестве цели находившийся примерно в 11 000 м по левому борту "King George V", который был хорошо виден. "Rodney" в это время был, по всей видимости, вне угла обстрела кормовых башен, тем более что как раз в это время "Bismarck" довернул носом на запад. Все повороты немецкого корабля в бою были следствием его неспособности держать прямой курс, а не продуманными действиями его командира. "Bismarck" выпустил 4 безрезультатных залпа кормовыми башнями, пока в 9:13 356-мм снаряд не попал во вращающуюся часть кормового КДП, выведя его из строя. По английским данным, дистанция до"King George V" в этот момент составляла 11500 м. Кормовые башни перешли на огонь под локальным управлением.
"Bismarck" в 9:10 перевел управление огнем кормовыми башнями на кормовой артиллерийский пост под командованием четвертого артиллерийского офицера капитан-лейтенанта Буркхардафон Мюлленхайм-Рехбсрга (Барон фон Мюлленхайм-Рехберг оказался старшим по званию из спасшихся с линкора, и его мемуары являются основным источником информации о происходившем на корабле в последнем бою). Он выбрал в качестве цели находившийся примерно в 11 000 м по левому борту "King George V", который был хорошо виден. "Rodney" в это время был, по всей видимости, вне угла обстрела кормовых башен, тем более что как раз в это время "Bismarck" довернул носом на запад. Все повороты немецкого корабля в бою были следствием его неспособности держать прямой курс, а не продуманными действиями его командира. "Bismarck" выпустил 4 безрезультатных залпа кормовыми башнями, пока в 9:13 356-мм снаряд не попал во вращающуюся часть кормового КДП, выведя его из строя. По английским данным, дистанция до"King George V" в этот момент составляла 11500 м. Кормовые башни перешли на огонь под локальным управлением.
 В 9:16 "Rodney" начал разворот на 180° и через две минуты возобновил огонь на параллельном противнику курсе, произведя свой 41-й за бой залп с дистанции 9100 м. В 9:20 кормовые башни "Bismarck" перенесли огонь на "Rodney" как более близкую и опасную на тот момент цель, однако в 9:21 правое орудие башни "Dora" разорвало от взрыва собственного снаряда в стволе. Башня сделала еще два выстрела левым орудием и прекратила огонь (при обследовании остатков "Bismarck" было обнаружено, что барбет имеет две пробоины, вероятно, от 406-мм снарядов). В дальнейшем в строю оставалась одна башня "Caesar", хотя в 9:27 неожиданно один залп произвела башня "Anton". С главным калибром было все кончено в 9:31, когда 356-мм снаряд попал в лобовую плиту башни "Caesar", и хотя не пробил ее, сотрясение вывело из строя механизмы горизонтальной и вертикальной наводки, и больше башня не стреляла. Дальнейший бой представлял собой уже безответный расстрел немецкого линкора.
В 9:16 "Rodney" начал разворот на 180° и через две минуты возобновил огонь на параллельном противнику курсе, произведя свой 41-й за бой залп с дистанции 9100 м. В 9:20 кормовые башни "Bismarck" перенесли огонь на "Rodney" как более близкую и опасную на тот момент цель, однако в 9:21 правое орудие башни "Dora" разорвало от взрыва собственного снаряда в стволе. Башня сделала еще два выстрела левым орудием и прекратила огонь (при обследовании остатков "Bismarck" было обнаружено, что барбет имеет две пробоины, вероятно, от 406-мм снарядов). В дальнейшем в строю оставалась одна башня "Caesar", хотя в 9:27 неожиданно один залп произвела башня "Anton". С главным калибром было все кончено в 9:31, когда 356-мм снаряд попал в лобовую плиту башни "Caesar", и хотя не пробил ее, сотрясение вывело из строя механизмы горизонтальной и вертикальной наводки, и больше башня не стреляла. Дальнейший бой представлял собой уже безответный расстрел немецкого линкора.
 Стрельба "King George V" после выхода из строя артиллерийского радара ухудшилась. Вдобавок в 9:20 заклинило горизонтальный привод башни "А", и она вышла из строя. Примерно в это время флагманский линкор стал вслед за "Rodney" разворачиваться на обратный курс, догоняя оставшийся несколько за кормой "Bismarck". "King George V" находился дальше от немецкого линкора, и условия стрельбы с него в этот период времени были хуже, чем с "Rodney".
Стрельба "King George V" после выхода из строя артиллерийского радара ухудшилась. Вдобавок в 9:20 заклинило горизонтальный привод башни "А", и она вышла из строя. Примерно в это время флагманский линкор стал вслед за "Rodney" разворачиваться на обратный курс, догоняя оставшийся несколько за кормой "Bismarck". "King George V" находился дальше от немецкого линкора, и условия стрельбы с него в этот период времени были хуже, чем с "Rodney".
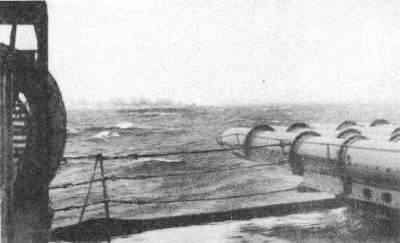 Двигаясь параллельным курсом с "Bismarck", "Rodney" выпустил по нему 6 торпед. но все они прошли мимо. Британский корабль стал быстро обгонять еле ползущего противника и сделал доворот вначале в 9:21 на курс 21°, а затем в 9.26 — на курс 37°, начиная подходить с носа. Наряду с ведением артогня, он выпустил еще две торпеды, но опять промахнулся.
Двигаясь параллельным курсом с "Bismarck", "Rodney" выпустил по нему 6 торпед. но все они прошли мимо. Британский корабль стал быстро обгонять еле ползущего противника и сделал доворот вначале в 9:21 на курс 21°, а затем в 9.26 — на курс 37°, начиная подходить с носа. Наряду с ведением артогня, он выпустил еще две торпеды, но опять промахнулся.
В 9:30 дистанция до противника сократилась до 5500 м, и "Rodney" продолжал осыпать его снарядами, стреляя обоими калибрами. Он прошел перед носом немецкого линкора, развернулся на 180° градусов через левый борт и вновь прошел перед носом "Bismarck". Начиная с 99-го залпа, он начал стрелять со снижением орудий, чтобы поразить ватерлинию немецкого корабля и быстрее отправить его на дно. "Rodney" также выпустил последние 4 торпеды и претендовал на одно попадание в правый борт в 10:00. Это попадание вполне вероятно, хотя на 100% подтвердить его нельзя (в частности, его не подтверждают уцелевшие немецкие моряки). В 9:59 "Rodney" в очередной раз развернулся на 190°, чтобы сделать еше одну петлю перед носом германского линкора. В 10:03 расстояние до противника было всего 3700 м и оставалось в среднем таким же до прекращения огня в 10:14 после 113-го залпа.
Пока "Rodney" выписывал петли перед носом "Bismarck". "King George V" подошел к гибнущему противнику с левого борта и 9:54 наконец возобновил огонь всеми тремя башнями с расстояния 7300 м. Флагманскому линкору англичан пришлось сделать один разворот на контркурс, а затем вновь на параллельный курс с целью, чтобы не слишком удалиться от нее. Тови стало очевидно, что "Bismarck" будет потоплен, и в 10:15 он отдал приказ своим испытывавшим недостаток топлива линкорам лечь на курс 27° и возвращаться на базу. "Rodney" сразу прекратил огонь, поскольку новый курс уводил его от немецкого линкора. Флагман же проходил мимо гибнущего "Bismarck" и сблизился с ним на дистанцию порядка 3000 м, расстреливая врага в упор обоими калибрами. Он прекратил огонь в 10:22.
 На завершающей стадии боя "Bismarck" получил множество попаданий (их общее число оценивается в 300—400) — в первую очередь, от расстреливающего его с наименьшей дистанции "Rodney", который за бой наблюдал порядка 40 попаданий только главным калибром! К 9:40 вся 150-мм артиллерия молчала, а к 10:00 из вооружения осталось действующим только одно 20-мм орудие. В башнях "Anton", "Bruno" и "Dora" возникли пожары, и их погреба были затоплены для предотвращения взрыва. С той же целью затопили часть погребов 150-мм, 105-мм и 37-мм боеприпасов. Надстройки были разбиты, 350-мм броня боевой рубки пробита несколько раз, носовая надстройка сильно горела. Однако обследование корабля показало, что попаданий с пробитием главного и даже верхнего пояса было не очень много. По левому борту были найдены, по крайней мере, четыре пробоины в 145-мм поясе, а по правому — две пробоины в главном поясе. Главный пояс полевому борту в значительной степени занесен илом и недостаточно обследован, но в нем тоже наверняка есть пробития. Основное число попаданий пришлось на переднюю надстройку, хотя по имеющейся информации, два снаряда пробили комбинацию главного пояса и скоса палубы и проникли в отсеки силовой установки, хотя и не вывели ее полностью из строя. Часть попавших в воду с небольшой дистанции английских снарядов рикошетировала или даже взорвалась при касании воды, некоторые 406-мм снаряды "Rodney" при обстреле с носа возможно рикошетировали от главного пояса без пробития.
На завершающей стадии боя "Bismarck" получил множество попаданий (их общее число оценивается в 300—400) — в первую очередь, от расстреливающего его с наименьшей дистанции "Rodney", который за бой наблюдал порядка 40 попаданий только главным калибром! К 9:40 вся 150-мм артиллерия молчала, а к 10:00 из вооружения осталось действующим только одно 20-мм орудие. В башнях "Anton", "Bruno" и "Dora" возникли пожары, и их погреба были затоплены для предотвращения взрыва. С той же целью затопили часть погребов 150-мм, 105-мм и 37-мм боеприпасов. Надстройки были разбиты, 350-мм броня боевой рубки пробита несколько раз, носовая надстройка сильно горела. Однако обследование корабля показало, что попаданий с пробитием главного и даже верхнего пояса было не очень много. По левому борту были найдены, по крайней мере, четыре пробоины в 145-мм поясе, а по правому — две пробоины в главном поясе. Главный пояс полевому борту в значительной степени занесен илом и недостаточно обследован, но в нем тоже наверняка есть пробития. Основное число попаданий пришлось на переднюю надстройку, хотя по имеющейся информации, два снаряда пробили комбинацию главного пояса и скоса палубы и проникли в отсеки силовой установки, хотя и не вывели ее полностью из строя. Часть попавших в воду с небольшой дистанции английских снарядов рикошетировала или даже взорвалась при касании воды, некоторые 406-мм снаряды "Rodney" при обстреле с носа возможно рикошетировали от главного пояса без пробития.
"Bismarck" имел весьма большую метацентрическую высоту и поэтому был устойчив к переворачиванию, в итоге корабль долгое время не тонул. Осознав безнадежность ситуации, оставшийся старшим офицером фрегаттен-капитан Ганс Оэльс после 9:30 приказал заложить подрывные заряды для затопления корабля. Заряды были заложены в среднее и правое турбинное отделение и котельные отделения. Все водонепроницаемые двери в этих отсеках были оставлены открытыми. Сам Оэльс возглавлял большую партию моряков, собравшихся в передней столовой в ожидании приказа покинуть корабль, когда в этом помещении около 10:00 разорвался снаряд (видимо, 356-мм), пробивший 145-мм верхний пояс. Оэльс и еще около 100 моряков погибли. Подрывные заряды сдетонировали вскоре после 10:20, и корабль стал медленно крениться на левый борт.
В 9:20 "Ark Royal" запустил 12 "Суордфишей" для торпедной атаки "Bismarck". Появившиеся в районе боя в 10:15 торпедоносцы предпочли воздержаться от атаки, поскольку цель была под интенсивным огнем надводных кораблей. Кроме того, "King George V" поначалу принял самолеты за немецкие и даже обстрелял их.
 После прекращения огня британскими линкорами горящий "Bismarck" все еще держался на плаву, и Тови приказал кораблям, имевшим торпеды, сблизиться и потопить его. В 10:25 крейсер "Dorsetshire" выпустил две торпеды в правый борт "Bismarck" с дистанции 3000 м. Они попали в район мостика, но скорее произвели эффект контрзатоплений для кренившегося на левый борт корабля, так что тот не спешил идти на дно. Обогнув линкор, в 10:36 "Dorsetshire" выпустил еще одну торпеду с 2200 м в левый борт. После ее попадания в район катапульты "Bismarck" стал быстро крениться на левый борт и погружаться кормой. В 10:39 он повалился на левый борт и, наконец, скрылся под волнами в точке примерно 48°10' N и !6° 12' W.
После прекращения огня британскими линкорами горящий "Bismarck" все еще держался на плаву, и Тови приказал кораблям, имевшим торпеды, сблизиться и потопить его. В 10:25 крейсер "Dorsetshire" выпустил две торпеды в правый борт "Bismarck" с дистанции 3000 м. Они попали в район мостика, но скорее произвели эффект контрзатоплений для кренившегося на левый борт корабля, так что тот не спешил идти на дно. Обогнув линкор, в 10:36 "Dorsetshire" выпустил еще одну торпеду с 2200 м в левый борт. После ее попадания в район катапульты "Bismarck" стал быстро крениться на левый борт и погружаться кормой. В 10:39 он повалился на левый борт и, наконец, скрылся под волнами в точке примерно 48°10' N и !6° 12' W.
За время боя "Rodney" выпустил 380 406-мм и 716 152-мм снарядов, "King George V" — 339 356-мм и 660 133-мм, тяжелые крейсера "Dorsetshire" и "Norfolk" соответственно 254 и 527 203-мм снарядов. Кроме того, "Norfolk" выпустил также 4 торпеды с большой дистанции.
 Примерно 800 членам экипажа удалось покинуть тонущий немецкий линкор и оказаться в воде при температуре около 13 градусов. "Dorsetshire" принял на борт 86 человек (один из них умер от ран 28 мая), а эсминец "Maori" — еще 25. После этого спасательная операция была прекращена из-за того, что англичане заметили что-то вроде перископа. Несколько часов спустя три человека были подобраны подводной лодкой U-74. На следующий день немецкое судно наблюдения за погодой "Sachsenwald" спасло еще двоих моряков с затонувшего линкора. Испанский тяжелый крейсер "Canarias", еще 27 мая вышедший из Эль-Ферроля для спасения немецких моряков, обнаружил только два мертвых тела. Таким образом, из находившихся на борту линкора было спасено всего 115 человек, остальные 2106 нашли могилу в холодных водах Атлантики.
Примерно 800 членам экипажа удалось покинуть тонущий немецкий линкор и оказаться в воде при температуре около 13 градусов. "Dorsetshire" принял на борт 86 человек (один из них умер от ран 28 мая), а эсминец "Maori" — еще 25. После этого спасательная операция была прекращена из-за того, что англичане заметили что-то вроде перископа. Несколько часов спустя три человека были подобраны подводной лодкой U-74. На следующий день немецкое судно наблюдения за погодой "Sachsenwald" спасло еще двоих моряков с затонувшего линкора. Испанский тяжелый крейсер "Canarias", еще 27 мая вышедший из Эль-Ферроля для спасения немецких моряков, обнаружил только два мертвых тела. Таким образом, из находившихся на борту линкора было спасено всего 115 человек, остальные 2106 нашли могилу в холодных водах Атлантики.
Гибель "Bismarck" заметно изменила ситуацию в руководстве Кригсмарине. Если раньше Гитлер не особенно вмешивался в планирование военно-морских операций с участием крупных кораблей, доверяя это Редеру, то отныне стал ограничивать их, опасаясь дальнейших потерь.
|
|||||||||||||
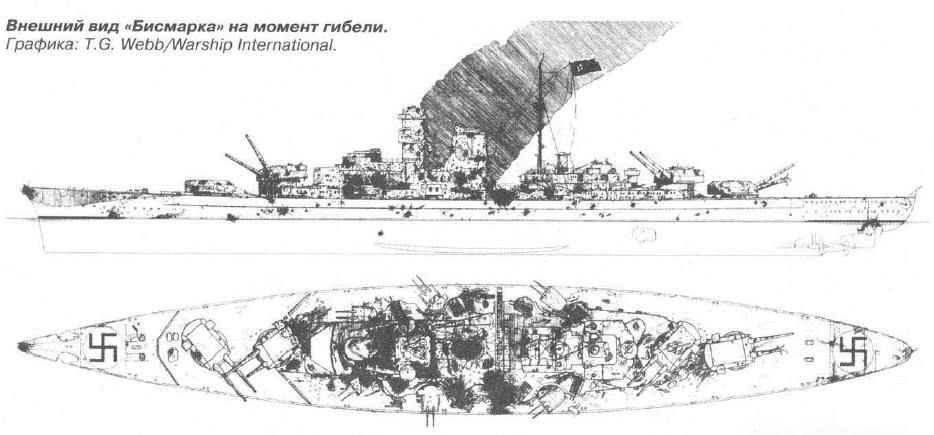 |
|||||||||||||
Установленные попадания |
|||||||||||||
| № | время | калибр | "автор" | место | результат | ||||||||
| 1 | 8:59 | 203 мм | КРТ "Norfolk" с правого носового угла | Попал в носовой КДП | КДП уничтожен | ||||||||
| 2 | 8:59 | 406 мм | ЛК "Rodney" с 14 км | Взорвался на ВП в носовой части | Носовые башни временно вышли из строя | ||||||||
| 3 | 9:00 | 406 мм | ЛК "Rodney" | Взорвался у катапульты | Вызвал детонацию 105-мм боезапаса в кранцах. Убито и ранено большое количество людей. | ||||||||
| 4 | 9:01 | 203 мм | КРТ "Norfolk" | Попал в правую носовую 150-мм башню | Заклинил дверь, замуровав расчёт. | ||||||||
| 5 | 9:02 | 406 мм | ЛК "Rodney" | Попал в башню A | Снаряд рикошетировал во 2-ю башню, вырвал из неё куски брони и забросил их на мостик, где были убиты почти все, там находившиеся. Управление огнём в 9:10 пришлось перенести на кормовой пост. | ||||||||
| 6 | 9:12 | 356 мм | ЛК "King George V" | Попал в запасной носовой КДП | Пост уничтожен. | ||||||||
| 7 | 9:13 | 356 мм | ЛК "King George V" | Попал в кормовой КДП | Снёс поворотную часть. Кормовые башни перешли на ручное управление. | ||||||||
| 8 | 9:13 | 406 мм | ЛК "Rodney" | Взорвался на ВП | Вызвал детонацию зенитного боезапаса. | ||||||||
| 9 | 9:13 | 356 мм | ЛК "King George V" | Попал в трансформаторную в корме по левому борту | Вызвал пожар. | ||||||||
| 10 | 9:15 | 406 мм | ЛК "Rodney" | Пробил броневую палубу и проник в КО правого борта | Разрушил паровые магистрали, вызвал пожар. | ||||||||
| 11 | 9:17 | 356 мм | ЛК "King George V" | У башни A | Повредил гидравлику башни. Стволы упали и башня больше не стреляла. В 9:27 и вторая башня, дав один залп, перестала стрелять (по видимому из-за разгоревшегося пожара). | ||||||||
| 12 | 9:31 | 356 мм | ЛК "King George V" с 10 км | У башни D | Оторвал ствол левого орудия. Правое сделало ещё 2 выстрела, но в башне начался пожар и она была покинута расчётом. | ||||||||
| 13 | 9:35 | 406 мм | ЛК "Rodney" | Пробил броневую палубу и взорвался в левом МО | Уничтожил турбину. Линкор совсем остановился. | ||||||||
| 14 | 9:40 | 406 мм | ЛК "Rodney" | Попал в заднюю часть башни B | Вызвал сильный взрыв, полностью разрушивший башню. Большая часть броневых плит брошена взрывом через мостик. | ||||||||
| 15 | 9:40 | 406 мм | ЛК "Rodney" | Попал в автомат стрельбы ГК | Автомат уничтожен. | ||||||||
| 16 | 9:41 | 406 мм | ЛК "Rodney" | Попал в лобовую часть башни C | Броня выдержала, но пострадал механизм вертикальной наводки правого орудия. | ||||||||
| 17 | 9:41 | 406 мм | ЛК "Rodney" | несколько (?) снарядов этого залпа взорвались на ВП | Вызвали взрыв боезапаса малых калибров. | ||||||||
| 18 | 9:43 | 406 мм | ЛК "Rodney" | 3 снаряда взорвались на ВП за кормовой надстройкой | Огромные пробоины в палубе. | ||||||||
| 19 | 9:50 | 406 мм | ЛК "Rodney" | Попал в грот-мачту | Мачта сбита. | ||||||||
| 20 | 9:51 | 406 мм | ЛК "Rodney" | Попал в носовой пост живучести | Пост уничтожен. | ||||||||
| 21 | 9:52 | 406 мм | ЛК "Rodney" | Попал в ангар | Ангар разрушен, возник пожар. | ||||||||
| 22 | 9:56 | ? мм | ЛК | 2 или 3 снаряда попали в боевую рубку | Все в рубке, в том числе адмирал и капитан убиты. | ||||||||
| 23 | 10:00 | 406 мм | ЛК "Rodney" | Попал в корабельную лавку | Убил собравшихся там для эвакуации с гибнущего корабля более 200 человек, в т. ч. и старпома. | ||||||||
| 24 | 10:05 | ? мм | ЛК | Попал в I и II отсеки | Вышла из строя вентиляция в корме. | ||||||||
| 25 | 10:05 | ? мм | ЛК | Попал в IV отсек | |||||||||
| 26 | 10:07 | ? мм | ЛК | 2 снаряда попали в IV отсек | Разбита шахта подачи снарядов. | ||||||||
| 27 | 10:11 | 406 мм | ЛК "Rodney" | 9 снарядов (полный залп) попал в кормовую часть | Значительные разрушения и сильный пожар. | ||||||||
| Всего за бой получил около 400 снарядов калибров 406, 356, 203, 152 и 134 мм (из 2876 выпущенных по нему) и от 1 до 4 торпед (из 23 выпущенных). Сам не добился ни одного попадания. | |||||||||||||
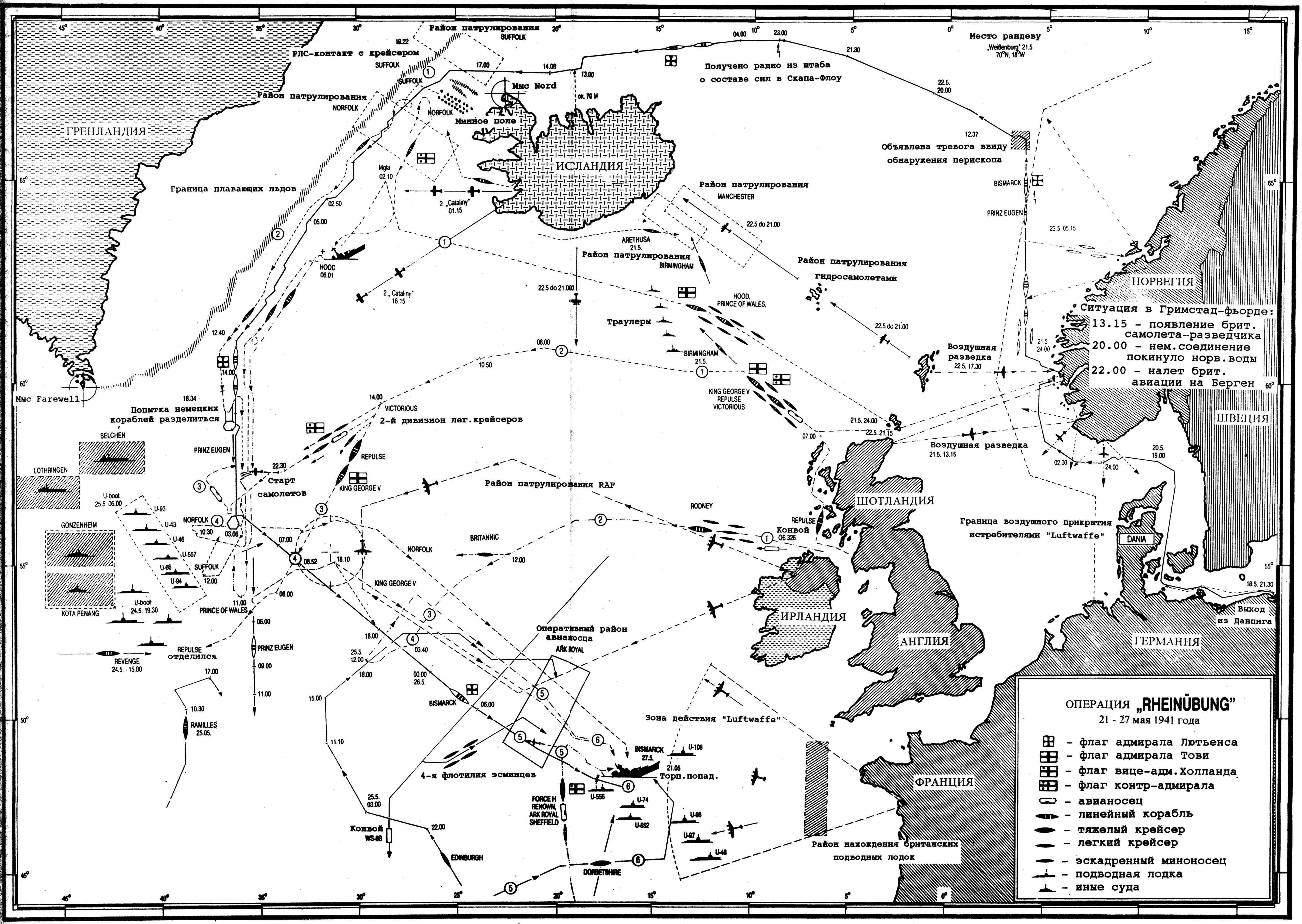
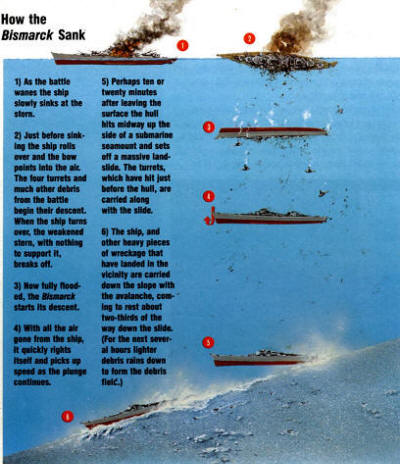
Поиск останков начал в июне 1988 г. Роберт Баллард, уже обнаруживший в 1985 г. "Титаник". Первая экспедиция окончилась безрезультатно, но вторая следующим летом принесла свои плоды — 8 июня 1989 года "Bismarck" был найден и сфотографирован подводным аппаратом "Арго". По результатам экспедиции был снят видеофильм.
Корабль находится на глубине 4670 м примерно в 960 км к западу от побережья Франции.
Во время погружения на дно линкор потерял все четыре башни, вывалившиеся от собственного веса и лежащие отдельно. Кормовая часть также оторвалась по шпангоуту 10,5. Линкор потерял верхнюю часть передней надстройки, трубу, грот-мачту, оба крана (левый кран лежит на барбете башни "Caesar"), шиты 105-мм орудий и другие элементы конструкций. "Bismarck" упал на склон подводного вулкана с наклоном 14,5° и сполз по нему почти на 1500 м на запад от места падения, на котором остался заметный кратер. 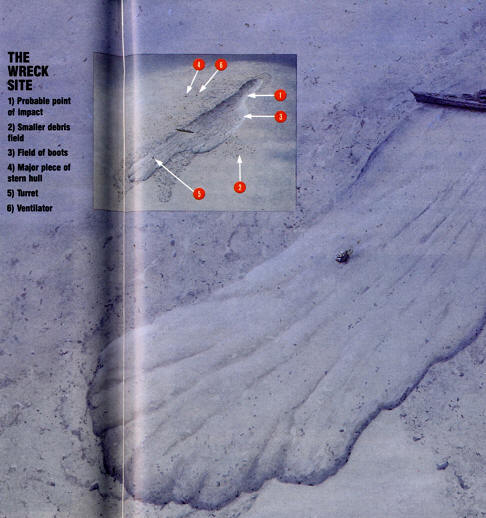 Он лег на дно почти на ровном киле, хотя корпус примерно до ватерлинии занесен илом. Остов сохранился достаточно хорошо. На палубе в носу и корме все еще заметны свастики. Носовая надстройка с левого борта очень сильно повреждена огнем английских кораблей.
Он лег на дно почти на ровном киле, хотя корпус примерно до ватерлинии занесен илом. Остов сохранился достаточно хорошо. На палубе в носу и корме все еще заметны свастики. Носовая надстройка с левого борта очень сильно повреждена огнем английских кораблей.
Дальнейшие экспедиции на "Bismarck" происходили уже в XXI веке. В июне 2001 г. экспедиция Майкла МакДоуэлла из "Deep Ocean Expeditions" впервые осуществила спуски людей в двух аппаратах "Мир" с российского судна "Академик Мстислав Келдыш". С 9 по 13 июля 2001 г. экспедиция Дэвида Мириса на судне "Northern Horison", целью которой был поиск линейного крейсера "Hood", засняла "Bismarck" при помощи дистанционно управляемого аппарата "Магеллан-725".
Все дальнейшие исследователи использовали "Академик Келдыш" и его аппараты "Мир". В мае—июне 2002 года экспедиция Джеймса Камерона осуществила 6 погружений к "Bismarck". Экспедиция, в частности, обнаружила, что у линкора отсутствует внешняя обшивка корпуса в подводной части между шпангоутами 32 и 202,7, вероятно, оторвавшаяся, когда корабль ударился о дно. Майкл Макдоуэлл из "Deep Ocean Expeditions" посетил "Bismarck" в июле 2002-го и мае 2005 г., осуществив 6 и 4 спуска аппаратов "Мир".
Сейчас предложено уже несколько проектов поднятия корабля на поверхность океана, но подобных работ пока не проводится.



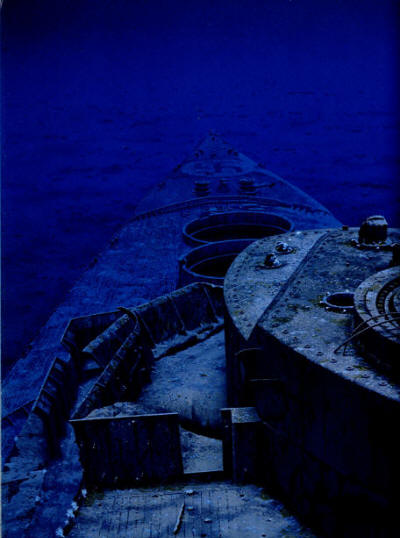
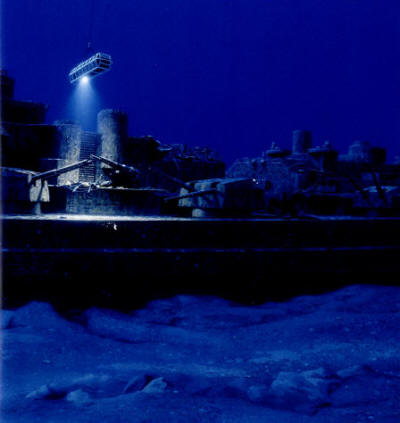





| 24.08.1940 | Вступил в строй и приступил к обучению. | капитан-цур-зее Эрнст Линдеман |
| 14-17.09.1940 | Перешёл из Гамбурга в Киль. | |
| 28.09.1940 | Перешёл в Готенхафен. Учёба и испытания. | |
| 5-9.12.1940 | Вернулся в Киль, и перешёл в Гамбург для доработок. | |
| 7 - 8.03.1941 | Снова прешёл в Киль и стал в док на покраску. | |
| 17 - 18.03.1941 | Перешёл в Готенхафен дл обучения экипажа. | |
| 19-21.05.1941 | Перешёл в Берген, вечером вышел в рейд в Атлантику. | |
| 24.05.1941 | Бой в Датском проливе, потопил британский линейный крейсер "Hood", вечером легко повреждён торпедоносцами с "Victorious". | |
| 25.05.1941 | Повреждён торпедоносцами с "Ark Royal". | |
| 26.05.1941 | Ночью отбил атаку 5 эсминцев. | |
| 27.05.1941 | Погиб в бою с британскими линкорами "King George V" и "Rodney" и крейсером "Dorsetshire". |
|
|

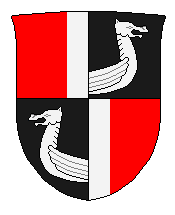 Второй корабль серии — линкор "G" — был заказан 14 июня 1936 г. военно-морской верфи в Вильгельмсхафене. Судя по документам германских архивов, работы по формированию корпуса на стапеле №2 начались 24 октября того же года, официальная закладка состоялась 2 ноября. Несмотря на то, что строительству линкора придавалось важнейшее значение, его темпы оставляли желать лучшего и стали причиной трений между Гитлером, главкомом ВМФ Редером и Германом Герингом, как уполномоченным по выполнению четырехлетнего плана. Тем не менее, стапельный период занял 29 месяцев — на 2,5 меньше, чем у головного корабля.
Второй корабль серии — линкор "G" — был заказан 14 июня 1936 г. военно-морской верфи в Вильгельмсхафене. Судя по документам германских архивов, работы по формированию корпуса на стапеле №2 начались 24 октября того же года, официальная закладка состоялась 2 ноября. Несмотря на то, что строительству линкора придавалось важнейшее значение, его темпы оставляли желать лучшего и стали причиной трений между Гитлером, главкомом ВМФ Редером и Германом Герингом, как уполномоченным по выполнению четырехлетнего плана. Тем не менее, стапельный период занял 29 месяцев — на 2,5 меньше, чем у головного корабля.
Церемония спуска на воду состоялась 1 апреля 1939 г. в присутствии главы государства и главнокомандующего Кригсмарине. По случаю столь знаменательного события фюрер произнес одну из своих зажигательных речей и удостоил Редера звания гросс-адмирала. Крестной матерью корабля стала фрау фон Хассель — жена германского посла в Риме и внучка гросс-адмирала Альфреда фон Тирпица, основателя имперского флота открытого моря, в честь которого линкор получил свое имя.




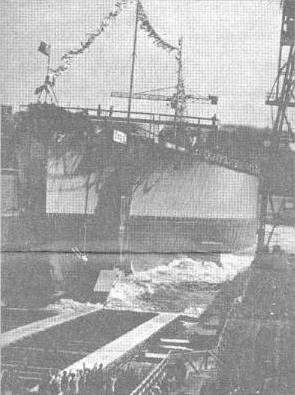

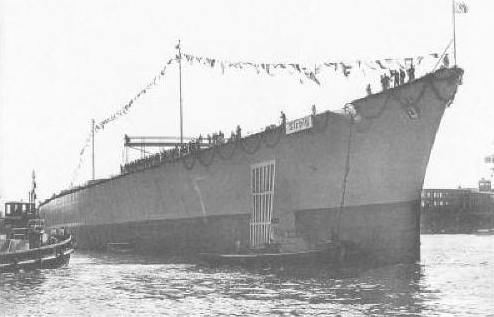




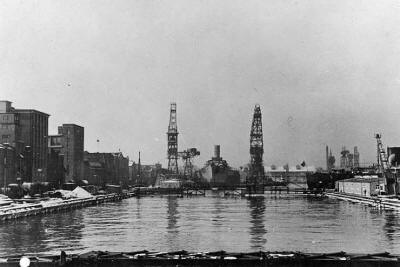
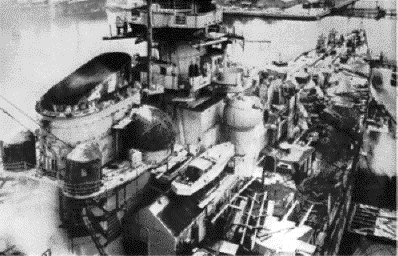 После начала войны темп достроечных работ на "Tirpitz" заметно снизился. Хотя швартовые испытания главных механизмов были проведены еще в апреле 1940 г., доводка продолжалась вплоть до вступления корабля в строй. Летом 1940 г. к обычным проблемам военного времени (перебои с поступлением материалов, отвлечение рабочих на другие заказы) добавились воздушные налеты англичан.
После начала войны темп достроечных работ на "Tirpitz" заметно снизился. Хотя швартовые испытания главных механизмов были проведены еще в апреле 1940 г., доводка продолжалась вплоть до вступления корабля в строй. Летом 1940 г. к обычным проблемам военного времени (перебои с поступлением материалов, отвлечение рабочих на другие заказы) добавились воздушные налеты англичан.

 Первый рейд "персонально" против достраивавшегося линкора провели в ночь на 10 июля 11 бомбардировщиков "Хэмпден" с 2000-фунтовыми (908-кг) бомбами, не сумевшие найти цель. Вечером 20 июля с аэродрома Хемсвелл в Линкольншире поднялись в воздух 15 "Хэмпденов" 61-й и 144-й эскадрилий, которые должны были забросать гавань Вилыельмсхафена минами типа "М" с временным взрывателем. Объектом атаки, помимо "Tirpitz", являлся ремонтировавшийся "карманный линкор "Admiral Scheer". Мины взорвались через 40 минут после постановки, не причинив вреда ни одному из кораблей. Через четыре дня англичане повторили налет — на этот раз, силами 14 "Уитли" 4-й авиагруппы с бомбами. Из-за плохой погоды только два бомбардировщика достигли Вилыельмсхафена, но не добились попаданий.
Первый рейд "персонально" против достраивавшегося линкора провели в ночь на 10 июля 11 бомбардировщиков "Хэмпден" с 2000-фунтовыми (908-кг) бомбами, не сумевшие найти цель. Вечером 20 июля с аэродрома Хемсвелл в Линкольншире поднялись в воздух 15 "Хэмпденов" 61-й и 144-й эскадрилий, которые должны были забросать гавань Вилыельмсхафена минами типа "М" с временным взрывателем. Объектом атаки, помимо "Tirpitz", являлся ремонтировавшийся "карманный линкор "Admiral Scheer". Мины взорвались через 40 минут после постановки, не причинив вреда ни одному из кораблей. Через четыре дня англичане повторили налет — на этот раз, силами 14 "Уитли" 4-й авиагруппы с бомбами. Из-за плохой погоды только два бомбардировщика достигли Вилыельмсхафена, но не добились попаданий.
Затем, в связи с началом "Битвы за Англию", англичане взяли своеобразный "таймаут". Налеты возобновились лишь в октябре, причем с явно увеличившейся интенсивностью, правда, так и не вознагражденной успехом. Визит "Хэмпденов" в ночь на 5 октября стал первым звонком, впоследствии, вплоть до ухода "Tirpitz" из Вильгельмсхафена, Королевские ВВС наносили удары по нему с завидным постоянством, о чем свидетельствует следующий список:
 В ночь на 9 октября — 17 бомбардировщиков "Хэмпден" с аэродромов Скэмптон и Уоддингтон.
В ночь на 9 октября — 17 бомбардировщиков "Хэмпден" с аэродромов Скэмптон и Уоддингтон.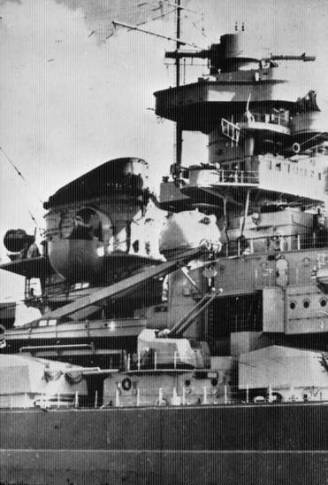 В ночь на 13 октября — 40 "Веллингтонов" 3-й группы и 35 "Хэмпденов" 5-й группы совершили налет на военно-морские базы Киль (там находились линкоры "Scharnhorst" и "Gneisenau") и Вильгельмсхафен. Из-за "очень плохих" погодных условий, к Вильгельмсхафену сумели выйти только 4 "Хэмпдена".
В ночь на 13 октября — 40 "Веллингтонов" 3-й группы и 35 "Хэмпденов" 5-й группы совершили налет на военно-морские базы Киль (там находились линкоры "Scharnhorst" и "Gneisenau") и Вильгельмсхафен. Из-за "очень плохих" погодных условий, к Вильгельмсхафену сумели выйти только 4 "Хэмпдена". В ночь на 26 ноября — 5 бомбардировщиков "Уитл и" 51 -й и 78-й эскадрилий. Как записано в Журнале боевых действий Бомбардировочного командования, атака производилась в "невозможных условиях".
В ночь на 26 ноября — 5 бомбардировщиков "Уитл и" 51 -й и 78-й эскадрилий. Как записано в Журнале боевых действий Бомбардировочного командования, атака производилась в "невозможных условиях". В ночь на 30 января — 25 бомбардировщиков "Веллингтон". Все самолеты вышли на цель, но успеха не добились.
В ночь на 30 января — 25 бомбардировщиков "Веллингтон". Все самолеты вышли на цель, но успеха не добились.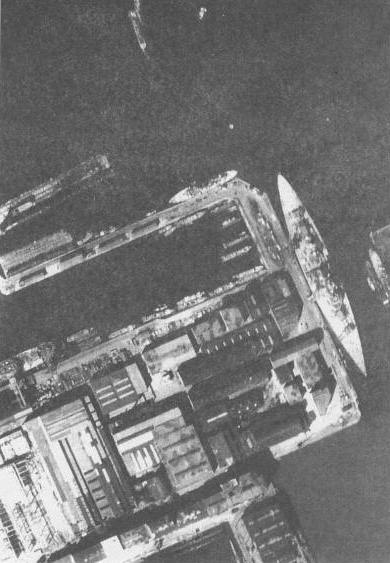 В ночь на 1 марта — 23 бомбардировщика "Хэмпден" 5-й группы с аэродромов Скэмптон и Уоддингтон. Согласно британскому рапорту, облачность на высоте 2700 м делала невозможной идентификацию цели, четыре самолета бомбили "позицию, на которой находился корабль" — без какого-либо успеха.
В ночь на 1 марта — 23 бомбардировщика "Хэмпден" 5-й группы с аэродромов Скэмптон и Уоддингтон. Согласно британскому рапорту, облачность на высоте 2700 м делала невозможной идентификацию цели, четыре самолета бомбили "позицию, на которой находился корабль" — без какого-либо успеха.
Для маскировки в этот период корпус и надстройки линкора были раскрашены под береговые строения.

 Между тем, достроечные работы шли своим чередом. В начале 1941 г. началось комплектование экипажа линкора, а 25 февраля "Tirpitz" официально вошел в строй. Первым командиром корабля стал капитан-цур-зее Карл Топп, до этого являвшийся старшим наблюдающим за достройкой, а ранее в течение нескольких лет служивший в управлении кораблестроения. Вместе с ним на борт поднялись старший офицер фрегаттен-капитан Пауль-Фридрих Дювель, старший артиллерист корветтен-капитан Роберт Вебер, старший механик фрегаттен-капитан-инженер Оскар Штелльмахер, старший штурман корветтен-капитан Вернер Кёппе.
Между тем, достроечные работы шли своим чередом. В начале 1941 г. началось комплектование экипажа линкора, а 25 февраля "Tirpitz" официально вошел в строй. Первым командиром корабля стал капитан-цур-зее Карл Топп, до этого являвшийся старшим наблюдающим за достройкой, а ранее в течение нескольких лет служивший в управлении кораблестроения. Вместе с ним на борт поднялись старший офицер фрегаттен-капитан Пауль-Фридрих Дювель, старший артиллерист корветтен-капитан Роберт Вебер, старший механик фрегаттен-капитан-инженер Оскар Штелльмахер, старший штурман корветтен-капитан Вернер Кёппе.

 В первых числах марта 1941 г. "Tirpitz" покинул Вильгельмсхафен и через канал Кайзера Вильгельма перешел в Киль для прохождения всесторонних испытаний на Балтике. 5 мая находившиеся в Готенхафене "Bismarck" и "Tirpitz" посетил А. Гитлер. Капитан-цур-зее Топп, ранее неоднократно обращавшийся к главкому Кригсмарине (в тот день отсутствовавшему) с просьбой разрешить его кораблю присоединиться к намеченному рейду в Атлантику, теперь смог изложить свою просьбу непосредственно фюреру, но положительного ответа не получил. Для обоих линкоров этот визит Гитлера стал последним. Головной корабль погиб спустя три недели, а второй в начале июня приступил к пробам артиллерии. Они проводились у о. Рюген и выявили ряд дефектов, заставивших провести весь июль и август у судоремонтной стенки. Испытания артиллерии продолжались до 20 сентября, когда линкор наконец-то был признан боеспособным.
В первых числах марта 1941 г. "Tirpitz" покинул Вильгельмсхафен и через канал Кайзера Вильгельма перешел в Киль для прохождения всесторонних испытаний на Балтике. 5 мая находившиеся в Готенхафене "Bismarck" и "Tirpitz" посетил А. Гитлер. Капитан-цур-зее Топп, ранее неоднократно обращавшийся к главкому Кригсмарине (в тот день отсутствовавшему) с просьбой разрешить его кораблю присоединиться к намеченному рейду в Атлантику, теперь смог изложить свою просьбу непосредственно фюреру, но положительного ответа не получил. Для обоих линкоров этот визит Гитлера стал последним. Головной корабль погиб спустя три недели, а второй в начале июня приступил к пробам артиллерии. Они проводились у о. Рюген и выявили ряд дефектов, заставивших провести весь июль и август у судоремонтной стенки. Испытания артиллерии продолжались до 20 сентября, когда линкор наконец-то был признан боеспособным.
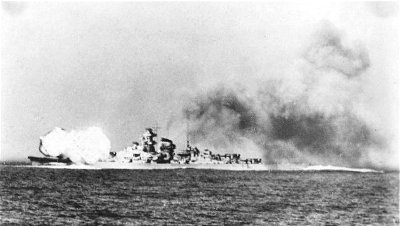


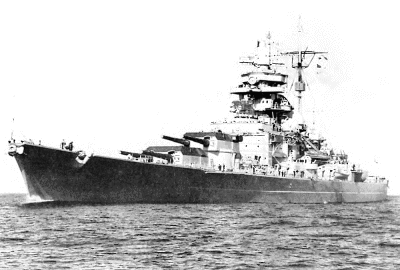












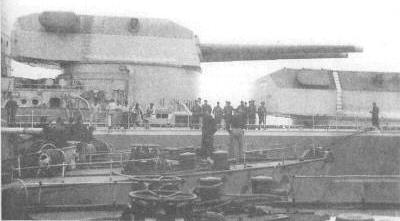



К 20 сентября 1941 г., когда линкор наконец-то был признан боеспособным, основной фронт боевых действий переместился на восток. Пал Таллин, войска Вермахта приближались к Ленинграду. Будучи убежденным, что после несомненного падения Северной столицы корабли Краснознаменного Балтийского флота предпримут попытку прорваться в Швецию и там интернироваться, 20 сентября Гитлер лично отдал приказ о формировании собственного Балтийского флота (Baltenflotte). Его командующим был назначен вице-адмирала Отто Циллиакс, избравший "Tirpitz" в качестве своего флагманского корабля.
Подчиненные Циллиаксу силы были разделены на две группы. Северная, в которую вошли "Tirpitz", тяжелый крейсер "Admiral Scheer", легкие крейсера "Nürnberg", "Köln", эсминцы Z-25, Z-26, Z-27, 2-я флотилия миноносцев и 3-я флотилия торпедных катеров, получила приказ о развертывании в районе Аландских островов. Южная группа в составе крейсеров "Leipzig", "Emden" и нескольких торпедных катеров была передислоцирована в Лиепаю. 23 сентября обе группы вышли из Свинемюнде и заняли позиции ожидания.
Однако донесений о выходе советского флота не поступало, а воздушная разведка сообщала, что после произведенных массированных налетов на Кронштадт он вряд ли возможен. Поэтому уже 25 сентября "Tirpitz" и "Admiral Scheer" с миноносцами Т-2, Т-5 вернулись в Лиепаю. Через два дня Гитлер отменил свое решение.
 Потеря "Bismarck" заставляла руководство Кригсмарине трепетнее относиться к его систершипу. Пока экипаж продолжал оттачивать свой опыт, в тиши кабинетов принималось решение относительно дальнейшего использования корабля.
Потеря "Bismarck" заставляла руководство Кригсмарине трепетнее относиться к его систершипу. Пока экипаж продолжал оттачивать свой опыт, в тиши кабинетов принималось решение относительно дальнейшего использования корабля.
13 ноября 1941 г. в ставке Гитлера "Вольфшанце" состоялось совещание, на котором присутствовали Кейтель, Йодль, Редер и адъютант фюрера по военно-морским вопросам капитан-цур-зее Путткамер. Тогда-то Редер впервые изложил свой план перебазировать "Tirpitz" в Норвегию, обосновав его невозможностью направить линкор в океанское рейдерство из-за недостатка топлива и риска повторить судьбу "Bismarck". Кроме того, обеспечение снабжения германских войск в Норвегии велось исключительно морем и требовало защиты от возможных атак противника. Гитлер, опасавшийся высадки англичан в этом районе, сразу дал свое принципиальное согласие.
На совещании 29 декабря Редер снова вернулся к вопросу о "Tirpitz". Перебазирование линкора в Норвегию связало бы силы англичан в Атлантике, чтобы они не могли быть переброшены на Средиземное море, в Индийский и Тихий океаны. Поддержанный другими надводными кораблями, он создавал бы постоянную угрозу для линии коммуникаций между Великобританией и Советским Союзом, заставляя прикрывать начавшие ходить летом 1941 года арктические конвои крупными силами британского флота.
 Прекрасно сознавая значение принципа "fleet-in-being", гросс-адмирал Редер рекомендовал сосредоточить в Норвегии весь германский надводный флот, стратегической задачей которого стала бы "зашита наших позиций в Норвегии и Арктике путем угрозы фланговой атаки вражеских сил". Гитлер, убедивший сам себя, что данные разведки указывают на подготовку англичан ко вторжению в Северную Норвегию, заявил: "Судьба войны решается в Норвегии". Тем самым, было принято решение о передислокации "Tirpitz" в район Тронхейма.
Прекрасно сознавая значение принципа "fleet-in-being", гросс-адмирал Редер рекомендовал сосредоточить в Норвегии весь германский надводный флот, стратегической задачей которого стала бы "зашита наших позиций в Норвегии и Арктике путем угрозы фланговой атаки вражеских сил". Гитлер, убедивший сам себя, что данные разведки указывают на подготовку англичан ко вторжению в Северную Норвегию, заявил: "Судьба войны решается в Норвегии". Тем самым, было принято решение о передислокации "Tirpitz" в район Тронхейма.
На следующий день капитан-цур-зее Топп и старший штурман линкора корветтен-капитан Герхард Бидлингмайер были вызваны в штаб Руководства войной на море, где получили соответствующие распоряжения. 6 января 1942 г. гросс-адмирал Редер сам отправился в Киль, чтобы произвести инспекцию корабля. Наконец, 10 января командир "Tirpitz" доложил, что линкор может считаться полностью боеготовым.
Начало перехода "Tirpitz" в Норвегию было намечено на 10 января, однако в действительности это оказалось гораздо более сложной задачей, чем представлялось на первый взгляд. О проходе через датские проливы не могло быть и речи. Любая встреча с кораблем или самолетом нейтральной Швеции могла привести к тому, что об операции незамедлительно узнали бы англичане. Воспоминания о негативной роли шведов в судьбе "Bismarck" были еще свежи. Поэтому сначала линкор должен был пройти Кильским каналом на запад.
Вечером 12 января "Tirpitz" покинул Киль и следующим утром зашел в Хольтенау — небольшой порт на восточном входе в канал. Здесь с него сняли все лишнее, максимально облегчив для перехода, после чего линкор стал медленно втягиваться в шлюзы. Из-за опасности воздушного нападения идти приходилось при полном затемнении, а вся зенитная артиллерия корабля находилась в состоянии полной боевой готовности. Верхушки мачт едва не задевали перекинутые через канал мосты. Тем не менее, к вечеру линкор благополучно преодолел 99 километров пути и прибыл в Брунсбюттель, где принял топливо и все выгруженные грузы, доставленные из Хольтенау по суше, и затем совершил короткий переход в Вильгельмсхафен.
Вечером 14 января, с опозданием на 4 дня против ранее запланированного срока, "Tirpitz" в сопровождении эсминцев "Richard Beitzen", "Paul Jacobi", "Bruno Heinemann" и Z-29 вышел из Вильгельмсхафена и взял курс на север. Как оказалось, он покидал Германию навсегда. Спустя два дня сопровождаемый эсминцами линкор бросил якорь в расположенном примерно в 15 милях к востоку от Тронхейма Фэттенфьорде.
 С оперативной точки зрения это было достаточно удобное для базирования место. Островом Салтёйя оно было отделено от основной части Осфьорда, в свою очередь, являвшегося ответвлением Тронхеймс-фьорда. Всего в паре километров от места стоянки "Tirpitz" располагался хорошо оборудованный аэродром Вэрнес, рядом проходила железная дорога, связывавшая Тронхейм со Швецией, чем нередко пользовались офицеры корабля: достаточно было переодеться в гражданское. На окружающих фьорд скалистых берегах было размещено до двух десятков зенитных батарей, сама стоянка была надежно защищена противоторпедными сетями, а со стороны моря ее прикрывала флотилия дымзавесчиков. Впрочем, тайной местонахождение "Tirpitz" оставалось недолго — британское Адмиралтейство получило сведения о нем 22 января...
С оперативной точки зрения это было достаточно удобное для базирования место. Островом Салтёйя оно было отделено от основной части Осфьорда, в свою очередь, являвшегося ответвлением Тронхеймс-фьорда. Всего в паре километров от места стоянки "Tirpitz" располагался хорошо оборудованный аэродром Вэрнес, рядом проходила железная дорога, связывавшая Тронхейм со Швецией, чем нередко пользовались офицеры корабля: достаточно было переодеться в гражданское. На окружающих фьорд скалистых берегах было размещено до двух десятков зенитных батарей, сама стоянка была надежно защищена противоторпедными сетями, а со стороны моря ее прикрывала флотилия дымзавесчиков. Впрочем, тайной местонахождение "Tirpitz" оставалось недолго — британское Адмиралтейство получило сведения о нем 22 января...
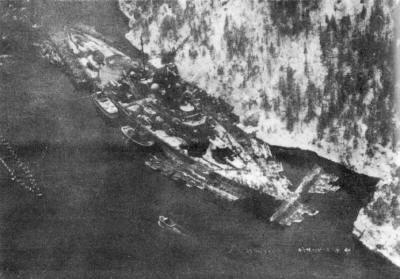 О том, какое значение придавалось этому кораблю в британской морской стратегии, писалось уже неоднократно. Потопление его систершипом "Hood" — гордости Королевского флота — и сопротивление, оказанное в последнем бою, встревожили англичан. Как справедливо отмечает историк Дэвид Вудворд, "Tirpitz" являлся "головной болью Адмиралтейства, беспокойство которого начинало граничить с паникой". Еще в конце августа 1941 г. Первый морской лорд адмирал Дадли Паунд подготовил премьер-министру меморандум, в котором заявлял, что пока существует "Tirpitz", британскому флоту необходимо постоянно иметь в наличии два линкора типа "King George V". Это означало, что в водах метрополии постоянно должны находиться три корабля данного типа — на случай нахождения одного из них в ремонте. "Если "Tirpitz" сумеет вырваться в океан, — писал Первый морской лорд, — он может парализовать наше судоходство в Северной Атлантике в такой степени, что просто необходимо навязать ему бой как можно раньше, поэтому мы не может позволить себе отвлечь хотя бы один линкор типа "King George V" из этого района". На следующий день Черчилль прокомментировал этот документ в еще более мрачных тонах: "Он ["Tirpitz"] создает всеобщий страх и угрозу во всех точках сразу".
О том, какое значение придавалось этому кораблю в британской морской стратегии, писалось уже неоднократно. Потопление его систершипом "Hood" — гордости Королевского флота — и сопротивление, оказанное в последнем бою, встревожили англичан. Как справедливо отмечает историк Дэвид Вудворд, "Tirpitz" являлся "головной болью Адмиралтейства, беспокойство которого начинало граничить с паникой". Еще в конце августа 1941 г. Первый морской лорд адмирал Дадли Паунд подготовил премьер-министру меморандум, в котором заявлял, что пока существует "Tirpitz", британскому флоту необходимо постоянно иметь в наличии два линкора типа "King George V". Это означало, что в водах метрополии постоянно должны находиться три корабля данного типа — на случай нахождения одного из них в ремонте. "Если "Tirpitz" сумеет вырваться в океан, — писал Первый морской лорд, — он может парализовать наше судоходство в Северной Атлантике в такой степени, что просто необходимо навязать ему бой как можно раньше, поэтому мы не может позволить себе отвлечь хотя бы один линкор типа "King George V" из этого района". На следующий день Черчилль прокомментировал этот документ в еще более мрачных тонах: "Он ["Tirpitz"] создает всеобщий страх и угрозу во всех точках сразу".
 Неудивительно, что обнаружение "Tirpitz" в норвежских водах вызвало немедленную реакцию. Уже 25 января Черчилль направил главе Комитета Начальников штабов генералу Исмею гневное письмо: "О присутствии "Tirpitz" в Тронхейме известно уже три дня. Уничтожение или хотя бы повреждение этого корабля станет крупнейшим событием на море в настоящее время. Никакая другая цель не сравнима с ним". Премьер-министр справедливо указывал на то, что ПВО новой стоянки не может сравниться по эффективности с портами Германии, и предлагал незамедлительно осуществить против линкора атаку бомбардировщиков или торпедоносцев.
Неудивительно, что обнаружение "Tirpitz" в норвежских водах вызвало немедленную реакцию. Уже 25 января Черчилль направил главе Комитета Начальников штабов генералу Исмею гневное письмо: "О присутствии "Tirpitz" в Тронхейме известно уже три дня. Уничтожение или хотя бы повреждение этого корабля станет крупнейшим событием на море в настоящее время. Никакая другая цель не сравнима с ним". Премьер-министр справедливо указывал на то, что ПВО новой стоянки не может сравниться по эффективности с портами Германии, и предлагал незамедлительно осуществить против линкора атаку бомбардировщиков или торпедоносцев.
 Первый налет на "Tirpitz" в Норвегии (операция "Ойлед") состоялся в ночь на 30 января. После полуночи с аэродрома Лоссимут в Шотландии поднялись в воздух 7 бомбардировщиков "Стирлинг" 15-й и 149-й эскадрилий Королевских ВВС, а между 02:04 и 02:34 — еще 9 "Галифаксов" 10-й и 76-й эскадрилий. Сплошная облачность и сильное обледенение не позволили им найти цель, и они вернулись назад, не сбросив бомб. "Очевидно, — саркастически отмечает другой британский историк, Дж. Фрере Кук, — проблема была более сложной, чем представлялось премьер-министру"...
Первый налет на "Tirpitz" в Норвегии (операция "Ойлед") состоялся в ночь на 30 января. После полуночи с аэродрома Лоссимут в Шотландии поднялись в воздух 7 бомбардировщиков "Стирлинг" 15-й и 149-й эскадрилий Королевских ВВС, а между 02:04 и 02:34 — еще 9 "Галифаксов" 10-й и 76-й эскадрилий. Сплошная облачность и сильное обледенение не позволили им найти цель, и они вернулись назад, не сбросив бомб. "Очевидно, — саркастически отмечает другой британский историк, Дж. Фрере Кук, — проблема была более сложной, чем представлялось премьер-министру"...
Тем временем германский флот продолжал концентрацию сил в "Зоне судьбы", как охарактеризовал Норвегию Гитлер. 11 — 13 февраля, в результате блестяще проведенной операции "Церберус", линкоры "Scharnhorst" и "Gneisenau" с тяжелым крейсером "Prinz Eugen" под командованием вице-адмирала Циллиакса (Занимал пост Командующего линкорами (BdS) прорвались из французского порта Брест в Германию прямо через Ла-Манш, нанеся звонкую пощечину британскому флоту.
Вечером 21 февраля "Prinz Eugen" и "карманный линкор" "Admiral Scheer" в сопровождении трех эсминцев вышли в море, направляясь в Норвегию (операция "Шпортпалас"). В тот же день "Tirpitz" на несколько часов покинул место стоянки, чтобы опробовать в водах фьорда механизмы и быть готовым выйти навстречу крейсерам. К несчастью для немцев, на рассвете 23 февраля британская субмарина "Trident" (коммандер Слэйден) торпедировала "Prinz Eugen" и нанесла ему тяжелые повреждения. Из-за подводной угрозы "Tirpitz" в море выходить не стал, но после полудня "Admiral Scheer" вошел в фьорд и бросил якорь рядом с ним. "Prinz Eugen", несмотря на повреждение, прибыл в Тронхейм в 23 часа того же дня, хотя позднее был вынужден отправиться в Германию на длительный ремонт.



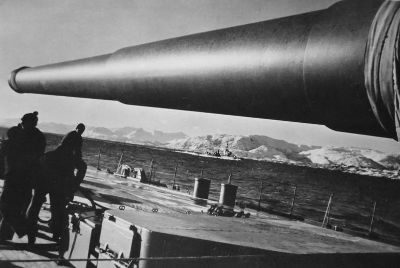


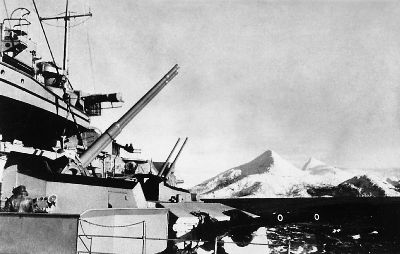
 Операция против конвоев PQ-12/QP-8, 6-9.03.1942
Операция против конвоев PQ-12/QP-8, 6-9.03.1942
Еще не участвовавшему в настоящих боевых действиях экипажу "Tirpitz" не пришлось долго томиться от бездеятельности. 1 марта Рейкьявик покинул караван PQ-12 в составе 16 транспортов. Дальнее прикрытие осуществляла эскадра вице-адмирала Кертейса: линейный крейсер "Renown" (флагман), линкор "Duke Of Yorck", легкий крейсер "Kenya" и 6 эсминцев. Они вышли из Рейкьявика 3 марта. Днем позже из Скапа-Флоу вышли главные силы Флота метрополии под командованием адмирала Дж. Тови: линкор "King George V", авианосец "Victorious", тяжелый крейсер "Berwick" и 6 эскадренных миноносцев. Рандеву двух эскадр состоялось 6 марта в 200 милях от Ян-Майена. Одновременно из Мурманска на запад отправился "обратный" конвой QP-8. Правда, бушевавший 4 марта шторм разбросал суда последнего, в результате советский лесовоз "Ижора" (2815 брт) был потоплен эсминцем "Friedrich Inn", вместе с отказавшимся покинуть корабль экипажем.
 В полдень 5 марта конвой PQ-12 был обнаружен разведывательным самолетом FW-200 "Кондор" 1-й группы KG 40 примерно в 70 милях южнее острова Ян-Майен. Сразу после получения радиограммы, командование флота запросило разрешения Гитлера на выход "Tirpitz" в море для перехвата конвоя. Командовать операцией поручили вице-адмиралу Циллиаксу, который прибыл на борт линкора утром 6 марта. Около 11 часов "Tirpitz" снялся с якоря и в сопровождении эскадренных миноносцев "Friedrich Inn", "Hermann Schoemann" и Z-25 покинул Фэттен-фьорд. "Admiral Scheer" пришлось оставить в Тронхейме, так как его скорость была слишком мала для совместных действий с флагманом. Эсминец "Paul Jacobi", миноносцы Т-5 и Т-12 сопровождали отряд до острова Викна — в 20:10 они легли на обратный курс. Первая операция германского надводного флота против северных конвоев началась.
В полдень 5 марта конвой PQ-12 был обнаружен разведывательным самолетом FW-200 "Кондор" 1-й группы KG 40 примерно в 70 милях южнее острова Ян-Майен. Сразу после получения радиограммы, командование флота запросило разрешения Гитлера на выход "Tirpitz" в море для перехвата конвоя. Командовать операцией поручили вице-адмиралу Циллиаксу, который прибыл на борт линкора утром 6 марта. Около 11 часов "Tirpitz" снялся с якоря и в сопровождении эскадренных миноносцев "Friedrich Inn", "Hermann Schoemann" и Z-25 покинул Фэттен-фьорд. "Admiral Scheer" пришлось оставить в Тронхейме, так как его скорость была слишком мала для совместных действий с флагманом. Эсминец "Paul Jacobi", миноносцы Т-5 и Т-12 сопровождали отряд до острова Викна — в 20:10 они легли на обратный курс. Первая операция германского надводного флота против северных конвоев началась.
Выход "Tirpitz" не остался незамеченным. В 19:40 британская субмарина "Seawolf" (лейтенант Райкес) обнаружила немецкий отряд на выходе из Тронхеймс-фьорда и доложила об одном линкоре или тяжелом крейсере. Адмирал Тови получил это сообщение после полуночи. В это время суда PQ-12 столкнулись с тяжелыми льдами и повернули на юго-восток, держа курс прямо на мыс Нордкап. Силы прикрытия находились в 200 милях южнее, следуя на север на соединение с конвоем.
 К утру погода заметно ухудшилась, поднялось волнение, повлекшее ряд повреждений и вызвавшее повышенный расход топлива на германских эсминцах. Обе стороны лишились возможности вести воздушную разведку, между тем, для каждой из них ситуация оставалась запутанной. Циллиакс даже не знал, что неподалеку находится эскадра противника и не ожидал встречи с превосходящими силами, так как ранее прикрытие конвоев осуществлялось лишь крейсерами. Около 10 часов адмирал отправил эсминцы на поиск в северозападном направлении, сам же "Tirpitz" находился к западу от них. В это время конвой PQ-12 находился в 75 милях севернее и двигался курсом NO, поэтому корабли Циллиакса оказались далеко за кормой от него.
К утру погода заметно ухудшилась, поднялось волнение, повлекшее ряд повреждений и вызвавшее повышенный расход топлива на германских эсминцах. Обе стороны лишились возможности вести воздушную разведку, между тем, для каждой из них ситуация оставалась запутанной. Циллиакс даже не знал, что неподалеку находится эскадра противника и не ожидал встречи с превосходящими силами, так как ранее прикрытие конвоев осуществлялось лишь крейсерами. Около 10 часов адмирал отправил эсминцы на поиск в северозападном направлении, сам же "Tirpitz" находился к западу от них. В это время конвой PQ-12 находился в 75 милях севернее и двигался курсом NO, поэтому корабли Циллиакса оказались далеко за кормой от него.
В полдень 7 марта, как и было намечено, караваны встретились и разошлись контркурсами. Часом позже Флот метрополии, находившийся в 75 милях отточки рандеву, повернул на юго-запад, совершенно не подозревая, что "Tirpitz" находится всего в 60 милях на юго-восток и полным ходом идет навстречу британской эскадре. Двигаясь на север, немцы пересекли линию курса обоих конвоев, пройдя в 60 милях за кормой PQ-12 и в 50 милях впереди QP-8. Лишь в 15:45 "Friedrich Inn" заметил отставшую "Ижору". На ее потопление немецким эскадренным миноносцам потребовались полтора часа!
 Покончив с судном, Циллиакс возобновил поиск конвоев, но вскоре отказался от него из-за недостатка топлива на эсминцах. Вечером "Friedrich Inn" ушел на дозаправку в Тромсё. Попытка перекачки нефти на "Hermann Schoemann" и Z-25 из цистерн линкора провалилась ввиду сильной качки и обледенения. В 4 часа утра 8 марта Циллиакс был вынужден отправить в Тромсё оба оставшихся миноносца.
Покончив с судном, Циллиакс возобновил поиск конвоев, но вскоре отказался от него из-за недостатка топлива на эсминцах. Вечером "Friedrich Inn" ушел на дозаправку в Тромсё. Попытка перекачки нефти на "Hermann Schoemann" и Z-25 из цистерн линкора провалилась ввиду сильной качки и обледенения. В 4 часа утра 8 марта Циллиакс был вынужден отправить в Тромсё оба оставшихся миноносца.
Получив сигнал бедствия с "Ижоры", адмирал Тови решил, что теперь немецкий линкор вернется в базу и развернул соединение на OSO, но вскоре из Адмиралтейства ему передали, что "Tirpitz" остается в море и может находиться восточнее о. Медвежий. В 19:32 Флот метрополии лег на курс 40°, чтобы следовать за конвоем. Через час Тови отделил шесть эсминцев, чтобы те продвинулись на юго-восток, а затем произвели поиск в северном направлении. Эсминцы выполняли приказ до 6 часов 8 марта, но это ничего не дало. В полночь Тови окончательно утвердился во мнении, что "Tirpitz" возвращается в базу, и повернул на юг, чтобы утром иметь возможность нанести по нему удар самолетами с "Victorious". Однако погода оставалась нелетной, поэтому в 04:00 британская эскадра повернула на запад и направилась к берегам Исландии.
Вместе с тем, Циллиакс еще не оставил надежду настичь свою жертву. На рассвете 8 марта "Tirpitz" находился в 150 милях к югу от о. Медвежий и двигался на север. Конвой PQ-12 в это время был в 80 милях юго-западнее Медвежьего и также шел на север. В 10:45, так и не обнаружив судов, оставшихся к северу, "Tirpitz" повернул на запад.
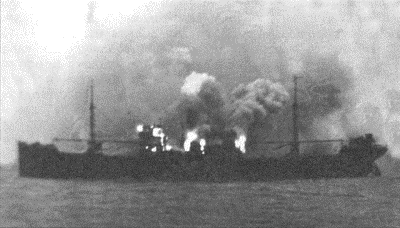 В 18:16, вскоре после того, как линкор развернулся почти на 180°, пришла радиограмма от командования группы "Норд", в которой сообщалось, что конвой мог повернуть домой еще три дня назад, сразу после обнаружения. В итоге Циллиакс, на которого ложилась ответственность за операцию, в 20:25 окончательно прекратил поиск и пошел на встречу со своими эсминцами к Вест-фьорду.
В 18:16, вскоре после того, как линкор развернулся почти на 180°, пришла радиограмма от командования группы "Норд", в которой сообщалось, что конвой мог повернуть домой еще три дня назад, сразу после обнаружения. В итоге Циллиакс, на которого ложилась ответственность за операцию, в 20:25 окончательно прекратил поиск и пошел на встречу со своими эсминцами к Вест-фьорду.
К наступлению ночи Флот метрополии находился в 400 милях западнее Лофотенских островов. В 17:30 Тови получил радиограмму Адмиралтейства, в которой сообщалось, что "Tirpitz" еще может находиться в районе Медвежьего, поэтому в 18:20 адмирал развернул эскадру на северо-восток. После этого он вышел на связь, надеясь, что немцы в случае перехвата его сообщения поймут, что британские линкоры охотятся за "Tirpitz", и отзовут его. Позже Адмиралтейство сообщило Тови данные радиоразведки, из которых следовало, что "Tirpitz" идет на юг, поэтому в 02:43 9 марта адмирал развернул свои корабли на юго-восток, чтобы отрезать его от баз, и приказал "Victorious" готовить к вылету разведчики и ударную группу.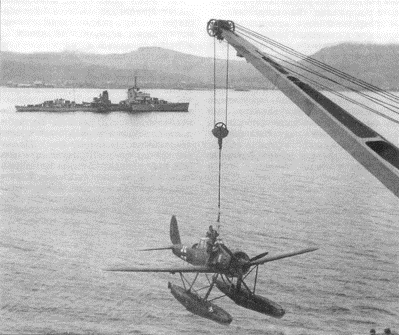
В 6:40 с авианосца поднялись 6 "Альбакоров", чтобы осмотреть сектор между 105 и 150 градусами на дальность 155 миль. Не дожидаясь результата поиска, спустя 50 минут стартовала ударная группа — 12 вооруженных торпедами "Альбакоров" 817-й и 832-й эскадрилий под командованием лейтенант-коммандера У. Дж. Лукаса. В 08:02 один из самолетов-разведчиков обнаружил "Tirpitz" с незадолго присоединившимся к нему эсминцем "Friedrich Inn" в 60 милях к западу от устья Вест-фьорда. Немецкие корабли 28-узловым ходом шли к Тронхейму. Лукас перехватил сообщение о контакте и развернул ударную волну, ведя ее на высоте 150 м против сильного южного ветра.
 В то же время разведывательный "Альбакор" был обнаружен "Tirpitz". В 8:30 с него подняли в воздух два бортовых "Arado", которым предстояло выступить в роли истребительного прикрытия (им удалось повредить один из преследовавших корабль самолетов). Сам линкор круто развернулся к берегу, но его маневр не укрылся от бдительных англичан. Одновременно Циллиакс затребовал по радио поддержку авиации, но, как выяснилось впоследствии, его запрос достиг аэродрома в Будё только спустя два с половиной часа, когда все было кончено.
В то же время разведывательный "Альбакор" был обнаружен "Tirpitz". В 8:30 с него подняли в воздух два бортовых "Arado", которым предстояло выступить в роли истребительного прикрытия (им удалось повредить один из преследовавших корабль самолетов). Сам линкор круто развернулся к берегу, но его маневр не укрылся от бдительных англичан. Одновременно Циллиакс затребовал по радио поддержку авиации, но, как выяснилось впоследствии, его запрос достиг аэродрома в Будё только спустя два с половиной часа, когда все было кончено.
В 8:42 ударная группа заметила "Tirpitz" по пеленгу 140° на расстоянии 20 миль. Лукас решил набрать высоту и укрыться в облаках, чтобы незаметно обогнать линкор. Однако из-за сильного встречного ветра скорость сближения не превышала 40 узлов, поэтому торпедоносцам потребовалось полчаса, чтобы только поравняться с противником. В 09:17, когда "Альбакоры" были прямо над линкором, он внезапно появился в разрывах туч. Командир ударной волны понял, что внезапность утрачена, и приказал немедленно атаковать.
Первое звено 832-й эскадрильи прошло параллельно левому борту корабля, развернулось вправо и сбросило торпеды с расстояния 7,5 кбт практически под прямым углом. Многочисленные зенитки "Tirpitz" тут же открыли плотный огонь, а через минуту линкор круто повернул влево (Именно в этот момент на мостике "Tirpitz" произошел инцидент между Топпом и Циллиаксом, пытавшимся отдать команду рулевому о повороте "через голову" командира корабля.). Второе звено сбрасывало торпеды с расстояния в милю по уже уходящей цели. Оба звена 817-й эскадрильи атаковали через 4 минуты, описав широкую дугу с правого борта. Они сбросили свои торпеды еще менее организованно, а зенитный огонь "Tirpitz" становился все более яростным — по одному самолету каждого звена были сбиты на подходе. Все торпеды прошли мимо, хотя, по словам германского историка Й. Бреннеке, адмирал Циллиакс был уверен, что линкор получил как минимум два попадания, но обе торпеды не взорвались. Англичане списали неудачу на неопытность и необученность пилотов, не отрабатывавших совместные действия в скоординированной атаке.
Так или иначе, "Tirpitz" не пострадал, не считая трех раненых в результате пулеметного обстрела. При отражении налета линкор израсходовал 30 150-мм, 345 105-мм, 897 37-мм и 3372 20-мм снарядов — изрядно на два сбитых самолета, особенно учитывая то, что на один из них претендовали зенитчики "Friedrich Inn".
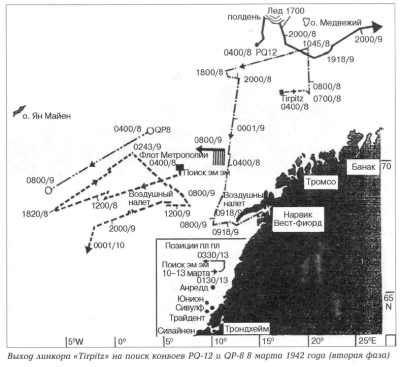 В полдень "Tirpitz" прошел узкость Москенес и взял курс на север. В 15:30 к нему присоединились два других эсминца. Спустя полтора часа линкор бросил якорь в бухте Боген, неподалеку от Нарвика.
В полдень "Tirpitz" прошел узкость Москенес и взял курс на север. В 15:30 к нему присоединились два других эсминца. Спустя полтора часа линкор бросил якорь в бухте Боген, неподалеку от Нарвика.
Первая боевая операция "Tirpitz" оказалась и самой продолжительной в его карьере, однако в Берлине ее результатами остались недовольны. Гросс-адмирал Редер направил Гитлеру рапорт, в которой указывал: "Эта операция показывает слабость наших морских сил на северном театре". Особенно раздражало его отсутствие эффективной воздушной поддержки, что лишило линкор необходимых разведданных и едва не привело к его гибели. При наличии у англичан авианосцев это становилось особенно опасным. Именно британские авианосцы Редер требовал сделать главными целями Люфтваффе. Как отмечает британский историк Д. Ирвинг, "у немецких моряков возник "комплекс авианосца" — страх перед неожиданным нападением с воздуха, сказавшийся позже на всех операциях крупных надводных кораблей".
Неудачная охота линкора "Tirpitz"
А.Г. Уваров, Гангут № 45, 2007
А.Г. Уваров, Гангут № 45, 2007
Когда сведения о росте поставок военного снаряжения и его складировании в мурманском порту северными конвоями на протяжении зимы 1941 — 1942 года стали известны верховному командованию Рейха, это породило у немцев опасения, что союзники начали подготовку крупной весенней десантной операции в поддержку северного фланга советско-германского фронта.
Поэтому немцы решили сосредоточить достаточно крупную группу тяжелых надводных кораблей в водах северной Норвегии. Во исполнение этого решения два линейных корабля, "Scharnhorst" и "Gneisenau", вместе с тяжелым крейсером "Prinz Eugen" вышли из Бреста, в ночь с 12 на 13 февраля 1942 года успешно форсировали Английский канал и направились в Вильгельмсхафен и Брунсбюттель.
Однако оба линейных корабля подорвались на минах у берегов Дании. "Gneisenau", кроме того, получил серьезные повреждения во время налета английской авиации и вышел из строя до конца войны, a "Scharnhorst" оказался поставленным в длительный ремонт. Таким образом, 20 февраля в воды северной Норвегии, курсом на Берген, вышли только тяжелые крейсеры "Prinz Eugen" и "Admiral Scheer", в сопровождении трех эсминцев, которые уже на следующий день после полудня обнаружил английский самолет-разведчик.
По данным авиаразведки, 22 февраля оба крейсера уже находились на якорной стоянке в Гримстад-фьорде, к югу от Бергена. На следующий день, когда эта группа кораблей подходила к каналу, ведущему к Тронхейму, английская подводная лодка "Trident" торпедировала и серьезно повредила "Prinz Eugen", но ему все-таки удалось вернуться своим ходом до места, и он вступил в строй только в октябре, после длительного летнего ремонта.
Все неприятности, перечисленные выше, существенно повлияли на планы главнокомандующего ВМФ Германии, гросс-адмирала Э. Редера использовать новую группировку своих тяжелых кораблей для активных атакующих действий против арктических конвоев. Командующий британским Флотом Метрополии, адмирал сэр Д. Тови, оценивая свои возможности, также рассматривал сложившуюся ситуацию с некоторым опасением. Теми силами, которые находились в его распоряжении, он не мог одновременно предотвратить прорыв линкора "Tirpitz" в Северную Атлантику и в то же время обеспечить эффективную защиту шедших в СССР и обратно конвоев от атаки немецких надводных кораблей.
Чтобы обеспечить наилучшее использование своих тяжелых кораблей и единственного находившегося в его распоряжении авианосца, Д. Тови отдал распоряжение следующей паре конвоев PQ-12 и QP-8 выйти одновременно, первому — из Рейкьявика (Исландия), а второму — из Мурманска. Конвои состояли из 17 и 15 транспортов соответственно и вышли в море вместе с кораблями эскорта 1 марта. Самолеты Королевских ВВС обеспечили воздушное прикрытие конвоя PQ-12 до подхода судов в район Тронхейма.
3 марта из Хваль-фьорда в море вышла эскадра дальнего прикрытия PQ-12 в составе линейного крейсера "Renown" (флагман), линкора "Duke of York", легкого крейсера "Kenya" и шести эсминцев под командованием вице-адмирала А. Т. Б. Куртиса. Днем позже покинули Скапа-Флоу главные силы Флота Метрополии адмирала Д. Тови: линейный корабль "King George V" (флагман), авианосец "Victorious", тяжелый крейсер "Berwick" и шесть эскадренных миноносцев, чтобы встретится с остальными силами эскорта. Соединение двух британских эскадр состоялась 6 марта в 200 милях от о. Ян-Майен.
Таким образом, адмирал Д. Тови намеревался обеспечить патрулирование своими кораблями вдоль линии, проходящей на расстоянии от 50 до 100 миль к югу от маршрута движения конвоев PQ-12 и QP-8 во время их расхождения друг с другом.
Несколько ранее, в полдень 5 марта, немецкий самолет-разведчик Fw-200 "Kondor" обнаружил конвой PQ-12 в 70 милях юго-восточнее о. Ян-Майен и на следующий день на его перехват, в 13 ч 15 мин вышел из Фэттен-фьорда в море линкор "Tirpitz" под флагом вице-адмирала О. Циллиакса в сопровождении эскадренных миноносцев Z-25, "Hermann Schoemann" и "Friedrich Inn" (Эта операция германского флота носила название "Sportpalast"). В это время четыре немецкие подводные лодки находились на патрулировании в районе к западу от о. Медвежий и располагались в линию под прямым углом к предполагаемому маршруту движения транспортов.
Вице-адмирал О. Циллиакс не проявил большой озабоченности по поводу обнаружения вечером того же дня выхода его кораблей подводной лодкой "Seawolf" (командир лейтенант Райкес) и давшей об этом сообщение в эфир. Правда, это радиопослание Д. Тови получил с опозданием лишь в ночь с 6 на 7 марта.
Кроме одного-единственного доклада от самолета-разведчика, О. Циллиакс не получал никакой другой информации, и, ничего не подозревая, направился прямо в сторону значительно превосходящих британских сил. Получив радиодонесение с подводной лодки "Seawolf", адмирал Д. Тови, эскадра которого находилась на расстоянии 200 миль к югу от конвоя PQ-12, приказал всем своим кораблям идти полным ходом на сближение с ним, а авианосцу "Victorious" — подготовить самолеты к вылету, чтобы на рассвете провести поиск противника в южном направлении. И если бы нелетная погода, "Tirpitz" непременно удалось бы обнаружить с воздуха еще до появления его в пределах видимости обоих конвоев.
В ночь с 6 на 7 марта конвой PQ-12 наткнулся на ледовые заторы, и один из эскортных миноносцев получил серьезные повреждения. Поэтому командир эскорта приказал изменить курс его движения на юго-восток, чтобы выйти на чистую воду. Снежные заряды и плохая видимость мешали не только авианосцу "Victorious", но и линкору "Tirpitz" поднять в воздух свои самолеты. Поэтому Циллиаксу оставалось полагаться только на приблизительную оценку позиции конвоя PQ-12, которая была сделана им с существенной ошибкой.
7 марта в 10 ч он приказал своим эскадренным миноносцам начать поиск в северо-западном направлении на пути ожидаемого маршрута движения транспортов, а сам на борту "Tirpitz" двинулся на запад. В это время PQ-12 находился в 75 милях к северу от него и со скоростью 8 уз вновь начал двигался курсом на северо-восток. В итоге немецкие эсминцы прошли по корме каравана.
В полдень оба конвоя разошлись на контр-курсах. Адмирал Д. Тови, в это время находился приблизительно в 75 милях к юго-западу от них, повернул в этом же направлении, не зная о том, что "Tirpitz", находившийся 60 милях юго-восточнее конвоя, идет на полном ходу ему навстречу. Немецкий линкор прошел примерно в 60 милях также по корме PQ-12 и в 50 милях впереди конвоя QP-8 и к 16 ч 30 мин оказался южнее обоих, а три немецких эсминца прошли почти рядом с QP-8, но его не заметили.
Тем временем советский лесовоз "Ижора" (2815 брт), приписанный в начале войны к Мурманскому пароходству, отставший от конвоя QP-8 из-за неисправности машины и оказавшийся к северу от него, был обнаружен противником юго-западнее о. Медвежий. Вице-адмирал О. Циллиакс приказал ему застопорить ход и запретил выход в радиоэфир. Однако капитан судна В.И. Белов не выполнил приказ и послал радиограмму: "Gunned, gunned ijora gunned, rrrr de upeg 7235 № 1050 E ijora", с указанием своих координат, что демаскировало пребывание германской эскадры в море. Естественно, ее тут же перехватили английское Адмиралтейство и советская радиоразведка.
Приняли ее и на линкоре "King George V", но, к сожалению, полученные координаты оказались недостаточно полными. В 17 ч радиолокационная станция линкора по пеленгу на радиопередатчик "Tirpitz" уточнила его место, и адмирал Д. Тови срочно изменил свой курс на восток. Вскоре после этого он развернулся на северо-восток и вышел на место, откуда отправил своих шесть эскадренных миноносцев с приказанием прочесать весь район к юго-востоку, чтобы найти немецкий линкор.
Сам же лесовоз "Ижора" был потоплен со всем экипажем (34 человека) артиллерийским огнем с эсминца "Friedrich Inn" в точке с координатами: 72° 35" N, 10° 50" E. Правда, на это немецким морякам потребовалось целых полтора часа. Не напорись противник на отставший пароход — сомневаться не приходилось — германская эскадра догнала бы свою цель и разгромила конвои.
В это время Адмиралтейство сообщило адмиралу, что по данным разведки корабли противника решили произвести поиск конвоев в районе к востоку от о. Медвежий, а также то, что О. Циллиакс даже не подозревает о присутствии кораблей Флота Метрополии в своей непосредственной близости. Получив эту информацию, Д. Тови изменил свой план, задержал отправку эсминцев и, оставив их в составе своей ударной группы, снова пошел на сближение со своими конвоями. В 19 ч 40 мин на "King George V" взяли еще один пеленг на радиопередающую станцию "Tirpitz", идущего курсом на юг полном ходом.
Для уточнения обстановки адмирал Д. Тови через 20 мин приказал шести своим эсминцам занять позицию в 150 милях к юго-востоку, а затем непрерывно прочесывать весь район до 6 ч утра в северном направлении на две мили в сторону. В случае отсутствия противника им надлежало вернуться в Сейдис-фиорд, на восточном побережье Исландии, для заправки топливом. Приблизительно в то же самое время еще двум другим эсминцам также потребовалось вернуться в Исландию для пополнения запасов топлива. Таким образом, с "King George V" остался только один эскадренный миноносец.
Топливо подходило к концу и у германских эсминцев, поэтому после завершения поиска конвоя они вернулись к линкору "Tirpitz". Один из них ("Friedrich Inn") О. Циллиакс отправил обратно в Тромсё на заправку топливом, а с двумя другими пошел на восток, намериваясь на следующий день, 8 марта, в дневное время вновь начать поиск транспортов. Однако в 4 ч утра он также был вынужден отпустить оба оставшихся эсминца для пополнения запасов топлива, поскольку его перекачка с линкора в условиях сильной качки и обледенения сорвалась. В 7 ч "Tirpitz" взял курс на север, имея намерение выйти на пересечение предполагаемого маршрута движения конвоя, который в этот момент находился в 70 милях на юго-запад от него. В это время конвой PQ-12 получил приказание от Адмиралтейства обойти о. Медвежий с севера и в дальнейшем продолжать движение в северном направлении. Тем временем "Tirpitz", так и не обнаружив его, в 10 ч 45 мин вновь повернул на запад, предполагая, что он обогнал желанную добычу.
Вскоре после полудня конвой PQ-12 вновь натолкнулся на ледяные торосы и был вынужден повернуть на юго-восток, а затем на юг, находясь в это время примерно в 60 милях от "Tirpitz". Уже вторично германский флагман близко разошелся с кораблями конвоя и упустил свою добычу.
А в это время адмирал Д. Тови на борту линкора "King George V" с кораблями сопровождения находился в 500 милях на юго-западе, с намерением обеспечить прикрытие конвоя QP-8 в случае атаки его немецкими кораблями (схема). Поскольку никаких новых радиопереговоров между ними перехватить не удалось, Д. Тови пришел к заключению, что его противник прекратил свою охоту за конвоями и во главе со своим флагманом возвращается в свою базу. Исходя из этих соображений, Д. Тови направился в район Лофотенских островов, где находился авианосец "Victorious", готовый поднять в воздух свои самолеты для налета на "Tirpitz".
Однако в 17 ч 30 мин Адмиралтейство сообщило ему, что по данным разведки немецкие корабли все еще занимаются поиском конвоя в районе к югу от о. Медвежий. Тогда ровно через час Д. Тови развернул свои корабли и взял курс на северо-восток.
В военное время в ходе боевых операций кораблями не принято нарушать радиомолчание. Однако в ряде случаев старший корабельный офицер может отступить от этого правила. В это время тяжелые английские корабли, находясь в водах, кишащих немецкими подводными лодками, не имели достаточного воздушного прикрытия. Все это вызывало у Д. Тови определенную обеспокоенность, но он надеялся, что нарушив радиомолчание, чтобы ознакомить Адмиралтейство с оперативной обстановкой в своем регионе и своими будущими намерениями, даст немцам возможность перехватить это сообщение. Узнав же о присутствии английской эскадры, они должны были отозвать "Tirpitz" из района военных действий. Все это обеспечило бы большую безопасность плавания конвоям и могло вывести "Tirpitz" на дистанцию дальности полета самолетов авианосца "Victorious".
8 марта в 20 ч О. Циллиакс, так и не обнаружив во время прочесывания района южнее о. Медвежий никаких кораблей противника, решил прекратить поиск и вернуться на свою базу. На этот раз британская воздушная разведка вновь обнаружила изменение курса немецких кораблей, и Адмиралтейство проинформировало Д. Тови об этом. На следующий день в 2 ч 40 мин он взял курс на юго-восток в надежде перехватить "Tirpitz", предупредив авианосец "Victorious" быть готовым поднять свои самолеты в воздух для поиска немецкого линкора и на рассвете вывести на него свои ударные силы — самолеты-торпедоносцы.
Так как немецкие корабли на полном ходу следовали в свою базу, а погода разгулялась, и видимость значительно улучшились, то в 6 ч 40 мин "Victorious" поднял в воздух шесть самолетов-разведчиков "Albacore". Вслед за ними, через 50 мин с его палубы взлетели 12 "Albacore"-торпедоносцев под командованием лейтенант-коммандера У.Дж. Лукаса. Перспектива найти "Tirpitz" и шансы нанести по нему торпедный удар оценивались достаточно высоко. Перед подъемом самолетов в воздух Д. Тови послал своим летчикам ободряющую радиограмму следующего содержания: "Вам предоставляется прекрасный шанс, который должен привести к отличным результатам. Да хранит вас Бог".
Когда "Tirpitz" находился уже в 60 милях к западу от входа в Вест-фьорд и направлялся в сторону Тронхейма, его наблюдатели на фок-мачте в 8 ч заметили появление вражеского самолета, идентифицированного ими как английский "Albacore". Это как раз и был тот самый воздушный разведчик, обнаруживший "Tirpitz" вместе с незадолго до того присоединившимся к нему эсминцем "Friedrich Inn" и сообщивший об этом Д. Тови. Будучи обнаруженным, немецкий линкор увеличил ход, поднял в воздух два своих бортовых гидросамолета "Arado" 196A (им удалось повредить один из британских самолетов) и начал менять курс на восток. Кроме того, О. Циллиакс запросил по радио прислать на помощь истребители Люфтваффе, которые базировались на аэродроме в Будё.
В 8 ч 42 мин английские торпедоносцы, подошедшие с кормы по курсу линкора, увидели его в лучах восходящего солнца на расстоянии 20 миль. Дул встречный ветер, который мешал им обогнать идущий со скоростью 28 уз "Tirpitz" и занять удобную для атаки позицию впереди от цели. При выходе на эту позицию самолеты поначалу прикрывались небольшой облачностью, но в момент, когда они пролетали над линкором, в облаках образовался разрыв, и они были обнаружены немцами. Преимущество внезапной атаки пропало, но, тем не менее, командир эскадрильи дал команду атаковать цель.
Все небо покрылось вспышками от разрывов снарядов. Заградительный огонь, поставленный зенитной артиллерией линкора "Tirpitz" против атакующих самолетов, был очень плотным. Однако англичане с фанатическим упорством продолжали начатую атаку. Огромный корабль начал резко менять свой курс, поворачивая то в одну, то в другую сторону, чтобы избежать попадания торпед, которые шли на него с разных сторон.
Вся атака продолжалась всего девять минут. В итоге два самолета были сбиты (по одному в каждом звене), а оставшиеся десять вернулись на авианосец. "Tirpitz" продолжал идти прежним курсом, не получив серьезных повреждений и не снижая хода. И хотя командир линкора, капитан цур зее К. Топп, во время этого воздушного налета управлял кораблем весьма искусно, однако при больших размерах линкора и его неповоротливости, казалось бы, избежать попаданий торпед было просто невозможно. Не потому ли О. Циллиакс считал, что в "Tirpitz" попала одна или две торпеды, которые не взорвались. Возможно, он был прав. Случаи несрабатывания взрывателей боевых зарядных отделений торпед являлись довольно частым явлением и в английском, и в немецком флотах. Кроме того, если торпеда сброшена в воду достаточно близко к цели, она не сможет пройти нужного расстояния для установки взрывателя в боевое положение или не успеет выйти на заданную глубину. Но что бы там ни было, факт остается фактом: "Tirpitz" остался неповрежденным.
В полдень немецкий линкор прошел узкость Москенес и повернул на север. В 15 ч 30 мин к нему присоединились два других эскадренных миноносца, а спустя полтора часа "Tirpitz" стал на якорь в бухте Боген, недалеко от Нарвика.
С точки зрения адмирала Д. Тови, неудача торпедной атаки и всей операции по перехвату и потоплению линкора "Tirpitz" в целом явилась несчастливым завершением длительной "игры в жмурки", которую ему пришлось вести с очень серьезным противником. Как уже упоминалось, только одно присутствие этого немецкого корабля в водах северной Норвегии оказывало очень большое влияние на все операции по проводке северных конвоев, которые теперь всегда нужно будет прикрывать силами тяжелых кораблей и авианосцев.
Итоги проведенной операции породили чувство неудовлетворенности и у противной стороны. В целом охота за конвоями PQ-12 и QP-8 оказалась неудачной и, если бы на пути германской эскадры не оказался отставший лесовоз "Ижора", то ее с полным основанием следовало отнести к разряду провальных. В данном случае полностью подтвердилась мудрость старой русской пословицы: "За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь".
Адмирал Э. Редер пожаловался Гитлеру на слабость германских военно-морских сил в арктических водах, на угрозу со стороны британских авианосцев и на неадекватность своих военно-воздушных сил, что позволяло британским кораблям действовать в прибрежных водах Норвегии безнаказанно. Отсутствие воздушной разведки являлось, по его мнению, главной причиной неудачной попытки линкора "Tirpitz" обнаружить и разгромить конвои.
Фюрер пообещал переговорить с рейхсмаршалом Г. Герингом об увеличении численности самолетов Люфтваффе в Норвегии и одобрил предложение о формировании эскадры тяжелых кораблей, состоящей из линкоров "Tirpitz" и "Scharnhorst", авианосца "Graf Zeppelin" (когда он будет готов), двух тяжелых крейсеров и более десятка эскадренных миноносцев. Однако эти проекты удалось реализовать лишь частично. В частности, достроить "Graf Zeppelin" до конца войны так и не удалось.
 Под бомбами в Тронхейме, 03 - 04.1942
Под бомбами в Тронхейме, 03 - 04.1942
Стоянка в бухте Боген была необорудованной и незащищенной, поэтому при первой возможности ее следовало покинуть. Вечером 12 марта капитан-цур-зее Топп получил разрешение на выход в море, и в 23 часа "Tirpitz" с эсминцами снялись с якорей и взяли курс на Тронхейм. Плохая погода — бурное море и туман, видимость не превышала мили — хотя и делала работу штурманов настоящим мучением, но надежно прикрыла отряд от вражеских самолетов-разведчиков и подводных лодок. В 9 часов вечера 13 марта "Tirpitz" вошел в Тронхеймс-фьорд, а в 22:08 ошвартовался на своей прежней стоянке в Фэтнесс-фьорде. Уже на следующий день информация об этом была передана британскому Адмиралтейству агентами-норвежцами, а 18 марта подтверждена воздушной разведкой.
 Угроза, которую представлял линкор, заставляла англичан предпринимать усилия по его уничтожению. Сразу после обнаружения "Tirpitz" в Фэтнесс-фьорде, Бомбардировочное командование приступило к подготовке новых налетов. Первая атака была выполнена в ночь на 31 марта 32 бомбардировщиками "Галифакс" (12 самолетов 35-й эскадрильи с аэродрома Кинлосс и по 10 машин 10-й и 76-й эскадрилий с аэродромов Лоссимут и Тэйн). Задача была исключительно трудной: "Tirpitz" был пришвартован к берегу в узком фьорде, имевшим крутые берега, и был укрыт маскировочными сетями. При получении сигнала "Воздушная тревога" начинали действовать дымзавесчики, и весь фьорд затягивала пелена дыма. Эти меры, вкупе с плохой погодой, полностью сорвали замысел противника. Только один экипаж смог обнаружить цель и сбросить одну 4000-фнт (1800 кг) и четыре 500-фнт (227 кг) бомб, упавших на склоны гор, зато зенитчики сбили 5 бомбардировщиков.
Угроза, которую представлял линкор, заставляла англичан предпринимать усилия по его уничтожению. Сразу после обнаружения "Tirpitz" в Фэтнесс-фьорде, Бомбардировочное командование приступило к подготовке новых налетов. Первая атака была выполнена в ночь на 31 марта 32 бомбардировщиками "Галифакс" (12 самолетов 35-й эскадрильи с аэродрома Кинлосс и по 10 машин 10-й и 76-й эскадрилий с аэродромов Лоссимут и Тэйн). Задача была исключительно трудной: "Tirpitz" был пришвартован к берегу в узком фьорде, имевшим крутые берега, и был укрыт маскировочными сетями. При получении сигнала "Воздушная тревога" начинали действовать дымзавесчики, и весь фьорд затягивала пелена дыма. Эти меры, вкупе с плохой погодой, полностью сорвали замысел противника. Только один экипаж смог обнаружить цель и сбросить одну 4000-фнт (1800 кг) и четыре 500-фнт (227 кг) бомб, упавших на склоны гор, зато зенитчики сбили 5 бомбардировщиков.
 Второй налет Бомбардировочного командования состоялся в ночь на 28 апреля. Планом операции предусматривалось, что первый удар нанесут 11 "Ланкастеров" 44-й и 97-й эскадрилий, идущие на большой высоте. Они должны были отвлечь на себя огонь зенитных батарей и подавить их своими бомбами. Следом должна была атаковать группа из 32 "Галифаксов" 10-й, 35-й и 76-й эскадрилий, которую вел подполковник авиации Беннет. Они должны были проскочить на малой высоте — между отвесными берегами ниже уровня окружающих фьорд гор — и сбросить бомбы и мины Mk.XIX с гидростатическим взрывателем, установленным на глубину 9 м. Предполагалось, что они повредят днище "Tirpitz", а если попадут на берег, то отскочат от горных склонов и скатятся в воду.
Второй налет Бомбардировочного командования состоялся в ночь на 28 апреля. Планом операции предусматривалось, что первый удар нанесут 11 "Ланкастеров" 44-й и 97-й эскадрилий, идущие на большой высоте. Они должны были отвлечь на себя огонь зенитных батарей и подавить их своими бомбами. Следом должна была атаковать группа из 32 "Галифаксов" 10-й, 35-й и 76-й эскадрилий, которую вел подполковник авиации Беннет. Они должны были проскочить на малой высоте — между отвесными берегами ниже уровня окружающих фьорд гор — и сбросить бомбы и мины Mk.XIX с гидростатическим взрывателем, установленным на глубину 9 м. Предполагалось, что они повредят днище "Tirpitz", а если попадут на берег, то отскочат от горных склонов и скатятся в воду.
 Из 43 взлетевших самолетов 32 атаковали цель незадолго до полуночи. Погода была идеальной: чистое небо, яркая луна. "Ланкастерам" удалось добиться полной внезапности — немцы не успели поставить дымовую завесу, когда начали рваться первые бомбы. Однако "Галифаксы" были встречены шквальным огнем, а густой дым затянул бухту так быстро, что экипажи концевых самолетов просто не увидели корабль. Пять бомбардировщиков было сбито, включая самолет самого Беннета (он и его радист сумели добраться до Швеции и вернулись на родину). "Tirpitz" повреждений не получил (Всего было сброшено 20 1800-кг, 20 227-кг и 10 114-кг бомб, а также 44 454-кг мины.), а встревоженные немцы усилили ПВО стоянки.
Из 43 взлетевших самолетов 32 атаковали цель незадолго до полуночи. Погода была идеальной: чистое небо, яркая луна. "Ланкастерам" удалось добиться полной внезапности — немцы не успели поставить дымовую завесу, когда начали рваться первые бомбы. Однако "Галифаксы" были встречены шквальным огнем, а густой дым затянул бухту так быстро, что экипажи концевых самолетов просто не увидели корабль. Пять бомбардировщиков было сбито, включая самолет самого Беннета (он и его радист сумели добраться до Швеции и вернулись на родину). "Tirpitz" повреждений не получил (Всего было сброшено 20 1800-кг, 20 227-кг и 10 114-кг бомб, а также 44 454-кг мины.), а встревоженные немцы усилили ПВО стоянки.
На следующую ночь 34 бомбардировщика (23 "Галифакса", 11 "Ланкастеров") повторили атаку. На этот раз дымовая завеса была поставлена заблаговременно и расстроила все планы. Бомбы и мины, сброшенные вокруг невидимого линкора (18 1800-кг, 23 227-кг и 1 114-кг бомбы, 48 454-кг мин.), снова не причинили ему вреда, а 2 самолета были сбиты.
 Потеряв за месяц 12 самолетов из 107, участвовавших в налетах, но так ничего и не добившись, Бомбардировочное командование в течение долгих 2,5 лет не предпринимало попыток атаковать "Tirpitz".
Потеряв за месяц 12 самолетов из 107, участвовавших в налетах, но так ничего и не добившись, Бомбардировочное командование в течение долгих 2,5 лет не предпринимало попыток атаковать "Tirpitz".
Тем временем немцы продолжали наращивать корабельную группировку в Норвегии. 21 марта в Тронхеймс-фьорд прибыл тяжелый крейсер "Admiral Hipper", 20 мая к эскадре присоединился тяжелый крейсер "Lützow", число эсминцев увеличилось до 10 единиц. Это позволило более рационально распределись силы. В Тронхейме базировались "Tirpitz", "Admiral Hipper", а также 5-я и 6-я флотилии эскадренных миноносцев. Они образовали так называемую 1-ю боевую группу, командование которой принял командующий надводным флотом адмирал Отто Шнивинд (В ряде исторических работ утверждается, что Шнивинд временно заменял Циллиакса в связи с болезнью последнего. В действительности, адмирал Шнивинд занимал пост командующего надводным флотом (Rottenchef) с июня 1941 г. Должность командующего линейными силами (BdS), которую занимал Циллиакс, была упразднена 3 июня 1942 г.; вместо нее вводилась должность командующего крейсерами (BdK), на которую сразу был назначен вице-адмирал Куммец.). Более тихоходные "Lützow" и "Admiral Scheer" вместе с 8-й флотилией эсминцев в конце мая перебазировались дальше на север — в Нарвик. Это соединение именовалось 2-й боевой группой и находилось под началом командующего крейсерами вице-адмирала Оскара Куммеца. Отметим также, что в Нарвике на борту авизо "Grille" размещался штаб адмирала Губерта Шмундта, отвечавшего за борьбу с союзными конвоями.
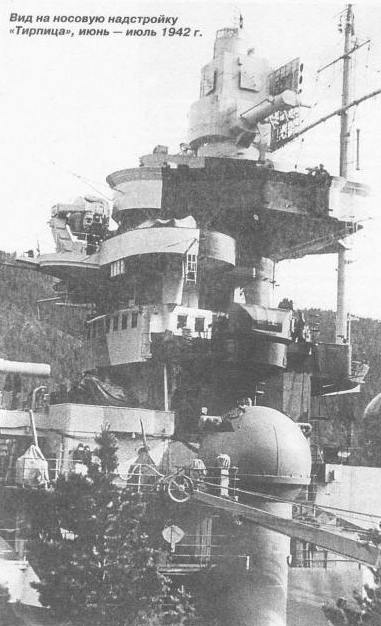 После знаменательного мартовского выхода "Tirpitz" активность германских надводных кораблей на конвойных трассах ограничилась двумя набегами эсминцев. Воздушная разведка оставляла желать лучшего, кроме того, в Северной Норвегии у немцев не имелось достаточных запасов нефти, по причине чего крупные операции надводного флота, не обеспеченные точными разведданными, даже не обсуждались. Тем не менее, план такой операции разрабатывался и его следовало ввести в действие при благоприятном случае. И случай вскоре представился.
После знаменательного мартовского выхода "Tirpitz" активность германских надводных кораблей на конвойных трассах ограничилась двумя набегами эсминцев. Воздушная разведка оставляла желать лучшего, кроме того, в Северной Норвегии у немцев не имелось достаточных запасов нефти, по причине чего крупные операции надводного флота, не обеспеченные точными разведданными, даже не обсуждались. Тем не менее, план такой операции разрабатывался и его следовало ввести в действие при благоприятном случае. И случай вскоре представился.
Операция "Ход конем" (Rösselsprung), 5 - 7.06.1942
 Замысел крупной операции против союзных конвоев впервые был изложен Шнивиндом Редеру во время визита последнею в Тронхейм 30 мая 1942 г. Он предлагал нанести по следующему каравану сокрушительный удар, используя все наличные силы. Идеальным временем проведения операции был июнь: период весенних штормов заканчивался, улучшение погоды давало возможность в полной мере использовать скоростные качества германских эсминцев, установившийся полярный день позволял вести круглосуточную воздушную разведку. В то же время, ледовая обстановка не давала судам отойти от берега дальше, чем на 220—240 миль, что позволяло немецким кораблям нанести удар и отойти в базы задолго до подхода сил дальнего прикрытия конвоя. Наиболее благоприятным для нападения, по мнению Шнивинда, был район к востоку от о. Медвежий.
Замысел крупной операции против союзных конвоев впервые был изложен Шнивиндом Редеру во время визита последнею в Тронхейм 30 мая 1942 г. Он предлагал нанести по следующему каравану сокрушительный удар, используя все наличные силы. Идеальным временем проведения операции был июнь: период весенних штормов заканчивался, улучшение погоды давало возможность в полной мере использовать скоростные качества германских эсминцев, установившийся полярный день позволял вести круглосуточную воздушную разведку. В то же время, ледовая обстановка не давала судам отойти от берега дальше, чем на 220—240 миль, что позволяло немецким кораблям нанести удар и отойти в базы задолго до подхода сил дальнего прикрытия конвоя. Наиболее благоприятным для нападения, по мнению Шнивинда, был район к востоку от о. Медвежий.
1 июня план операции был доведен до Гитлера и нашел одобрение; 4 июня штаб группы "Норд" под руководством ее командующего генерал-адмирала Рольфа Карльса подготовил оперативную директиву. 14 июня Шнивинд закончил разработку оперативного плана операции, получившей название "Ход конем" (Rosselsprung). С получением соответствующего приказа обе боевые группы должны были передвинуться на север на передовые базы: 1-я группа — из Тронхейма в Вест-фьорд, 2-я — из Нарвика к северной оконечности Альта-фьорда. Там обе группы должны были произвести дозаправку своих эсминцев с танкеров и находиться в 24-часовой готовности к выходу. Конвой следовало уничтожить одним стремительным ударом.  В случае, если бы он имел мощный эскорт, то "Tirpitz", "Admiral Hipper" должны были связать корабли охранения боем, предоставив возможность "Lützow" и "Admiral Scheer" расправляться с судами. Сражения с равными или превосходящими силами следовало избегать любой ценой. Особо оговаривался тот пункт, что приказ на выход в море мог быть отдан только с личного одобрения фюрера.
В случае, если бы он имел мощный эскорт, то "Tirpitz", "Admiral Hipper" должны были связать корабли охранения боем, предоставив возможность "Lützow" и "Admiral Scheer" расправляться с судами. Сражения с равными или превосходящими силами следовало избегать любой ценой. Особо оговаривался тот пункт, что приказ на выход в море мог быть отдан только с личного одобрения фюрера.
Ожидаемый конвой PQ-17 из 36 судов покинул Рейкьявик 27 июня. Ближнее прикрытие осуществляла эскадра контр-адмирала Гамильтона, состоявшая из 4 тяжелых крейсеров (британские "London" и "Norfolk", американские "Wichita" и "Tuscaloosa") и трёх эсминцев; дальнее — эскадра адмирала Тови: линкоры "Duke Of Yorck" и "Washington", авианосец "Victorious", крейсера "Nigeria", "Cumberland" и 14 эсминцев. В полдень 1 июля конвой был обнаружен немецким самолетом-разведчиком, тем самым было дано начало одной из самых громких трагедий Второй мировой войны.  Развернувшиеся далее события рассмотрены в исторической литературе весьма подробно, что дает нам возможность не акцентировать на них свое внимание, сосредоточившись на действиях германской эскадры...
Развернувшиеся далее события рассмотрены в исторической литературе весьма подробно, что дает нам возможность не акцентировать на них свое внимание, сосредоточившись на действиях германской эскадры...
Решение о передислокации боевых групп на передовые базы (операция "Мюзик") было принято в Берлине утром 2 июля. Соответствующую радиограмму командующему группой "Норд" в Киль направили в 13:00. В 8 часов вечера "Tirpitz" и "Admiral Hipper" снялись с якорей и в сопровождении пяти эсминцев и двух миноносцев внутренним шхерным фарватером двинулись на север. Нарвикская группа вышла в море четырьмя часами позже, но в 02:45, когда она проходила узким проливом Тьелльсунн, флагманский "Lützow", словно подтверждая свою репутацию невезучего корабля, налетел на камни и серьезно повредил днище. Адмиралу Куммецу пришлось переносить флаг на "Admiral Scheer". Не избежала неудач и тронхеймская группа.  Утром 3 июля при проходе узкости Гимсё на входе в Вест-фьорд три эсминца ("Hans Lody", "Karl Galster" и "Theodor Riedel") один за другим выскочили на не обозначенную на карте подводную скалу и не могли участвовать в операции. Тем не менее, в 18 часов 3 июля, после непродолжительной стоянки в Вест-фьорде, "Tirpitz" и "Admiral Hipper" с оставшейся парой сминцев проследовали в Альта-фьорд. Таким образом, к 10:00 следующих суток там оказалась сосредоточенной вся германская эскадра. Дальнейшему развитию событий мешало отсутствие информации о диспозиции главных сил противника, поскольку "нейтрализация" вражеских авианосцев являлась непременным условием для начала операции.
Утром 3 июля при проходе узкости Гимсё на входе в Вест-фьорд три эсминца ("Hans Lody", "Karl Galster" и "Theodor Riedel") один за другим выскочили на не обозначенную на карте подводную скалу и не могли участвовать в операции. Тем не менее, в 18 часов 3 июля, после непродолжительной стоянки в Вест-фьорде, "Tirpitz" и "Admiral Hipper" с оставшейся парой сминцев проследовали в Альта-фьорд. Таким образом, к 10:00 следующих суток там оказалась сосредоточенной вся германская эскадра. Дальнейшему развитию событий мешало отсутствие информации о диспозиции главных сил противника, поскольку "нейтрализация" вражеских авианосцев являлась непременным условием для начала операции.
Наступал кульминационный момент драмы. Британское Адмиралтейство узнало об исчезновении "Tirpitz" из Тронхейма, и после 21 часа Первый морской лорд адмирал 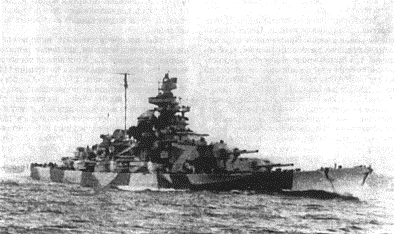 Паунд отдал приказ о роспуске конвоя и отходе крейсерского соединения на запад, сразу же замеченном германской разведкой. Около 7 часов утра 5 июля немецкий самолет-разведчик обнаружил и главные силы, находившиеся в 220 милях к северо-западу от о. Медвежий — в 400 милях от Альта-фьорда или в 800 милях от предполагавшейся встречи "Tirpitz" с конвоем. Руководство войной на море пришло к выводу, что "ожидать активных действий со стороны авианосной группы неприятеля в настоящее время не приходится".
Паунд отдал приказ о роспуске конвоя и отходе крейсерского соединения на запад, сразу же замеченном германской разведкой. Около 7 часов утра 5 июля немецкий самолет-разведчик обнаружил и главные силы, находившиеся в 220 милях к северо-западу от о. Медвежий — в 400 милях от Альта-фьорда или в 800 милях от предполагавшейся встречи "Tirpitz" с конвоем. Руководство войной на море пришло к выводу, что "ожидать активных действий со стороны авианосной группы неприятеля в настоящее время не приходится".
В 11:37 "Tirpitz" (флаг Шнивинда), "Admiral Hipper", "Admiral Scheer" (флаг Куммеца) и эсминцы "Friedrich Inn", "Richard Beitzen", Z-24, Z-27, Z-28 (брейд-вымпел FdZ коммодора Э. Бея), Z-29, Z-30, миноносцы Т-7, Т-15 выбрали якоря и к 15 часам вышли из Альта-фьорда в открытое море.
 Оказавшись в 30 милях от берега, соединение повернуло на восток, развив 24-узловый ход. В это время его обнаружила советская подводная лодка "К-21" (капитан 2 ранга Н.А. Лунин). Идентифицировав "Tirpitz", Лунин принял решение атаковать. Лодке удалось проникнуть в центр вражеского ордера и в 17:01 выпустить по линкору четыре торпеды из кормовых аппаратов. Попаданий достигнуто не было. Немецкие наблюдатели атаку не зафиксировали. В 18:09 с "К-21" отправили сообщение об обнаружении двух линкоров и восьми эсминцев в районе 71 °24', 23°40' O
Оказавшись в 30 милях от берега, соединение повернуло на восток, развив 24-узловый ход. В это время его обнаружила советская подводная лодка "К-21" (капитан 2 ранга Н.А. Лунин). Идентифицировав "Tirpitz", Лунин принял решение атаковать. Лодке удалось проникнуть в центр вражеского ордера и в 17:01 выпустить по линкору четыре торпеды из кормовых аппаратов. Попаданий достигнуто не было. Немецкие наблюдатели атаку не зафиксировали. В 18:09 с "К-21" отправили сообщение об обнаружении двух линкоров и восьми эсминцев в районе 71 °24', 23°40' O
В 18:16 германское соединение было обнаружено самолетом Ил-4 2-го гвардейского смешанного авиаполка ВВС Северного флота. Он передал в эфир радиограмму: "Одиннадцать неизвестных кораблей в районе 7ГЗГ, 27° 10' O Курс 065. Скорость 10 узлов". Примерно в то же время контакт с противником установила британская субмарина "Unshaken" (бортовой номер Р54, командир — лейтенант Уэстмакотт). В течение часа она отчаянно маневрировала, тщетно пытаясь выйти в атаку, а затем всплыла и в 20:29 передала новые данные о движении противника ("Unshaken" не был обнаружен немцами, но около 19:00 на эскадре объявили противолодочную тревогу, что могло быть вызвано только ложным контактом.).
Германские службы радиоперехвата — как береговые, так и на самой эскадре — засекли эти сообщения, что вызвало серьезные опасения. Гросс-адмирал Редер счел, что если операция затянется дольше, чем до 01:00 6 июля, то союзный флот во главе с авианосцем имеет шансы перекрыть пути отхода германским кораблям. В 21:32 адмирал Шнивинд получил приказ прервать операцию.
Около половины четвертого утра следующих суток соединение вошло в лабиринт проливов, ведущих к Альта-фьорду. Дозаправившись там с танкеров, около 18 часов корабли двинулись дальше на юг, но из-за накрывшего фьорды плотного тумана были вынуждены всю ночь простоять на якорях. Лишь к вечеру 7 июля эскадра прибыла в Уфут-фьорд, и "Tirpitz" занял уже знакомую стоянку в бухте Боген.
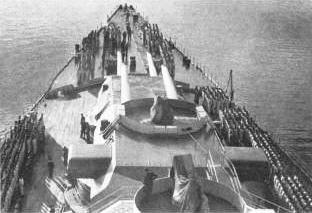 К сожалению, прекращение операции "Рёссельшпрунг" не помогло судам конвоя PQ-17. В течение следующих трех дней немецкие подводные лодки и самолеты устроили им форменное избиение. Из 36 транспортов 23 были потоплены и лишь 11 достигли пункта назначения. "Не выпустив ни одного снаряда, не подойдя к конвою ближе, чем на 300 миль, "Tirpitz" добился одной из самых громких побед на море в этой войне", — подытожил Фрере-Кук.
К сожалению, прекращение операции "Рёссельшпрунг" не помогло судам конвоя PQ-17. В течение следующих трех дней немецкие подводные лодки и самолеты устроили им форменное избиение. Из 36 транспортов 23 были потоплены и лишь 11 достигли пункта назначения. "Не выпустив ни одного снаряда, не подойдя к конвою ближе, чем на 300 миль, "Tirpitz" добился одной из самых громких побед на море в этой войне", — подытожил Фрере-Кук.
Впрочем, немецкие моряки оценивали результаты выхода иначе. По мнению адмирала Шнивинда, надводный флот лишился инициативы и потерпел неудачу, причем не в результате действий союзников, а из-за громоздкости руководящего аппарата и удаленности штабов от театра боевых действий.
Торпедная атака подлодки К-21
Приложение
Приложение
Атака "Tirpitz" советской подводной лодкой К-21 5 июля 1942 г. до сих пор является одним из наиболее дискуссионных эпизодов в истории советского ВМФ периода Великой Отечественной войны. Суть дискуссии обычно сводится к вопросу: поразил командир К-21 капитан 3 ранга Н.А. Лунин "Tirpitz" торпедой или нет? Причем факты зачастую игнорируются, а в качестве аргументов в споре приводятся рассуждения о нечистоплотности немецких моряков при ведении боевой документации — ведь противная сторона факт торпедирования категорически отрицает. Давайте попытаемся, абстрагировавшись от "политических" аспектов, разобрать атаку К-21 с точки зрения тактики и техники.
К-21 вступила в строй Северного флота 10.9.1941. В связи с началом войны ее экипаж не проходил положенного курса боевой подготовки, ограничившись сдачей лишь вступительных задач курса подготовки подводных лодок КПЛ-41. В период с 7.11.1941 по 28.1.1942 под командованием капитан-лейтенанта А.А. Жукова подлодка совершила два боевых похода на вражеские коммуникации у побережья Северной Норвегии, в ходе которых имела 8 боевых столкновений, произвела 4 торпедных и 1 артиллерийскую атаки, 2 минные постановки, потопила норвежский мотобот артиллерийским огнем, а также транспорт и охотник за подводными лодками минным оружием. Тем не менее, действия командира подлодки были оценены командованием как неудовлетворительные, в результате чего новым командиром 4.3.1942 был назначен Герой Советского Союза (звание присвоено указом от 3.4.1942 за успешное командование Щ-421) капитан 3 ранга Н.А. Лунин. Под его командованием весной 1942 г. К-21 совершила один боевой поход (в ходе него совершена одна безуспешная торпедная атака) и еще один выход в море для оказания помощи подводной лодке Щ-402.
18.6.1942 К-21 вышла в четвертый боевой поход для действий на немецких коммуникациях в районе Вардё. Утром 19 июня субмарина подверглась внезапной атаке вражеского гидросамолета. В результате близких разрывов сброшенных им бомб получили повреждения магистраль уравнительной цистерны и кингстон цистерны быстрого погружения. Из-за этого при плавании под водой постоянно нарушалась удифферентованность подлодки.
28 июня в соответствии с планом прикрытия союзного конвоя PQ-17 К-21 заняла позицию севернее острова Рольвсё. За исключением единственного обнаружения днем 1 июля лодка других контактов с противником на новой позиции не имела.
В 16.22 (время московское) 5 июля, когда К-21 находилась в подводном положении, гидроакустиком по носу были обнаружены неясные шумы. Взяв курс на источник шума, вахтенный офицер в 17.00 обнаружил в перископ рубку "подводной лодки" противника, которая, как показало последующее наблюдение, оказалась мостиком одного из двух эсминцев головного охранения германской эскадры. Сразу после обнаружения "субмарины" Лунин взял управление кораблем на себя и объявил торпедную атаку.
Согласно немецким документам в момент обнаружения эскадра шла курсом 30° со скоростью 24 узла. Крупные корабли были выстроены фронтом, слева направо "Admiral Hipper", "Tirpitz", "Admiral Scheer". Впереди них строем фронта двигались семь эсминцев и два миноносца, каждый из которых выполнял незакономерный зигзаг. Ордер ПЛО усиливал поплавковый гидросамолет Не-115.
Торпедная атака осложнялась следующими факторами:
— исключительно хорошими условиями видимости и малым (2—3 балла) волнением, при котором бурун от поднятого перископа мог просматриваться с большого расстояния;
— случайным сближением в начале атаки двух эсминцев и подлодки на дистанцию 20—50 кбт;
— отсутствием у командира К-21 (как и у любого другого командира советского подводного флота) опыта атаки быстро движущихся целей с сильным охранением;
— незнанием Н.А. Луниным истинных возможностей немецкой гидроакустической аппаратуры и противолодочного оружия, и возникшими, как следствие, опасениями за судьбу корабля и экипажа.
Все это заставило осуществлять подъем перископа на весьма короткие промежутки времени, что не позволило организовать удовлетворительного наблюдения за целью. Это, в частности, подтверждается и теми фактами, что один из трех крупных немецких кораблей (по-видимому, наиболее удаленный от К-21 "Admiral Scheer") на протяжении всей атаки так и не был обнаружен, а другой — "Admiral Hipper" — наоборот, опознан как "Admiral Scheer".
Условно атаку К-21 можно разделить на пять фаз:
— 17.00—17.18. Маневрирование для атаки эсминца охранения. Фаза завершилась с момента обнаружения мачт крупных боевых кораблей.
— 17.18—17.36. Выход подлодки на генеральный курс эскадры для атаки носовыми аппаратами со стороны левого борта цели. Фаза завершилась с обнаружением якобы имевшей место смены курса эскадры с 60° на курс 330° (в соответствии с донесением Лунина; немецкими материалами смена курса не подтверждается). Неверные результаты этих наблюдений в конечном итоге привели к тому, что подлодке пришлось производить залп из весьма невыгодного положения — из кормовых торпедных аппаратов на расходящихся курсах.
— 17.36—17.50. Выход К-21 на "новый" генеральный курс эскадры для атаки носовыми аппаратами со стороны правого борта цели. Фаза завершилась с обнаружением "смены курса" эскадры с 330° на старый курс 60°. В результате наблюдения в 17.50 Лунин определил, что лодка оказалась почти прямо по курсу "Tirpitz" (курсовой угол цели 5—7° левого борта) на дистанции 35—40 кбт. Стрельба из носовых аппаратов в этих условиях была невозможна.
— 17.50— 18.01. Уход подлодки с курса "Tirpitz" для атаки кормовыми аппаратами со стороны левого борта цели. При этом около 17.55 К-21 совершила прорыв передовой линии охранения эскадры. Фаза завершилась торпедным залпом.
— 18.01 — 19.05. Выход из атаки — отрыв от эскадры движением контркурсом на глубине 30 м.
Особого внимания заслуживает торпедный залп. Согласно донесению Лунина, он производился из всех четырех кормовых торпедных аппаратов с дистанции 18—20 кбт, временным интервалом 4 с, при угле упреждения 28°, угле встречи 100°. Скорость цели определялась в 22 узла, а ее истинный курс в 60°. Из сопоставления с немецкими материалами известно, что в момент атаки эскадра шла со скоростью 24 узла курсом 90°. Столь значительная погрешность в определении элементов движения цели (ЭДЦ) объяснялась прежде всего тем, что из-за крайне малого времени подъемов перископа определялись командиром подлодки на глаз. Залповая стрельба с временным интервалом обеспечивала перекрытие погрешностей в определении ЭДЦ только в тех случаях, когда ошибка в определении курса не превышала 10°, а в определении скорости — 2 узлов. Следует отметить и то, что в соответствии с действующими таблицами Лунину следовало стрелять с интервалом не в 4, а в 14 секунд. Выбрав меньший интервал, командир, очевидно, старался сократить время нахождения на боевом курсе и быстрее уйти на глубину.
Вторым неблагоприятным для К-21 моментом являлась большая дистанция, с которой производилась атака. Если бы в момент залпа лодка и линкор шли примерно перпендикулярно расположенными относительно друг друга курсами, а дистанция составляла 18—20 кбт, то торпедам предстояло пройти около 18,5—19 кбт. На самом деле из-за грубой ошибки с определением истинного курса цели К-21 и "Tirpitz" шли расходящимися курсами, и угол встречи должен был составить не 100, а около 130°. При этом торпедам необходимо было пройти около 23,8 кбт. Максимальная дальность хода торпед типа 53-38 с той установкой режима, которой стреляла лодка, составляла 4000 м (21,6 кбт). Стрельба с такой дистанции стала прямым следствием неверного выбора боевого курса, что в свою очередь объяснялось той поспешностью, с которой Лунину пришлось менять решение на атаку в 17.50—17.53. Следует подчеркнуть, что введенными в действие приказом НК ВМФ №0219 от 10.3.1942 "Правилами стрельбы торпедами с подводных лодок" стрельба с дистанций 16—20 кбт по движущемуся кораблю при углах встречи свыше 90° запрещалась как бесполезная. Несомненно, что в сложившейся ситуации Лунин был обязан использовать любой шанс, но одного рвения командира мало, чтобы обеспечить успех атаки.
В сумме все допущенные просчеты и погрешности не могли не привести к отрицательному результату — торпеды К-21 должны были затонуть, пройдя предельную дистанцию без пересечения курса цели. Те взрывы, которые слышали на лодке в 18.04, по-видимому, стали результатом срабатывания взрывателей торпед при ударе о каменистое дно после прохождения предельной дистанции, а около 18.30 — взрывами глубинных бомб германских эсминцев, осуществлявших профилактическое бомбометание. Исходя из направления и скорости движения германской эскадры, можно утверждать, что взрывы торпед на дне не могли быть зафиксированы на немецких кораблях ни визуальным, ни гидроакустическим наблюдением. Поэтому об атаке К-21 противник узнал только вечером тех же суток после пеленгования места передачи радиограммы Лунина немецкой радиоразведкой.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что подводной лодке К-21 пришлось действовать в исключительно сложных условиях, а ее экипаж отработал и сдал лишь вступительные задачи КПЛ и имел довольно ограниченный боевой опыт. Несмотря на это, Н.А. Лунин и его подчиненные продемонстрировали большое личное мужество, сумев атаковать крупнейший боевой корабль Кригсмарине, двигавшийся в мощном противолодочном охранении. Это достижение тем более примечательно, если учесть, что ни одной другой советской подлодке не удалось выйти в атаку на боевой корабль размером крупнее эсминца, хотя в некоторых случаях такие возможности имелись.
Начальник отдела Института военной истории МО РФ, кандидат исторических наук М.Э.Морозов.
 В бездействии..., 06.1942 - 08.1943
В бездействии..., 06.1942 - 08.1943
После операции "Ход конем" пребывание "Tirpitz" под Нарвиком затянулось. Бессмысленность времяпрепровождения вызывала в экипаже признаки "жестяной болезни". В августе был отмечен даже случай дезертирства — один из матросов самовольно оставил корабль и пытался добраться до шведской границы, но был пойман и приговорен к расстрелу.
Между тем, "Tirpitz" находился в норвежских водах уже долго и требовал профилактического ремонта. Для его осуществления в Тронхейм прибыла  плавмастерская "Huascaran" с необходимым техническим персоналом. Был сооружен кессон, чтобы заменить руль линкора без постановки в док, тем более, что доков подходящего размера в Норвегии не существовало, а возвращение в Германию было сопряжено с риском. 23 октября "Tirpitz" покинул бухту Боген и перешел на свою прежнюю стоянку в Фэттен-фьорде.
плавмастерская "Huascaran" с необходимым техническим персоналом. Был сооружен кессон, чтобы заменить руль линкора без постановки в док, тем более, что доков подходящего размера в Норвегии не существовало, а возвращение в Германию было сопряжено с риском. 23 октября "Tirpitz" покинул бухту Боген и перешел на свою прежнюю стоянку в Фэттен-фьорде.
 Ждали этого и англичане. Неудачи Бомбардировочного командования заставили испробовать для нейтрализации "Tirpitz" другие средства. Подсказку дали союзники немцев — итальянцы. В декабре 1941 г. они использовали против британских линкоров в гавани Александрии человекоуправляемые торпеды. Летом 1942 г. англичане создали собственный образец такой торпеды, прозванный "Чериотом" (Chariot). Естественно, что первой целью должен был стать "Tirpitz". Доставить к нему торпеды предполагалось на маленьком норвежском рыболовном суденышке. Выбор пал на куттер "Arthur".
Ждали этого и англичане. Неудачи Бомбардировочного командования заставили испробовать для нейтрализации "Tirpitz" другие средства. Подсказку дали союзники немцев — итальянцы. В декабре 1941 г. они использовали против британских линкоров в гавани Александрии человекоуправляемые торпеды. Летом 1942 г. англичане создали собственный образец такой торпеды, прозванный "Чериотом" (Chariot). Естественно, что первой целью должен был стать "Tirpitz". Доставить к нему торпеды предполагалось на маленьком норвежском рыболовном суденышке. Выбор пал на куттер "Arthur".
Норвежский экипаж состоял из 4 человек во главе с Лейфом Ларсеном, экипажи двух "чериотов" состояли из 6 англичан под командованием лейтенанта Брюстера. Операция получила кодовое наименование "Тайтл" (Title).
Утром 26 октября "Arthur" отправился к берегам Норвегии. Вечером следующего дня на горизонте показались горы, 30 октября куттер вошел в Тронхеймс-фьорд и благополучно миновал немецкие патрули. До цели оставалось 10 миль, когда удача отвернулась от диверсантов. При очередном осмотре оказалось, что оба "чернота" оторвались, оставив под килем "Артура" только обрывки тросов. Утром 1 ноября куттер был затоплен. Англичане и норвежцы, кроме одного, попавшего в плен, ушли в Швецию.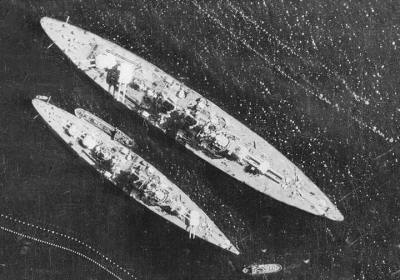
Работы на "Tirpitz" были завершены к 24 января 1943 г., после чего он перебазировался в Лофьорд и до 5 марта занимался послеремонтными пробами механизмов и боевой подготовкой. 21 февраля на корабле сменился командир: вместо произведенного в контр-адмиралы и ставшего шефом кораблестроительного отдела ОКМ Карла Топпа им стал капитан-цур-зее Ганс Майер. В отличие от "технаря" Топпа, у него была репутация теоретика-штабиста, хотя справедливой ее можно назвать лишь отчасти. Хотя еще в 1919 г. в столкновениях с отрядами "спартаковцев" Майер, бывший тогда только кандидатом в офицеры, потерял левую руку, это не помешало ему сделать карьеру, пройдя все ступеньки служебной лестницы. К началу войны он являлся начальником оперативного отдела, затем — начальником штаба военно-морской группы "Вест", был награжден Германским крестом в золоте, а перед назначением на "Tirpitz" в течение года командовал легким крейсером "Köln".
 Тем временем произошли важные события. Германский флот потерпел унизительное поражение в "новогоднем" бою. Эта неудача взбесила Гитлера, и он приказал разоружить все крупные корабли. Не согласный с этим решением гросс-адмирал Редер подал в отставку. 30 января главнокомандующим Кригсмарине стал Карл Дёниц, получивший чин гросс-адмирала. Очень скоро он убедил Гитлера отменить свой поспешный приказ. Более того — группировка военно-морских сил на севере была усилена линкором "Scharnhorst". 19 февраля 1943 г. все находившиеся в Норвегии надводные корабли были сведены в Боевую группу, командование которой принял адмирал Куммец.
Тем временем произошли важные события. Германский флот потерпел унизительное поражение в "новогоднем" бою. Эта неудача взбесила Гитлера, и он приказал разоружить все крупные корабли. Не согласный с этим решением гросс-адмирал Редер подал в отставку. 30 января главнокомандующим Кригсмарине стал Карл Дёниц, получивший чин гросс-адмирала. Очень скоро он убедил Гитлера отменить свой поспешный приказ. Более того — группировка военно-морских сил на севере была усилена линкором "Scharnhorst". 19 февраля 1943 г. все находившиеся в Норвегии надводные корабли были сведены в Боевую группу, командование которой принял адмирал Куммец.
 11 марта "Tirpitz" в сопровождении эсминцев "Karl Galster", "Paul Jacobi", миноносцев "Jaguar" и "Greif" начал переход из Тронхейма в Нарвик, чтобы присоединиться к находящимся там "Scharnhorst" и "Lützow". В ночь на 13 марта отряд прибыл в бухту Боген. 22—23 марта боевая группа в полном составе ("Tirpitz", "Scharnhorst", "Lützow", 6 эсминцев) перешла в Альта-фьорд.
11 марта "Tirpitz" в сопровождении эсминцев "Karl Galster", "Paul Jacobi", миноносцев "Jaguar" и "Greif" начал переход из Тронхейма в Нарвик, чтобы присоединиться к находящимся там "Scharnhorst" и "Lützow". В ночь на 13 марта отряд прибыл в бухту Боген. 22—23 марта боевая группа в полном составе ("Tirpitz", "Scharnhorst", "Lützow", 6 эсминцев) перешла в Альта-фьорд.







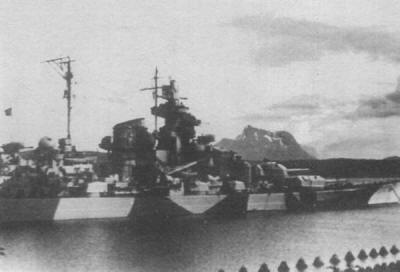

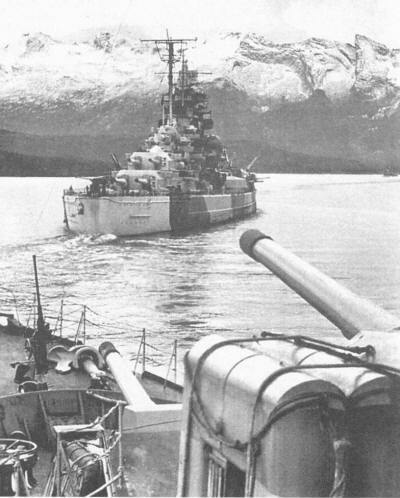




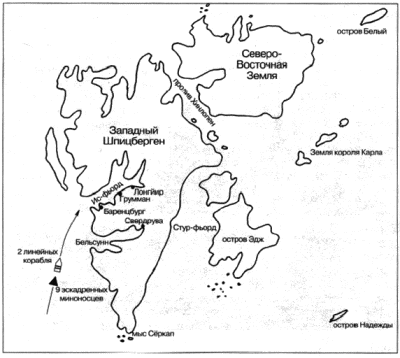 Рейд на Шпицберген, 6 - 9.09.1943
Рейд на Шпицберген, 6 - 9.09.1943
Все лето 1943 года боевая группа провела в Альта-фьорде в полном бездействии, лишь давая повод для очередных нападок критиков военно-морского флота. В создавшихся условиях требовалось проведение пусть даже небольшой, но непременно успешной акции, что дало бы возможность отработать взаимодействие крупнейших кораблей германского флота и поднять дух личного состава.
Такой операцией должен был стать рейд к Шпицбергену. По разработанному в штабе группы "Норд" плану корабли должны были обстрелять немногочисленные населенные пункты и высадить десант, которому ставилась задача разгромить гарнизон и сделать освоенный район архипелага непригодным для дальнейшего использования. Операция получила кодовое наименование "Цитронелла" (по другим данным — "Сицилия").
Вечером 6 сентября эскадра адмирала Куммеца (линкоры "Tirpitz" и "Scharnhorst", тяжелый крейсер "Lützow", эскадренные миноносцы "Erich Steinbrinck", "Hans Lody", "Karl Galster", "Theodor Riedel", "Friedrich Inn", Z-31, Z-27, Z-29, Z-30, Z-33) вышла в море. 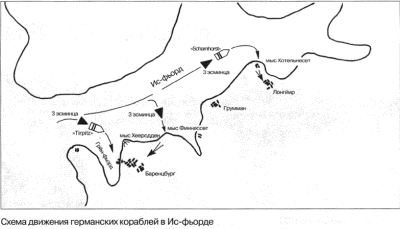 На эсминцах находилось 600 солдат 349-го гренадерского полка. Вскоре "Lützow" вынужден был вернуться из-за неполадок в дизелях, в сопровождение ему были приданы "Paul Jacobi" и "Friedrich Inn", у которых также возникли проблемы с котлами.
На эсминцах находилось 600 солдат 349-го гренадерского полка. Вскоре "Lützow" вынужден был вернуться из-за неполадок в дизелях, в сопровождение ему были приданы "Paul Jacobi" и "Friedrich Inn", у которых также возникли проблемы с котлами.
Путь к Шпицбергену прошел относительно спокойно, если не считать ложной тревоги, вызванной акустиками флагманского корабля. Вскоре после полуночи 8 сентября сигнальщикам открылась южная оконечность архипелага. Обстреляв постройки бывшей норвежской метеостанции на мысе Линней, в 3 часа утра немецкие корабли вошли в Ис-фьорд, где разделились на две группы.
 "Tirpitz" и 4-я флотилия эсминцев (Z-29, Z-31, Z-33) повернули направо, в Грён-фьорд, к расположенному на его берегу поселку Баренцбург — столице архипелага. Сопротивления не ожидалось, однако норвежская береговая батарея открыла точный огонь по германским эсминцам. Появились потери: на Z-29 — 4 убитых и 4 раненых; на Z-31 — соответственно 3 и 1; на Z-33 — 3 и 25. В отместку эсминцы обрушили на противника огонь 150-мм артиллерии. Флагманский линкор в это время подверг обстрелу поселок. В карьере "Tirpitz" это был первый случай применения главного калибра и единственный, когда он вел огонь не по самолетам. В течение получаса 380-мм снаряды громили здания, угольные шахты, цистерны с топливом, места строящихся батарей и причальные сооружения. Затем "Hans Lody", "Karl Galster" и "Theodor Riedel" высадили десант численностью около 300 человек к северо-востоку от Баренцбурга. После непродолжительного боя местный гарнизон, насчитывавший 84 человека, был рассеян и отошел вглубь острова, потеряв четверых убитыми и 33 ранеными. Тем временем "Scharnhorst" с гремя оставшимися эсминцами обстреляли поселок Лонгйир и высадили там десант, завершивший уничтожение построек и захвативший 79 пленных.
"Tirpitz" и 4-я флотилия эсминцев (Z-29, Z-31, Z-33) повернули направо, в Грён-фьорд, к расположенному на его берегу поселку Баренцбург — столице архипелага. Сопротивления не ожидалось, однако норвежская береговая батарея открыла точный огонь по германским эсминцам. Появились потери: на Z-29 — 4 убитых и 4 раненых; на Z-31 — соответственно 3 и 1; на Z-33 — 3 и 25. В отместку эсминцы обрушили на противника огонь 150-мм артиллерии. Флагманский линкор в это время подверг обстрелу поселок. В карьере "Tirpitz" это был первый случай применения главного калибра и единственный, когда он вел огонь не по самолетам. В течение получаса 380-мм снаряды громили здания, угольные шахты, цистерны с топливом, места строящихся батарей и причальные сооружения. Затем "Hans Lody", "Karl Galster" и "Theodor Riedel" высадили десант численностью около 300 человек к северо-востоку от Баренцбурга. После непродолжительного боя местный гарнизон, насчитывавший 84 человека, был рассеян и отошел вглубь острова, потеряв четверых убитыми и 33 ранеными. Тем временем "Scharnhorst" с гремя оставшимися эсминцами обстреляли поселок Лонгйир и высадили там десант, завершивший уничтожение построек и захвативший 79 пленных.
 Около полудня германская эскадра покинула Шпицберген и днем 9 сентября 1943 г. вернулась в Альта-фьорд (На обратном пути лазарет "Tirpitz" принял всех тяжелораненых - и немцев, и пленных норвежцев.). Никто и не предполагал, что для "Tirpitz" этот боевой поход станет последним. Описание дальнейшей карьеры корабля сводится к иллюстрации усилий англичан по его уничтожению.
Около полудня германская эскадра покинула Шпицберген и днем 9 сентября 1943 г. вернулась в Альта-фьорд (На обратном пути лазарет "Tirpitz" принял всех тяжелораненых - и немцев, и пленных норвежцев.). Никто и не предполагал, что для "Tirpitz" этот боевой поход станет последним. Описание дальнейшей карьеры корабля сводится к иллюстрации усилий англичан по его уничтожению.







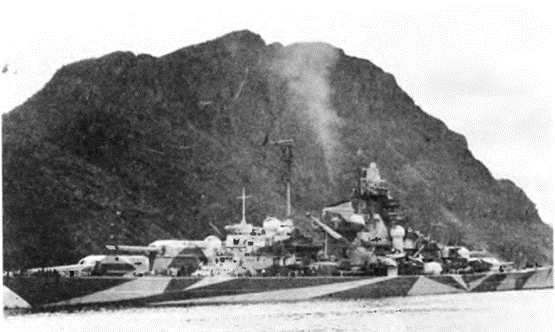


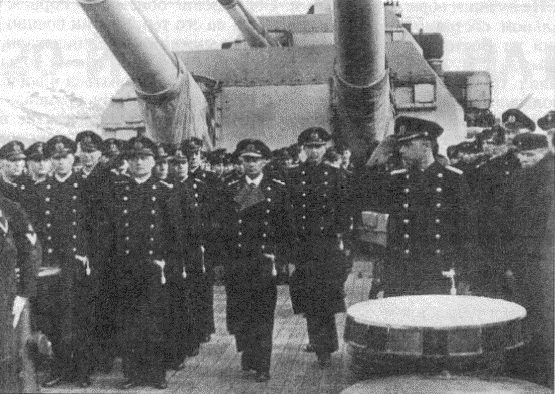
Операция "Источник", 22.09.1943
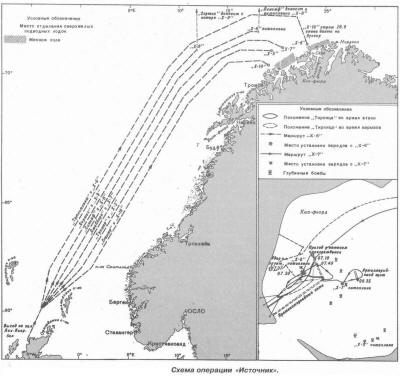 Следующая операция против "Tirpitz" готовилась британскими штабами наиболее тщательно. Поскольку стоянка линкора находилась вне радиуса действия авиации, решено было использовать новое оружие — сверхмалые подводные лодки типа "X", "миджеты". Такая субмарина при подводном водоизмещении около 30 т и длине 15,7 м несла два подрывных заряда по 1966 кг каждый. Экипаж состоял из 4 человек.
Следующая операция против "Tirpitz" готовилась британскими штабами наиболее тщательно. Поскольку стоянка линкора находилась вне радиуса действия авиации, решено было использовать новое оружие — сверхмалые подводные лодки типа "X", "миджеты". Такая субмарина при подводном водоизмещении около 30 т и длине 15,7 м несла два подрывных заряда по 1966 кг каждый. Экипаж состоял из 4 человек.
Адмиралтейство намеревалось произвести атаку еще весной 1943 года, но из-за наступления светового дня ее пришлось отложить до осени. Операция получила кодовое наименование "Сорс" (Source — Источник), однако внутри нее имелось три отдельных варианта: "Фаннел" (Funnel) предусматривал атаку целей в Альта-фьорде, "Эмпайр" (Empire) — в районе Нарвика, "Форсед" (Forced) — в районе Тронхейма. В операции было задействовано шесть "миджетов" и столько же больших подводных лодок, которые должны были на буксире доставить мини-субмарины к норвежскому побережью. При этом на каждый из "миджетов" назначалось по два экипажа: перегонный и боевой.
11 сентября лодки парами ("Thrasher" — Х-5, "Truculent" — Х-6, "Stubborn" — Х-7, "Seanymph" — Х-8, "Syrtis" — Х-9, "Sceptre" — Х-10) начали выходить в море. "Миджеты" буксировались в подводном положении, изредка поднимаясь на поверхность для вентиляции отсеков.
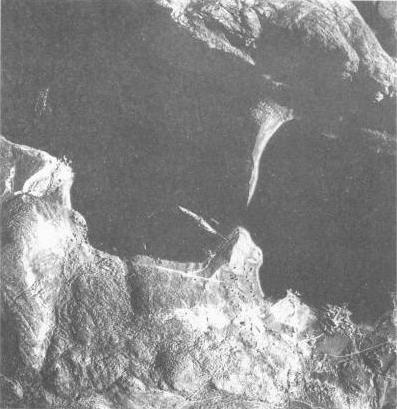 14 сентября разведывательный "Spitfire" с аэродрома Ваенга на Кольском полуострове сделал свежие фотографии германских кораблей на их стоянках в Каа-фьорде. Экипажам субмарин передали окончательный план распределения целей: Х-5, Х-6 и Х-7 должны были атаковать "Tirpitz", Х-9 и Х-10 — "Scharnhorst", а Х-8 — "Lützow" в Ланге-фьорде (длинный рукав в западной части Альта-фьорда, примерно в 10 милях от его устья).
14 сентября разведывательный "Spitfire" с аэродрома Ваенга на Кольском полуострове сделал свежие фотографии германских кораблей на их стоянках в Каа-фьорде. Экипажам субмарин передали окончательный план распределения целей: Х-5, Х-6 и Х-7 должны были атаковать "Tirpitz", Х-9 и Х-10 — "Scharnhorst", а Х-8 — "Lützow" в Ланге-фьорде (длинный рукав в западной части Альта-фьорда, примерно в 10 милях от его устья).
Не все "миджеты" добрались до цели. 16 сентября на "Syrtis" обнаружили обрыв троса и пропажу Х-9. Мини-субмарина погибла со всем экипажем. На рассвете 18 сентября из-за технических неполадок вышла из строя Х-8, экипаж которой перешел на "Seanymph", а лодку пришлось затопить. Таким образом, к выполнению задачи смогли приступить только 4 "миджета".
Вечером 20 сентября, прибыв в назначенные точки, они отдали буксиры и самостоятельно продолжили путь через пролив Стьерсунн в Альта-фьорд, а далее — в Каа-фьорд, где стояли "Tirpitz" и "Scharnhorst". Больше недели лодки-буксировщики ждали возвращения своих подопечных. Только 28 сентября в точку рандеву прибыла Х-10 лейтенанта Хадспета. Она не смогла обнаружить свою цель, поскольку "Scharnhorst" ушел со стоянки для артиллерийских учений. Другие "миджеты" не вернулись. Однако Адмиралтейство уже знало, что они выполнили свою задачу...
 Оборона Альта-фьорда была весьма мощной. Подходы к нему прикрывались минными полями (впрочем, в них имелись довольно широкие проходы), а на близлежащих островах находились береговые батареи и стационарные гидроакустические посты. В устье Альта-фьорда патрулировал охотник за подводными лодками. Поперек входа в Каа-фьорд была протянута противолодочная сеть. С южной стороны в ней имелся проход шириной 400 м, который закрывался подвижным боном. Поскольку в тот период в Альта-фьорде существовало относительно интенсивное движение, этот проход большую часть времени оставался частично открытым. В 3 кабельтовых к югу от прохода постоянно дежурил сторожевой корабль, оснащенный гидрофонами и досматривавший все проходящие суда.
Оборона Альта-фьорда была весьма мощной. Подходы к нему прикрывались минными полями (впрочем, в них имелись довольно широкие проходы), а на близлежащих островах находились береговые батареи и стационарные гидроакустические посты. В устье Альта-фьорда патрулировал охотник за подводными лодками. Поперек входа в Каа-фьорд была протянута противолодочная сеть. С южной стороны в ней имелся проход шириной 400 м, который закрывался подвижным боном. Поскольку в тот период в Альта-фьорде существовало относительно интенсивное движение, этот проход большую часть времени оставался частично открытым. В 3 кабельтовых к югу от прохода постоянно дежурил сторожевой корабль, оснащенный гидрофонами и досматривавший все проходящие суда.
Якорная стоянка "Scharnhorst" находилась у Оскарнесета, у самого входа в Каа-фьорд; "Tirpitz" стоял в полутора милях к юго-западу, у Бардудалена. Его прикрывала вторая линия заграждений — так называемый "сетевой ящик", состоявший из двойной противоторпедной сети до глубины 15 м и вспомогательной сети до глубины 36 м.  Ближе к берегу, слева по носу линкора, был оставлен 20-метровый проход, который можно было закрыть специальными боном, а если он оставался открытым на ночь, его охранял специальный катер.
Ближе к берегу, слева по носу линкора, был оставлен 20-метровый проход, который можно было закрыть специальными боном, а если он оставался открытым на ночь, его охранял специальный катер.
Противовоздушная оборона стоянки включала две батареи 105-мм зениток по 4 орудия в каждой и не менее полусотни зенитных автоматов, рассыпанных по скалистым берегам. Кроме того, в фьорде стояла на якоре зенитная плавбатарея "Nymphe" — бывший норвежский броненосец береговой обороны "Tordenskjold".
Утром 22 сентября, когда британские "миджеты" проникли в Каа-фьорд, там находились "Tirpitz", эсминцы "Erich Steinbrinck", "Friedrich Inn", Z-27, Z-30 и Z-31, плавбатарея "Nymphe", плавмастерская "Nordmark", танкер "S. A. Larsen", норвежский каботажный пароход и несколько буксиров...
Командир Х-6 лейтенант Дональд Камерон решил подойти к "Tirpitz" со стороны берега. Когда мини-субмарина находилась в 200 метрах от борта линкора, она наткнулась на массивную подводную преграду и выскочила на поверхность. С корабля их заметили, но, к счастью для англичан, приняли за тюленя. В 09:15 Камерон поднял перископ для уточнения своего положения относительно цели, но в этот момент лодка снова выскочила на поверхность и была обнаружена всего нескольких десятках метров от борта. На "Tirpitz" объявили воздушную тревогу, затем противолодочную, но воздушной при этом не отменили, в связи с чем на палубе царила суматоха, благодаря чему Х-6 быстро вошла в "мертвую зону" его скорострельной артиллерии. К тому времени, когда моряки "Tirpitz" открыли огонь из пулеметов и стали бросать в воду гранаты, англичане справились с управлением, и субмарина поднырнула под киль линкора. В 09:22 заряды были сброшены в районе башни "Bruno" с установкой задержки взрывателя на 1 час. Камерон понимал, что выйти из фьорда ему не дадут, поэтому приказал уничтожить все документы и поднял лодку на поверхность.  К Х-6 подошел моторный катер и снял с нее экипаж, после чего она быстро затонула.
К Х-6 подошел моторный катер и снял с нее экипаж, после чего она быстро затонула.
В 09:35 англичане были подняты на борт линкора. Их поведение указывало на то, что свою задачу они выполнили, поэтому командир "Tirpitz" капитан-цур-зее Майер приказал разводить пары, а водолазам — осмотреть подводную часть корабля. Для самостоятельной дачи хода линкору требовалось не менее часа, поэтому дополнительно были вызваны буксиры, чтобы помочь кораблю быстрее сменить место стоянки. В воздух был поднят бортовой "Arado" для обследования поверхности фьорда, поскольку предполагалось, что субмарина проникла в него не одна. Так оно и оказалось — всего через пять минут на поверхности был замечен второй "миджет".
 Х-7 лейтенанта Годфри Плэйса прибыла к "Tirpitz" на четверть часа раньше, но запуталась в противоторпедной сети. С большим трудом освободившись, лодка прошла дальше и вскоре ударилась о днище линкора напротив башни "Bruno". Здесь в 09:23 Плэйс сбросил первый заряд, потом продвинулся примерно на 150 м к корме корабля и сбросил второй. Освободившись от опасного груза, Х-7 пыталась уйти, но, поскольку гирокомпас был неисправен, снова запуталась в сети и в 09:40 всплыла в нескольких сотнях метров справа по носу линкора. Немцы обстреляли ее из пулемета, но лодка погрузилась и сумела выбраться из западни. Эсминцы Z-27 и Z-30 получили приказ обработать место погружения глубинными бомбами.
Х-7 лейтенанта Годфри Плэйса прибыла к "Tirpitz" на четверть часа раньше, но запуталась в противоторпедной сети. С большим трудом освободившись, лодка прошла дальше и вскоре ударилась о днище линкора напротив башни "Bruno". Здесь в 09:23 Плэйс сбросил первый заряд, потом продвинулся примерно на 150 м к корме корабля и сбросил второй. Освободившись от опасного груза, Х-7 пыталась уйти, но, поскольку гирокомпас был неисправен, снова запуталась в сети и в 09:40 всплыла в нескольких сотнях метров справа по носу линкора. Немцы обстреляли ее из пулемета, но лодка погрузилась и сумела выбраться из западни. Эсминцы Z-27 и Z-30 получили приказ обработать место погружения глубинными бомбами.
Обнаружение второго "миджета" заставило Майера изменить план. Выходить в фьорд было опасно, так как там могли находиться другие лодки, причем нельзя было исключать наличия у них торпедного вооружения. В 09:56 с "Tirpitz" была отправлена радиограмма о случившемся в штабы группы "Норд" и Адмирала Норвежского моря.
Так как Х-6 была замечена у левого борта, наиболее логичным было предположить, что именно там и находятся подрывные заряды. На правый борт "Tirpitz" были заведены буксирные тросы, и команда пыталась сдвинуть массивный линкор, используя якоря и лебедки, но полностью сделать это не успела. Как свидетельствует вахтенный журнал линкора, в 10:12 с интервалом в 10 секунд прогремели два взрыва по левому борту. Эпицентр первого находился на траверзе башни "Caesar" в 5—7 м от борта; второго — в 45—55 м от носовой оконечности.
Огромный корабль словно подпрыгнул из воды, люди попадали с ног, а с надстроек посыпались осколки битого стекла. Были оборваны все якорные цепи, и линкор слегка осел на левый борт. Из полопавшихся трубопроводов поднимался пар, а на воде расплылось большое маслянистое пятно, свидетельствовавшее о том, что повреждены топливные цистерны.  Повсеместно потух свет: старший электрик обер-лейтенант-инженер Гейнц Бернштайн доложил, что сработали автоматические выключатели на главном распределительном щите, а в генераторный отсек №2 и ряд соседних помещений начала поступать вода.
Повсеместно потух свет: старший электрик обер-лейтенант-инженер Гейнц Бернштайн доложил, что сработали автоматические выключатели на главном распределительном щите, а в генераторный отсек №2 и ряд соседних помещений начала поступать вода.
Потери, правда, оказались небольшими. Один матрос, подброшенный взрывом, ударился головой о якорную цепь и погиб; 40 человек, в том числе старший офицер капитан-цур-зее Вольф Юнге, получили ранения различной тяжести.
Через несколько минут после взрыва на поверхности снова появилась субмарина. От взрывной волны Х-7 получила тяжелые повреждения, и около 10:35 Плэйс поднял лодку на поверхность, приказав оставить ее. Сделать это сумели только он сам и водолаз лодки суб-лейтенант Эйткин, всплывший через три часа. Два других члена экипажа погибли. (Через 8 дней лодка была поднята немцами.)
 В 10:43 примерно в 600 метрах по правому борту "Tirpitz" была обнаружена еще одна подлодка. Вся зенитная артиллерия линкора открыла огонь, и прежде чем субмарина погрузилась, было отмечено несколько попаданий. Через две минуты подоспевший Z-27 сбросил на это место 5 глубинных бомб. Это была Х-5 лейтенанта Хенти-Крира, из ее экипажа никто не спасся. Сама лодка долгое время считалась пропавшей без вести, пока летом 1974 г. ее обломки не были случайно найдены норвежскими водолазами примерно в миле от места стоянки "Tirpitz".
В 10:43 примерно в 600 метрах по правому борту "Tirpitz" была обнаружена еще одна подлодка. Вся зенитная артиллерия линкора открыла огонь, и прежде чем субмарина погрузилась, было отмечено несколько попаданий. Через две минуты подоспевший Z-27 сбросил на это место 5 глубинных бомб. Это была Х-5 лейтенанта Хенти-Крира, из ее экипажа никто не спасся. Сама лодка долгое время считалась пропавшей без вести, пока летом 1974 г. ее обломки не были случайно найдены норвежскими водолазами примерно в миле от места стоянки "Tirpitz".
Для британского Адмиралтейства первым сигналом об успехе операции стала перехваченная и расшифрованная радиограмма эсминца "Erich Steinbrinck", отправленная через несколько минут после взрыва. Подтверждение было получено на следующий день. Над Каа-фьордом пролетел разведывательный "Spitfire". По его сообщению, линкор стоял без движения внутри сетевого ящика, а на две мили от него в фьорде растекается маслянистое пятно. Таким образом, ценой 9 погибших и 6 взятых в плен, англичане добились великолепного успеха.
Повреждения и ремонт, 11.1943 - 03.1944
Повреждения "Tirpitz", не слишком заметные на первый взгляд, оказались весьма тяжелыми. Эпицентр первого взрыва находился в районе VII отсека, несколько левее диаметральной плоскости. Второй заряд взорвался между отсеками XX и XXI. Наружные повреждения здесь были наибольшими. В радиусе около 1,5 м листы обшивки были сорваны или покорежены, а далее в подводной части образовалась большая вмятина длиной 35, шириной 12 м и глубиной до 12—20 см. Наблюдались многочисленные разрывы сварных швов. Но в целом корпус поглотил энергию взрывов без видимых структурных повреждений.
Из-за разошедшихся листов обшивки и переборок ряд отсеков второго дна и ПТЗ оказались затопленными. Из числа жизненно важных отсеков под водой оказались румпельное отделение левого руля, кормовой пост энергетики и живучести и отделение турбогенераторов №2; вода проникла в кормовое и правое машинные отделения, отсек левого редуктора и помещение распределительного щита №2 (левого борта). К 15 часам поступление воды было взято под контроль, но к тому времени корабль принял ее около 1430 т и получил крен около 2° на левый борт.
Затопление генераторного отсека стало серьезной проблемой: находившиеся в нем динамомашины вышли из строя, а автоматические переключатели трюмных и балластных помп оказались поврежденными от сотрясения. К 10:40 ситуация стала критической: всех потребителей пришлось переключать на единственный турбогенератор в отделении №1, остальные не действовали или не могли быть подключены из-за разрывов паропроводов и электропроводки. В течение двух часов подача электроэнергии была восстановлена. Позже для обеспечения электричеством к "Tirpitz" подошли вспомогательные суда "Karl Junge" и "Watt" (последний пришел из Ланге-фьорда во второй половине дня).
Основная часть повреждений пришлась на отсеки энергетической установки (с VII по X). Болты креплений всех трех валолиний были срезаны, и все три вала — заклинены. Повреждения фундаментов турбин исключали возможность самостоятельного движения линкора. В котельных отделениях наблюдались многочисленные разрывы паро- и топливопроводов. Серьезно пострадал левый руль и его рулевая машина.
От сотрясения вышли из строя почти все сложные приборы — такие, как радиостанции и радары. Два бортовых "Арадо" с такой силой ударило о стенки ангаров, что они не подлежали ремонту. Серьезный ущерб был нанесен артиллерии. Особенно пострадала система управления огнем: были рассогласованы электрические цепи, бронированные башенки обоих 10-метровых дальномеров заклинены на шаровых погонах, сбита тонкая настройка оптики дальномеров, а оборудование кормового дальномерного поста требовало полной замены. Башня "Dora", весившая около 2 тысяч тонн, от взрыва подскочила с кольцевого погона, а затем рухнула обратно, полностью его заклинив. Устранить эти повреждения в Норвегии не представлялось возможным, поскольку там не имелось кранов нужной грузоподъемности. Башни "Bruno" и "Caesar" также временно вышли из строя, но осмотр повреждений, произведенный после полной вентиляции подбашенных помещений, показал, что их погоны не пострадали. 150-мм башня №3 левого борта была напрочь заклинена. У кормовой группы 105-мм орудий левого борта рассогласовались оси стабилизации, вышел из строя электрический привод наведения и приборы установки взрывателей, однако установки еще могли действовать в ручном режиме...
Сразу после нападения гросс-адмиралу Дёницу был направлен подробный отчет о повреждениях линкора. 24 сентября Дёниц подготовил для Гитлера докладную записку, из которой следовало, что даже после капитального ремонта боеспособность "Tirpitz" не будет полностью восстановлена.
Руководство войной на море пришло к выводу, что перевод в Германию корабля, лишенного возможности двигаться самостоятельно, сопряжен с неоправданным риском. Решено было производить ремонт линкора на месте, используя ограниченные возможности плавучей мастерской "Neumark". Для размещения нескольких сотен рабочих и специалистов в Каа-фьорд прибыло вспомогательное судно "Monte Rosa" — бывший лайнер "New York" гамбургско-американской линии. Стотонный плавучий кран, также направлявшийся в Каа-фьорд, из-за полученных на переходе штормовых повреждений застрял в Намсусе.
В целом восстановление линкора представляло собой неимоверно сложную задачу. Ряд материалов и оборудования приходилось доставлять на север Норвегии из Германии, нельзя также забывать о сложных погодных условиях, причем во время полярной ночи все работы велись при электрическом освещении. Тем не менее, произведенный на "Tirpitz" ремонт стал одним из выдающихся достижений в истории военно-морского флота. Руководивший работами старший советник кораблестроения Крукс был награжден Германским крестом в серебре.
Ремонт внешней обшивки был сопряжен с трудностями. Деревянные коффердамы практически не поддавались подгонке к сильно помятому корпусу, в них постоянно находилась вода, не позволявшая вести работы электросваркой. Поэтому поврежденные фрагменты вырезались, а сверху на них наваривались автогеном более широкие листы, которым предварительно придавалась требуемая форма. Рабочим приходилось трудиться по колено в ледяной воде в условиях полярной зимы. Благодаря их усилиям, к концу декабря основные повреждения по корпусу были устранены, ликвидирована водотечность, корабль был выровнен и имел нормальную осадку. Однако часть поврежденных и помятых шпангоутов пришлось оставить в прежнем состоянии, так как заменить их без постановки в док не представлялось возможным.
Важнейшей задачей было восстановление энергетической установки корабля: всех трех валолиний, фундаментов турбин, трубопроводов, клапанов и т.д. Серьезной проблемой стала центровка валов, до того момента никогда не проводившаяся без использования сухого дока. Их отклонение от нормы достигало 13 см, но немецким специалистам удалось решить эту задачу! После того, как линии валов были выставлены, была произведена отладка турбин с их фундаментами, редукторов и упорных подшипников. Трещины в кожухах турбин и вспомогательных механизмов заделали при помощи электросварки, литые детали пришлось заменить. Перекос роторов турбин был выправлен путем их осторожного одностороннего нагрева, тем не менее, скорость вращения пришлось ограничить величиной 2800 об/мин, что привело к снижению скорости полного хода до 26 уз.  Попутно были внесены усовершенствования в конструкцию котлов, усовершенствованы перегреватели, что позволило увеличить ресурс котельных трубок. Левый руль пришлось заменить вместе с рулевой машиной.
Попутно были внесены усовершенствования в конструкцию котлов, усовершенствованы перегреватели, что позволило увеличить ресурс котельных трубок. Левый руль пришлось заменить вместе с рулевой машиной.
 Работы на "Tirpitz" продолжались с ноября 1943 по февраль 1944 г., практически не встречая противодействия. Единственный налет ночью 10 февраля произвели бомбардировщики Ил-4 36-й авиадивизии АДД, которая в тот момент была оперативно подчинена командованию Северного флота. "Хроника Великой Отечественной войны Советского Союза на Северном театре" сообщает: "Дивизии была поставлена задача атаковать немецкий линейный корабль "Tirpitz" в Альта-фьорде. Однако из-за плохих метеорологических условий только два самолета дошли до цели и сбросили 1 ФАБ-500, 2 БРАБ-220, 7 САБ-100 и 6 САБ-15; летчики наблюдали разрывы двух БРАБ-220 на берегу фьорда и одной ФАБ-500 в воде".
Работы на "Tirpitz" продолжались с ноября 1943 по февраль 1944 г., практически не встречая противодействия. Единственный налет ночью 10 февраля произвели бомбардировщики Ил-4 36-й авиадивизии АДД, которая в тот момент была оперативно подчинена командованию Северного флота. "Хроника Великой Отечественной войны Советского Союза на Северном театре" сообщает: "Дивизии была поставлена задача атаковать немецкий линейный корабль "Tirpitz" в Альта-фьорде. Однако из-за плохих метеорологических условий только два самолета дошли до цели и сбросили 1 ФАБ-500, 2 БРАБ-220, 7 САБ-100 и 6 САБ-15; летчики наблюдали разрывы двух БРАБ-220 на берегу фьорда и одной ФАБ-500 в воде".
В Журнале боевых действий морского коменданта Хаммерфеста говорится о четырех разрывах на берегу в 19:11. Остальные самолеты бомбардировали запасные цели, ближайшие из которых находились в 70—80 км от места стоянки "Tirpitz".
 К 15 марта 1944 г. — спустя полгода после атаки "миджетов" — все работы, которые можно было провести без постановки в док, были завершены. Ночью капитан-цур-зее Майер вывел линкор на пробы машин. Испытания проводились в Альта-фьорде. "Tirpitz" развил 27 узлов. Затем были опробованы и пристреляны орудия — разрывы снарядов гремели в окрестных скалах. Команда испытала огромный моральный подъем. Однако во время пробегов возникла сильнейшая вибрация левого вала, не позволившая развить максимальные обороты, а также выявились проблемы с крейсерской ступенью правого вала. Необходимые исправления были закончены ко 2 апреля. На следующий день был назначен пробный выход в Альта-фьорд...
К 15 марта 1944 г. — спустя полгода после атаки "миджетов" — все работы, которые можно было провести без постановки в док, были завершены. Ночью капитан-цур-зее Майер вывел линкор на пробы машин. Испытания проводились в Альта-фьорде. "Tirpitz" развил 27 узлов. Затем были опробованы и пристреляны орудия — разрывы снарядов гремели в окрестных скалах. Команда испытала огромный моральный подъем. Однако во время пробегов возникла сильнейшая вибрация левого вала, не позволившая развить максимальные обороты, а также выявились проблемы с крейсерской ступенью правого вала. Необходимые исправления были закончены ко 2 апреля. На следующий день был назначен пробный выход в Альта-фьорд...
 Операция "Тангстен", 3.04.1944.
Операция "Тангстен", 3.04.1944.
После того, как 26 декабря 1943 г. в бою с британской эскадрой погиб "Scharnhorst", "Tirpitz" оставался единственным боеспособным крупным надводным кораблем Кригсмарине на Севере. В середине марта британское Адмиралтейство на основании свежих данных аэрофотосъемки пришло к выводу, что линкор готов к выходу в море. Это послужило толчком к новой операции по его уничтожению, получившей кодовое наименование "Тангстен" (Tungsten — Вольфрам). На этот раз удар должны были нанести самолеты с авианосцев.
30 марта из Скапа-Флоу в море вышло две группы кораблей. Соединение I возглавлял командующий Флотом метрополии адмирал Брюс Фрэйзер. Оно состояло из линкоров "Duke Of Yorck" (флагман) и "Anson", авианосца "Victorious", крейсера "Belfast" и 6 эсминцев. Соединение II включало крейсера "Royalist" (флаг командующего эскортными авианосцами контр-адмирала Биссета), "Sheffild", "Jamaica", авианосцы "Furious", "Searcher", "Emperor", "Fencer", "Pursuer" и 5 эсминцев. Ударным соединением авианосцев командовал вице-адмирал Генри Мур, державший свой флаг на "Anson".
 План операции был довольно сложным. Атаку планировалось произвести двумя волнами по 21 торпедоносцу-бомбардировщику "Барракуда" в каждой. Чтобы нанести максимальный урон, использовалось четыре типа бомб: 1600-фунтовые (726-кг) бронебойные предназначались для пробивания броневой палубы линкора, 500-фнт (227-кг) полубронебойные должны были пробить верхнюю палубу и вызвать разрушения в межпалубном пространстве, 500-фнт фугасные — нанести серьезные потери расчетам зенитных орудий, 600-фнт (272-кг) противолодочные могли оказать такое же воздействие при прямом попадании, а при близком разрыве наносили серьезные повреждения подводной части. Атака была запланирована на утро 4 апреля, но из расшифровок "Ультры" англичане узнали, что "Tirpitz" собирается покинуть место стоянки, и срок был сдвинут на сутки.
План операции был довольно сложным. Атаку планировалось произвести двумя волнами по 21 торпедоносцу-бомбардировщику "Барракуда" в каждой. Чтобы нанести максимальный урон, использовалось четыре типа бомб: 1600-фунтовые (726-кг) бронебойные предназначались для пробивания броневой палубы линкора, 500-фнт (227-кг) полубронебойные должны были пробить верхнюю палубу и вызвать разрушения в межпалубном пространстве, 500-фнт фугасные — нанести серьезные потери расчетам зенитных орудий, 600-фнт (272-кг) противолодочные могли оказать такое же воздействие при прямом попадании, а при близком разрыве наносили серьезные повреждения подводной части. Атака была запланирована на утро 4 апреля, но из расшифровок "Ультры" англичане узнали, что "Tirpitz" собирается покинуть место стоянки, и срок был сдвинут на сутки.
На рассвете 3 апреля объединенная эскадра, не обнаруженная противником, вышла в точку 71°30' N и 19°00' O Погода была идеальной для полетов, и в 05:16 ударная волна начала взлет. Она состояла из 21 "Барракуды" 827-й и 830-й эскадрилий с "Victorious" и "Furious", 10 "Корсаров" 1834-й эскадрильи с "Victorious", 20 "Уайлдкэтов" 800-й и 881-й эскадрилий с "Searcher" и "Pursuer", 10 "Хеллкэтов" 882-й эскадрильи с "Emperor". В 05:37 самолеты построились над соединением и легли на курс 120°.
 "Tirpitz" находился в сетевом ящике; носовая часть корабля удерживалась двумя якорями, с кормы были брошены швартовы на берег. Еше затемно началась подготовка к выходу на пробу машин, во всех котлах развели пары, к борту подошли два буксира. Поскольку было еще раннее утро, на своих постах находились только швартовая и якорная команды, вахтенные в котельных и машинных отделениях, а также расчеты одного зенитного плутонга. Пошел уже второй якорь, когда на берегу завыли сирены воздушной тревоги и началась постановка дымовой завесы. В 06:25 пришло сообщение о 32 самолетах, приближавшихся с юга.
"Tirpitz" находился в сетевом ящике; носовая часть корабля удерживалась двумя якорями, с кормы были брошены швартовы на берег. Еше затемно началась подготовка к выходу на пробу машин, во всех котлах развели пары, к борту подошли два буксира. Поскольку было еще раннее утро, на своих постах находились только швартовая и якорная команды, вахтенные в котельных и машинных отделениях, а также расчеты одного зенитного плутонга. Пошел уже второй якорь, когда на берегу завыли сирены воздушной тревоги и началась постановка дымовой завесы. В 06:25 пришло сообщение о 32 самолетах, приближавшихся с юга.
 Нападение оказалось совершенно неожиданным. Стрельба началась, когда самолеты находились всего в 3 милях от цели. Когда их обнаружили с "Tirpitz", они уже ложились на боевой курс, а дымовая завеса над стоянкой была еще очень жидкой. "Корсары" остались на высоте, чтобы прикрыть ударную волну от считавшегося возможным появления немецких истребителей, но "Уайлдкэты" и "Хеллкэты" снизились до бреющего, ведя пулеметный огонь по палубам и надстройкам. "Барракуды" заходили на корабль с кормы двумя колоннами. В 06:29 они начали сбрасывать бомбы. На учениях от пилотов требовали делать это с высоты 1000 м, но в реальной обстановке, желая наверняка добиться попаданий, большинство из них спустилось гораздо ниже. Бомбы просто не успевали набрать достаточную скорость, чтобы пробить броневую палубу. Атака длилась ровно минуту. Британские летчики претендовали на 6 достоверных и 3 вероятных попадания. На обратном пути истребители атаковали сторожевой корабль V-6103 и танкер.
Нападение оказалось совершенно неожиданным. Стрельба началась, когда самолеты находились всего в 3 милях от цели. Когда их обнаружили с "Tirpitz", они уже ложились на боевой курс, а дымовая завеса над стоянкой была еще очень жидкой. "Корсары" остались на высоте, чтобы прикрыть ударную волну от считавшегося возможным появления немецких истребителей, но "Уайлдкэты" и "Хеллкэты" снизились до бреющего, ведя пулеметный огонь по палубам и надстройкам. "Барракуды" заходили на корабль с кормы двумя колоннами. В 06:29 они начали сбрасывать бомбы. На учениях от пилотов требовали делать это с высоты 1000 м, но в реальной обстановке, желая наверняка добиться попаданий, большинство из них спустилось гораздо ниже. Бомбы просто не успевали набрать достаточную скорость, чтобы пробить броневую палубу. Атака длилась ровно минуту. Британские летчики претендовали на 6 достоверных и 3 вероятных попадания. На обратном пути истребители атаковали сторожевой корабль V-6103 и танкер.
 На "Tirpitz" успели сыграть боевую тревогу, но зенитным расчетам требовалось 12— 14 минут, чтобы занять свои места, поэтому атакующих встретил лишь спорадический огонь. Тем не менее, одна "Барракуда" была сбита.
На "Tirpitz" успели сыграть боевую тревогу, но зенитным расчетам требовалось 12— 14 минут, чтобы занять свои места, поэтому атакующих встретил лишь спорадический огонь. Тем не менее, одна "Барракуда" была сбита.
Тем временем авианосцы начали подъем второй волны: 19 "Барракуд" 829-й и 831-й эскадрилий (еще одна не смогла взлететь и разбилась сразу после старта; экипаж погиб), 10 "Корсаров" 1826-й эскадрильи, 19 "Уайлдкэтов" 896-й и 898-й эскадрилий, 10 "Хеллкэтов" 809-й эскадрильи. В 06:37 самолеты построились и направились к "Tirpitz". На этот раз зенитчики линкора и береговых батарей были начеку, но ни плотный огонь, ни дымовая завеса не остановили англичан. В 07:35 "Хеллкэты" снова обстреляли зенитные орудия линкора, а "Уайлдкэты" прошлись пулеметным огнем по мостику и надстройкам. Через две минуты все было закончено. На этот раз пилоты бомбардировщиков заявили о 8 достоверных и 5 вероятных попаданиях, но снова допустили ту же ошибку. Бомбы сбрасывались с высоты от 430 до 900 м и не пробивали броневую палубу, а 726-кг бомба, попавшая в носовую часть, вообще не взорвалась. Одна "Барракуда" была сбита, один поврежденный "Хеллкэт" совершил вынужденную посадку на воду.
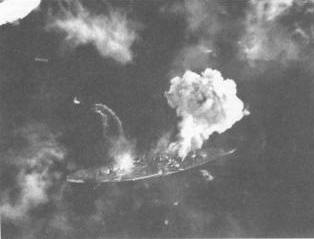 Помимо выполнения основной задачи, британские истребители атаковали многочисленные цели в Альта-фьорде и за его пределами; от их ударов пострадали сторожевой корабль V-6103, охотники Uj-1212 и Uj-1218, сетевой заградитель "Netzleger-II", танкеры "S. A. Larsen" и "Dollart", а также норвежский теплоход "Belpamela". Потери англичан составили 4 машины и 9 человек погибшими. К 08:58 все уцелевшие самолеты сели на свои авианосцы. Вице-адмирал Мур планировал повторить атаку на следующий день, но, удовлетворившись докладами пилотов о серьезных повреждениях "Tirpitz", приказал возвращаться в Скапа-Флоу.
Помимо выполнения основной задачи, британские истребители атаковали многочисленные цели в Альта-фьорде и за его пределами; от их ударов пострадали сторожевой корабль V-6103, охотники Uj-1212 и Uj-1218, сетевой заградитель "Netzleger-II", танкеры "S. A. Larsen" и "Dollart", а также норвежский теплоход "Belpamela". Потери англичан составили 4 машины и 9 человек погибшими. К 08:58 все уцелевшие самолеты сели на свои авианосцы. Вице-адмирал Мур планировал повторить атаку на следующий день, но, удовлетворившись докладами пилотов о серьезных повреждениях "Tirpitz", приказал возвращаться в Скапа-Флоу.
 При отражении налетов "Tirpitz" выпустил в общей сложности 506 105-мм, 400 37-мм и 8260 20-мм снарядов.
При отражении налетов "Tirpitz" выпустил в общей сложности 506 105-мм, 400 37-мм и 8260 20-мм снарядов.
| По британским данным, в ходе двух атак на линкор было сброшено 94 бомбы: | Первая волна | Вторая волна |
| 726-кг бронебойные (задержка взрывателя 0,08 с) | 6 | 2 |
| 227-кг полубронебойные (задержка взрывателя 0,14 с) | 24 | 36 |
| 227-кг фугасные (мгновенный взрыватель) | 12 | 9 |
| 272-кг противолодочные (установка гидростата на 10,6 м) | 4 | 1 |
В германском отчете, цитируемом в известном труде Роберта Далина и Уильяма Гарцке, приводится информация о 14 прямых попаданиях и 2 близких разрывах (еще одна 726-кг бомба попала в полубак, но не взорвалась):
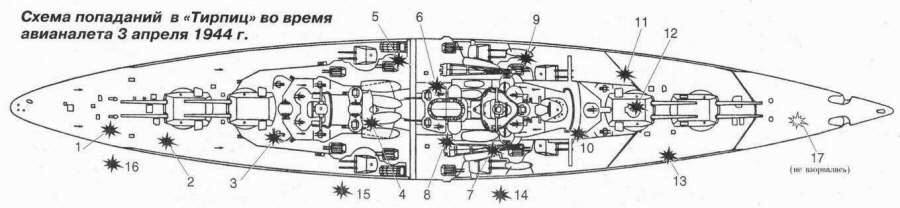 |
|
| 1 | 227-кг бомба взорвалась при контакте с верхней палубой позади и правее башни "Dora". Палуба слегка деформирована; повреждения минимальны. (1-я волна) |
| 2 | 227-кг бомба пробила верхнюю палубу и взорвалась в помещении фельдфебелей, причинив повреждения обшивке и оборудованию. (1-я волна) |
| 3 | 227-кг бомба пробила палубу надстройки и взорвалась в районе офицерских кают справа от кормового зенитного КДП, вызвав обрушение палубы надстройки. (1-я волна) |
| 4 | 227-кг бомба перебила самолетный кран правого борта и взорвалась в офицерской кают-компании, серьезно повредив надстройки. (1-я волна) |
| 5 | 726-кг бронебойная бомба пробила верхнюю палубу сразу за левой катапультой и взорвалась на батарейной палубе. Разрушена внешняя обшивка левого борта; внутренняя продольная переборка получила многочисленные осколочные пробоины; верхняя палуба задрана на протяжении 8 м. Разорваны основные водонепроницаемые переборки в районе X и XI отсеков; разрушены воздуховоды котельных вентиляторов и кабельные каналы. Броневые решетки дымоходов в X отсеке повреждены осколками. В результате возникшего пожара полностью уничтожены два бортовых "Арадо". (1-я волна) |
| 6 | 272-кг глубинная бомба взорвалась от удара в дымовую трубу, сильно покорежив ее; уничтожила расположенные на платформе прожекторы и серьезно повредила 20-мм установки. (1-я волна) |
| 7 | 227-кг бомба взорвалась на надстройке с внутренней стороны средней правой 150-мм башни. Разрушены офицерские каюты. (2-я волна) |
| 8 | 726-кг бомба взорвалась на верхней палубе внутри надстройки справа от трубы, вызвав сильное разрушение надстройки. (1-я волна) |
| 9 | 726-кг бомба взорвалась на верхней палубе между носовой и средней 150-мм башнями левого борта. Палуба пробита осколками; серьезно пострадали находящиеся поблизости помещения на верхней и батарейной палубах. (1-я волна) |
| 10 | 227-кг бомба взорвалась на надстройке справа от боевой рубки. Поврежден 7-метровый дальномер главного калибра и зенитный КДП "В". По всей видимости, в результате этого взрыва был контужен командир корабля. (2-я волна) |
| 11 | 227-кг бомба взорвалась на верхней палубе слева от башни "Bruno" точно над продольной броневой переборкой. Верхняя броневая палуба деформирована; близлежащие надстройки повреждены осколками. (2-я волна) |
| 12 | 726-кг бомба взорвалась на крыше башни "Bruno", уничтожив находившуюся там 20-мм установку и вызвав выбоины в броневой плите. (2-я волна) |
| 13 | 227-кг бомба взорвалась при контакте с кромкой верхней броневой палубы позади башни "Anton" по правому борту. Палуба пробита осколками и деформирована; но ущерб, нанесенный подпалубным помещениям, незначителен. (2-я волна) |
| 14 | Близкий разрыв, вероятно, 272-кг глубинной бомбы, в районе отсеков XII—XIV по правому борту. От сильного гидравлического удара листы обшивки разошлись и были частично вдавлены внутрь корпуса. (1-я волна) |
| 15 | 726-кг бомба упала в воду рядом с бортом в районе IX отсека, пробила борт под нижней кромкой броневого пояса и взорвалась в топливной цистерне в отсеке второго дна. Полностью разрушена внешняя обшивка ПТЗ в районе IX—X отсеков; осколочные пробоины в ПТП диаметром 0,5 — 1 м. (1-я волна) |
| 16 | Близкий разрыв бомбы не установленного калибра по правому борту в корме. (1-я волна) |
Наиболее тяжелым разрушениям подверглись надстройки и пространство между бронированными верхней и главной палубами. Опасность затопления кораблю не угрожала, хотя обшивка была испещрена осколками, палубы распороты взрывами, кабели и трубопроводы перебиты, а масса приборов и оборудования уничтожена. Пробоины в верхней палубе достигали трех метров в диаметре. Был поврежден ряд главных поперечных переборок над броневой палубой. Из-за многочисленных пожаров весь корабль заполнился дымом.
Хотя главные и вспомогательные механизмы не пострадали, близкие разрывы фугасных и глубинных бомб вызвали течи. "Tirpitz" принял около 2000 т воды, его осадка увеличилась примерно на 30 см. Наибольшие неприятности доставили два близких разрыва в средней части. Правая турбина снова была сорвана с фундамента и вышла из строя. Через разошедшиеся швы вода проникла в котельное отделение № I правого борта (XI отсек). Были сорваны временные заплаты в районе отделения левой рулевой машины, что привело к ряду затоплений в корме.
Разрывами бомб на надстройках были уничтожены правая катапульта и кран; правая средняя 150-мм башня разрушена; левая кормовая — выведена из строя; осколками серьезно повреждены дымоходы и воздуховоды котельных вентиляторов. Сами котлы практически не пострадали, и, хотя использовавшаяся для тушения пожаров забортная вода, проникая через поврежденные дымоходы, погасила несколько котлов в X и XI отсеках, корабль сохранил ход и подачу электроэнергии.
После первого налета на линкоре насчитывалось 108 убитых и 284 раненых. Потери от удара второй волны оказались существенно меньше, тем не менее, к вечеру старший корабельный врач "Tirpitz" Баллофф доложил о 122 погибших и 316 раненых. Многие из них пострадали от пулеметного огня истребителей. Среди погибших было 6 офицеров, а в числе раненых — командир корабля капитан-цур-зее Майер. Взрывная волна повредила ему барабанные перепонки и ударила о стенку боевой рубки с такой силой, что были сломаны два ребра. Сразу после налета его отправили в береговой госпиталь. Старший штурман корветтен-капитан Хуго Хайдель, фактически управлявший линкором после выбытия из строя командира, получил легкое ранение.
"За две минуты авианосные самолеты уничтожили результаты шестимесячного ремонта и нанесли страшный удар по моральному состоянию экипажа", — подытожил Фрере-Кук.
Узнав о случившемся, гросс-адмирал Дёниц предоставил исполняющему обязанности командира "Tirpitz" капитану-цур-зее Юнге необходимые материальные и людские ресурсы для ремонта корабля. 13 апреля он представил Гитлеру докладную записку, в которой делал вывод о нецелесообразности дальнейшего использования "Tirpitz" для нападения на союзные конвои. Не сомневаясь в том, что линкор будет отремонтирован, адмирал видел явное превосходство британского флота, что при пассивности Люфтваффе грозило опасностью окончательно потерять самый крупный корабль флота. Переход на ремонт в Германию также не представлялся возможным без мощного авиационного прикрытия. Исходя из этого, Дёниц предлагал оставить "Tirpitz" в Северной Норвегии для предотвращения высадки союзников.
К ремонту приступили в начале мая. Работы велись круглосуточно, в три смены. Необходимый персонал и оборудование на эсминцах доставлялось в Альта-фьорд прямо из Киля за 2—3 дня. 21 мая капитан-цур-зее Вольф Юнге был утвержден в должности командира корабля. Его главной заботой стало восстановление уровня боевой подготовки экипажа — вновь прибывшие матросы набирались в основном из "фольксдойче" и вообще не имели морской практики. Тем не менее, в условиях полярного дня ремонт был произведен быстро, и 2 июня линкор был готов к самостоятельному выходу в море. 6 июня на его борту побывал новый командующий Боевой группой контр-адмирал Рудольф Петере.
Наконец, 22 июня 1944 г. "Tirpitz" вышел из сетевого ящика. Он провел в фьорде пробу машин и учебные стрельбы. Однако восстановительные работы на корабле продолжались до середины июля. Правую турбину полностью отремонтировать не удалось; отныне она могла работать только в режиме переднего хода. Усилилось зенитное вооружение: были изготовлены и доставлены новые 150-мм и даже 380-мм снаряды с временным взрывателем для заградительного огня по приближающимся самолетам; число 20-мм автоматов увеличилось до 78. Зато авиационное вооружение сократилось до одного самолета — ангары были использованы для размещения дополнительного личного состава. Принимались меры по усилению ПВО стоянки. В частности, на берегу оборудовали дополнительный наблюдательный пост, обслуживавшийся артиллеристами линкора, с которого по телефону можно было корректировать зенитный огонь, особенно огневую завесу из орудий главного калибра. В августе для прикрытия "Tirpitz" на аэродром Бардуфосс была переброшена часть истребительной авиагруппы IV/JG 5...
В течение весны и лета 1944 г. британское военно-морское командование предприняло еще несколько попыток уничтожить "Tirpitz" посредством авианосных самолетов. Первый повторный налет с участием тех же авианосцев (операция "Планет") был намечен на 26 апреля, но отменен из-за плохой погоды. 15 мая началась операция "Брон". С "Victorious" и "Furious" стартовало 27 "Барракуд", 28 "Корсаров", 4 "Уайлдкэта" и 4 "Сифайра". У норвежского побережья они встретили сплошную облачность на высоте 300 м, поэтому им пришлось вернуться обратно. Погибла одна "Барракуда" метеорологической разведки. Аналогичная операция "Тайгер Кло", намеченная на 28 мая. тоже сорвалась по погодным условиям.
Очередной удар (операция "Маскот") Флота метрополии был нанесен, когда "Tirpitz" уже закончил ремонт. На этот раз к норвежскому побережью были отправлены авианосцы "Formidable", "Indefatigable" и "Furious". Вскоре после полуночи 17 июля с них взлетели 44 "Барракуды" с 1000-фнт (454-кг) бронебойными и 500-фнт фугасными бомбами в сопровождении 18 "Корсаров", 18 "Хеллкэтов" и 12 "Файрфлаев". В 02:04 "Tirpitz" получил предупреждение о приближении большого числа самолетов. Была объявлена воздушная тревога, зенитчики заняли свои места, а через 10 минут была поставлена плотная дымовая завеса. Атака началась в 02:20, когда цель была почти полностью закрыта дымом. Лишь в 02:21 одна бомба взорвалась рядом с линкором — большего англичане добиться не смогли. В тот день линкор выпустил 39 380-мм, 359 150-мм, 1973 105-мм, 3967 37-мм и 28 550 20-мм снарядов; одна "Барракуда" и один "Корсар" были сбиты.
31 июля и 1 августа "Tirpitz" провел учения вместе с эсминцами 4-й флотилии (Z-29, Z-31, Z-33, Z-34 и Z-39) — как оказалось, это был его последний выход в море.
Спустя три недели Флот метрополии начал операцию "Гудвуд". Для её осуществления из Скапа-Флоу вышло соединение контр-адмирала МакГригора: линкор "Duke Of Yorck", авианосцы "Indefatigable", "Formidable", "Furious", крейсера "Dewonshire", "Berwick" и 14 эсминцев. Позже к ним присоединились эскортные авианосцы "Nabob" и "Trumpeteer" с 6 фрегатами.
Первая атака ("Гудвуд I") была предпринята утром 22 августа силами 31 "Барракуды" 820-й, 826-й, 827-й, 828-й и 830-й эскадрилий, 24 "Корсаров" 1842-й и 1847-й эскадрилий, 10 "Хеллкэтов" 1840-й эскадрильи, 11 "Файрфлаев" 1770-й эскадрильи и 8 "Сифайров" 887-й эскадрильи. Низкая облачность помешала бомбометанию с пикирования, но "Хеллкэты" сбросили свои 227-кг бомбы через разрывы в тучах и заявили о двух попаданиях. На самом же деле "Tirpitz" повреждений не получил, но на воде истребителями были расстреляны один Не-115, два Аг-196 и две летающих лодки BV-138 (еще две сбили истребители воздушного патруля). Немцы претендовали на 12 сбитых самолетов — реальные потери англичан составили 1 "Барракуду", 1 "Корсар" и 1 "Хеллкэт". В начале вечера еще 6 "Хеллкэтов" и 8 "Файрфлаев" с "Indefatigable" атаковали "Tirpitz" ("Гудвуд II"), заявив о двух попаданиях, хотя в действительности налет также оказался безрезультатным.
24 августа авиагруппы "Indefatigable", "Formidable" и "Furious" предприняли новую атаку ("Гудвуд III") — самую сильную из проведенную против "Tirpitz" силами палубной авиации. В ней участвовало 33 "Барракуды" с 726-кг бронебойными бомбами, 10 "Хеллкэтов" с 227-кг полубронебойными бомбами, 5 "Корсаров" с 454-кг бронебойными бомбами, которых сопровождали 19 "Корсаров" и 10 "Файрфлаев", предназначенных для подавления зенитного огня. В 15:47 немцы сыграли воздушную тревогу и начали постановку дымовой завесы. Самолеты приближались с разных направлений и выходили в атаку с пологого пике, чтобы затруднить управление зенитным огнем. Из 33 "Барракуд" только 18 смогли сбросить бомбы, но истребители отбомбились в полном составе. Ценой потери 2 "Хеллкэтов" и 4 "Корсаров", англичанам удалось добиться двух прямых попаданий.
227-кг бомба взорвалась на крыше башни "Bruno", уничтожив находившийся там 20-мм "фирлинг" и временно выведя из строя подъемник левого орудия. Второе попадание стало предметом жестокого разочарования нападавших. 726-кг бомба угодила прямо в мостик с левого борта, срикошетировала, пробила верхнюю палубу, главную броневую палубу, но не взорвалась и застряла в помещении главного распределительного щита №4 на нижней платформе. Единственный раз палубная броня "Tirpitz" оказалась пробитой. Если бы взрыватель этой бомбы сработал, последствия могли бы быть самыми серьезными.
Шторм и туман не позволили повторить налет в течение следующих пяти дней, и только 29 августа с "Indefatigable" и "Formidable" стартовало 26 "Барракуд", 17 "Корсаров", 7 "Хеллкэтов", 10 "Файрфлаев" и 7 "Сифайров" (операция "Гудвуд IV"). Немецкие службы ПВО сработали четко, и к подходу ударной волны цель была полностью скрыта дымом. Вслепую самолеты сбросили 26 726-кг, 2 454-кг и 3 227-кг бомбы, линкор попаданий не получил. Ответным огнем были сбиты 1 "Файрфлай" и 1 "Хеллкэт".
Расход зенитного боезапаса "Tirpitz" в ходе отражения операции "Гудвуд"
| 22 августа, утро | 22 августа, вечер | 24 августа | 29 августа | |
| 380-мм | 62 | 13 | 72 | 54 |
| 150-мм | 363 | 124 | 510 | 161 |
| 105-мм | 1 3000 | 750 | 30%* | 22%* |
| 37-мм | 1 600 | 1 538 | 20% | 9% |
| 20-мм | 15 000 | 15 800 | 40% | 18% |
* В процентах от оставшегося боезапаса.
 Впоследствии британский флот не предпринимал усилий по уничтожению "Tirpitz". Последние налеты показали бесперспективность использования палубной авиации из-за усилившейся противовоздушной обороны стоянки линкора в Каа-фьорде. Требовались другие методы. В качестве альтернативы предлагалось атаковать линкор американскими бомбардировщиками В-17 "Летающая крепость" или скоростными бомбардировщиками "Москито"; промелькнула даже идея использовать "чериоты", доставленные летающими лодками "Сандерленд". Однако в сентябре 1944 г. задачу поручили Бомбардировочному командованию. Инструментом стали тяжелые бомбардировщики "Ланкастер", вооруженные сверхмощными бомбами "Толлбой" (общий вес — 5443 кг, заряд — 2358 кг).
Впоследствии британский флот не предпринимал усилий по уничтожению "Tirpitz". Последние налеты показали бесперспективность использования палубной авиации из-за усилившейся противовоздушной обороны стоянки линкора в Каа-фьорде. Требовались другие методы. В качестве альтернативы предлагалось атаковать линкор американскими бомбардировщиками В-17 "Летающая крепость" или скоростными бомбардировщиками "Москито"; промелькнула даже идея использовать "чериоты", доставленные летающими лодками "Сандерленд". Однако в сентябре 1944 г. задачу поручили Бомбардировочному командованию. Инструментом стали тяжелые бомбардировщики "Ланкастер", вооруженные сверхмощными бомбами "Толлбой" (общий вес — 5443 кг, заряд — 2358 кг).
 Поскольку дальность полета "Ланкастеров" не позволяла произвести налет с территории Великобритании, 10 сентября 33 бомбардировщика 617-й и 9-й эскадрилий перелетели на советский аэродром Ягодник под Архангельском, правда, 6 машин совершили вынужденную посадку и их пришлось списать.
Поскольку дальность полета "Ланкастеров" не позволяла произвести налет с территории Великобритании, 10 сентября 33 бомбардировщика 617-й и 9-й эскадрилий перелетели на советский аэродром Ягодник под Архангельском, правда, 6 машин совершили вынужденную посадку и их пришлось списать.
15 сентября 27 бомбардировщиков под командованием подполковника авиации Уильяма Б. Тэйта вылетели для атаки "Tirpitz" (операция "Параван"). Из них 21 нес по "Толлбою", остальные — по двенадцать 400-фунтовых (182-кг) мин JW Mk.II с контактным взрывателем. Самолеты заходили на цель с юго-востока на высоте 3500 м звеньями по 6 машин. До "Tirpitz" оставалось 5 минут полета, когда немцы начали ставить дымзавесу, а затем открыли сильный зенитный огонь. Стрелял даже главный калибр линкора. Из-за плотного дыма только 16 машин сбросили свои бомбы, добившись одного попадания.
Бомба попала в носовую часть линкора в 15 м от форштевня, пробила корпус насквозь и взорвалась в воде у правого борта. В результате были затоплены все отсеки до носового броневого траверза, машины и артиллерия серьезно пострадали от сотрясений. Главное же — совсем ослабли носовые шпангоуты, не отремонтированные полностью после атаки "миджетов". Теперь корабль был способен передвигаться только с "черепашьей" скоростью.
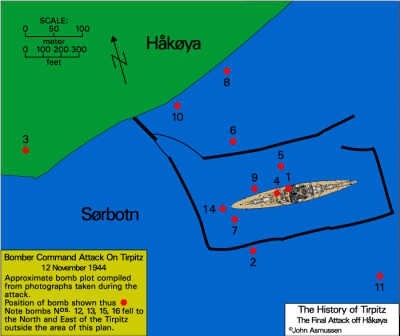 Было установлено, что полный ремонт займет 9 месяцев непрерывных работ. На совещании в Берлине 23 сентября с участием гросс-адмирала Дёница и начальника штаба Руководства войной на море адмирала В. Майзеля было решено, что возможности сделать "Tirpitz" полностью мореходным и боеспособным больше нет. Линкор предполагалось превратить в плавучую крепость, подыскав для него подходящее место базирования, где глубина под килем была бы небольшой. По оценке германских специалистов, на мелководье он не мог ни перевернуться, ни затонуть.
Было установлено, что полный ремонт займет 9 месяцев непрерывных работ. На совещании в Берлине 23 сентября с участием гросс-адмирала Дёница и начальника штаба Руководства войной на море адмирала В. Майзеля было решено, что возможности сделать "Tirpitz" полностью мореходным и боеспособным больше нет. Линкор предполагалось превратить в плавучую крепость, подыскав для него подходящее место базирования, где глубина под килем была бы небольшой. По оценке германских специалистов, на мелководье он не мог ни перевернуться, ни затонуть.
Для поиска нового места стоянки была сформирована комиссия, состоявшая из начальника штаба Боевой группы капитана-цур-зее Риде, старшего штурмана и старшего артиллериста линкора корветтен-капитанов Брутцера и Мюллера. После тщательных гидрографических исследований такое место было найдено в районе Тромсё — в заливе Сёрботн у острова Хаакойя. В ночь на 15 октября "Tirpitz" последний раз вышел в море в сопровождении 4-й флотилии эсминцев. На переходе линкор едва смог развить 10 узлов! На следующий день после прибытия в Тромсё большая часть машинной команды была списана на берег, на борту осталось около 1700 офицеров и матросов. Из Каа-фьорда доставили противоторпедные сети, а земснаряды намыли под килем "Tirpitz" песок, чтобы еще более обезопасить его от затопления.
 В отношении ПВО новая стоянка была оборудовала существенно хуже. Вместо отвесных горных склонов Сёрботн окружали невысокие возвышенности, что позволяло увеличить время прицеливания неприятельским бомбардировщикам и снижало возможности по постановке дымовых завес. На берегах успели установить несколько зенитных батарей, в фьорде расположил и две плавбатареи, переоборудованных из трофейных норвежских кораблей. Главное же — в Тромсё "Tirpitz" находился на 200 миль ближе к Великобритании, следовательно, "Ланкастеры" могли проделать путь до цели и обратно со своих аэродромов.
В отношении ПВО новая стоянка была оборудовала существенно хуже. Вместо отвесных горных склонов Сёрботн окружали невысокие возвышенности, что позволяло увеличить время прицеливания неприятельским бомбардировщикам и снижало возможности по постановке дымовых завес. На берегах успели установить несколько зенитных батарей, в фьорде расположил и две плавбатареи, переоборудованных из трофейных норвежских кораблей. Главное же — в Тромсё "Tirpitz" находился на 200 миль ближе к Великобритании, следовательно, "Ланкастеры" могли проделать путь до цели и обратно со своих аэродромов.
Англичане потеряли линкор из поля зрения всего на несколько часов. Почти сразу после его прибытия на новое место была получена радиограмма от бойцов норвежского Сопротивления, а 16 октября "Tirpitz" обнаружила авиационная разведка. Не подозревая о фактической небоеспособности линкора, англичане продолжили попытки его уничтожить. В ранние часы 29 октября 32 бомбардировщика 617-й и 9-й эскадрилий под командованием Тэйта вылетели с аэродрома Лоссимут (операция "Обвиэйт") и к 09:50 были над целью. Бомбы пришлось сбрасывать под плотным зенитным огнем через разрывы в облачности. Попаданий достигнуто не было, но близким разрывом на левой раковине линкора был погнут левый вал, затоплено несколько помещений в корме, и корабль получил крен в 1°. Один самолет был поврежден зенитным огнем и совершил вынужденную посадку на территории Швеции.
4 ноября на "Tirpitz" в последний раз сменился командир. Вольф Юнге передал корабль капитану-цур-зее Роберту Веберу. Последний служил на линкоре со дня его ввода в строй — сначала старшим артиллеристом, затем старшим офицером.
Время работало против англичан — с 26 ноября над Тромсё должна была установиться полярная ночь. Очередная атака (операция "Катехизм") была предпринята 12 ноября. Между 04:00 и 04:35 в воздух поднялись восемнадцать бомбардировщиков 617-й и тринадцать 9-й эскадрильи; семь машин не смогли взлететь из-за обледенения. Из числе взлетевших 29 машин несли бомбы "Толлбой", остальные — мины Mk.II. К 09:35 они находились в исходной точке над озером Турнетреск в 100 км южнее Тромсё и взяли курс на цель, набрав высоту 4000 м.
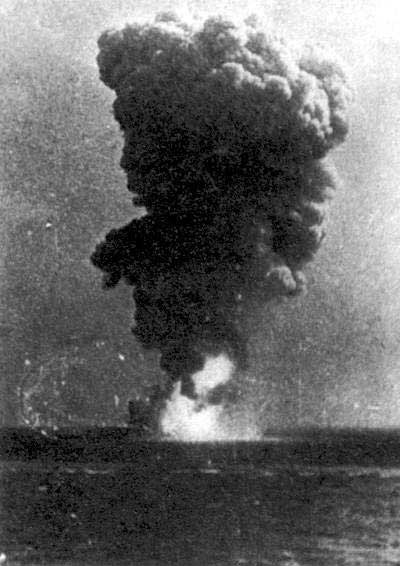 Хотя на "Tirpitz" еще в 07:30 получили сообщение о группе самолетов над территорией Норвегии, а в 08:55 объявили воздушную тревогу, дымовую завесу вовремя поставить не успели. На этот раз линкор был ясно виден экипажам бомбардировщиков. В 09:40 башни "Anton" и "Bruno" открыли заградительный огонь с дистанции 24 км. По свидетельству очевидцев, англичане на него даже не среагировали. Средняя артиллерия начала стрельбу с 15 000 м. В 09:41 "Ланкастер" ведущего группы Тэйта сбросил бомбу; за ним в течение 8 минут с высоты от 3800 до 4800 м отбомбились все остальные. Немецкие истребители в воздухе так и не появились. Группа вернулась на свой аэродром без потерь, зная, что выполнила поставленную задачу!
Хотя на "Tirpitz" еще в 07:30 получили сообщение о группе самолетов над территорией Норвегии, а в 08:55 объявили воздушную тревогу, дымовую завесу вовремя поставить не успели. На этот раз линкор был ясно виден экипажам бомбардировщиков. В 09:40 башни "Anton" и "Bruno" открыли заградительный огонь с дистанции 24 км. По свидетельству очевидцев, англичане на него даже не среагировали. Средняя артиллерия начала стрельбу с 15 000 м. В 09:41 "Ланкастер" ведущего группы Тэйта сбросил бомбу; за ним в течение 8 минут с высоты от 3800 до 4800 м отбомбились все остальные. Немецкие истребители в воздухе так и не появились. Группа вернулась на свой аэродром без потерь, зная, что выполнила поставленную задачу!
"Tirpitz" получил два прямых попадания и не менее четырех близких разрывов. Первая бомба попала в левую катапульту, пробила броневую палубу и разорвалась в котельном отделении. Почти сразу корабль получил крен 20° на левый борт, который попытались выровнять контрзатоплением, но не успели. Линкор потряс второй мощный удар. Попадание пришлось в кормовую надстройку. Крен достиг величины 70°, вышла из строя внутренняя связь, в 09:45 замолчала артиллерия. В кормовой части возник сильный пожар, очень скоро перекинувшийся на зарядные погреба. В 09:58 раздался сильнейший взрыв; башня "Caesar" была поднята с погона и отброшена на 12 м, столб дыма поднялся на высоту 150 м. Спустя две минуты "Tirpitz" опрокинулся через левый борт и затонул в 200 м от берега в точке с координатами 69°36'N, 18°59' O.
Несмотря на отданную команду "Оставить корабль", это произошло так стремительно, что большая часть личного состава с нижних палуб просто не успела выбраться из железного мешка. Из 1700 человек, составлявших экипаж "Tirpitz", 971 погиб — в том числе командир корабля капитан-цур-зее Вебер и 27 офицеров. Благодаря усилиям капитан-лейтенанта-инженера Вальтера Зоммера, оказавшегося в то утро на берегу, было организовано спасение людей, замурованных в перевернутом корпусе. Через прорезанные автогеном отверстия в днище было спасено еще 87 человек — последний из них вышел на поверхность в полдень 13 ноября.
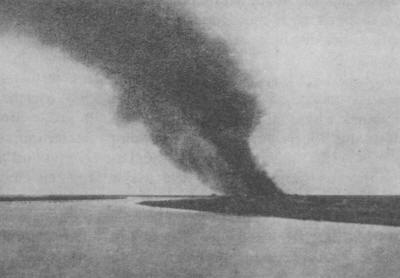 Так завершилась карьера "Tirpitz" — крупнейшего корабля германского флота, в течение долгого времени оказывавшего поистине стратегическое влияние на расстановку сил на северном театре боевых действий и сковывавшим значительные ресурсы союзников. Как справедливо отмечает адмирал Брайан Скофилд, "хотя он ни разу не использовал свои огромные орудия, влияние "Tirpitz" на ход войны в Арктике было огромным". За 2 года и 10 месяцев пребывания корабля в Норвегии англичане произвели против него 15 воздушных налетов, совершив 737 самолетовылетов и потеряв 32 самолета — без учета полетов самолетов-разведчиков, советской авиации, а также атак сверхмалых подводных лодок и человеко-торпед...
Так завершилась карьера "Tirpitz" — крупнейшего корабля германского флота, в течение долгого времени оказывавшего поистине стратегическое влияние на расстановку сил на северном театре боевых действий и сковывавшим значительные ресурсы союзников. Как справедливо отмечает адмирал Брайан Скофилд, "хотя он ни разу не использовал свои огромные орудия, влияние "Tirpitz" на ход войны в Арктике было огромным". За 2 года и 10 месяцев пребывания корабля в Норвегии англичане произвели против него 15 воздушных налетов, совершив 737 самолетовылетов и потеряв 32 самолета — без учета полетов самолетов-разведчиков, советской авиации, а также атак сверхмалых подводных лодок и человеко-торпед...
После освобождения Норвегии четыре человека из группы норвежского Сопротивления начали разборку корпуса затонувшего линкора, снимая наиболее ценные детали и механизмы: вспомогательные дизели, динамомашины, трубопроводы, электрические кабели.  Затем в Тромсё была направлена партия британских водолазов для обследования остова "Tirpitz". В числе спускавшихся под воду был и Уильям Тэйт. В 1948 г. группа норвежских ветеранов зарегистрировала компанию "Эйнар Хёвдинг Скиппсупхуггинг", которая за весьма небольшую сумму в 120 тысяч норвежских крон выкупила у правительства страны право на разборку корабля. В качестве подрядчиков выступили британские и западногерманские фирмы. В заливе Сёрботн прибыл плавучий кран и ряд судов с необходимым оборудованием для подводных работ. Основная часть металлолома доставлялась в Кристиансунн, а позже продавалась в Германию. Работы по разборке останков "Tirpitz" заняли около 10 лет и завершились в 1957 году.
Затем в Тромсё была направлена партия британских водолазов для обследования остова "Tirpitz". В числе спускавшихся под воду был и Уильям Тэйт. В 1948 г. группа норвежских ветеранов зарегистрировала компанию "Эйнар Хёвдинг Скиппсупхуггинг", которая за весьма небольшую сумму в 120 тысяч норвежских крон выкупила у правительства страны право на разборку корабля. В качестве подрядчиков выступили британские и западногерманские фирмы. В заливе Сёрботн прибыл плавучий кран и ряд судов с необходимым оборудованием для подводных работ. Основная часть металлолома доставлялась в Кристиансунн, а позже продавалась в Германию. Работы по разборке останков "Tirpitz" заняли около 10 лет и завершились в 1957 году.

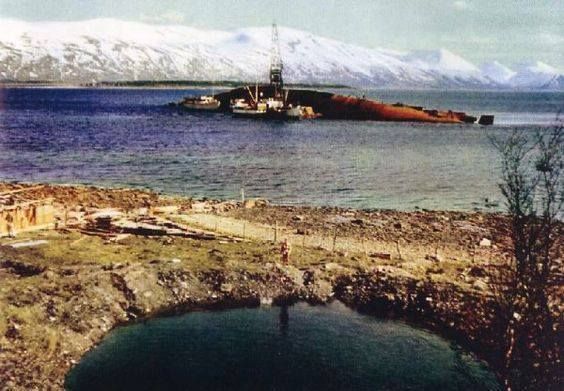





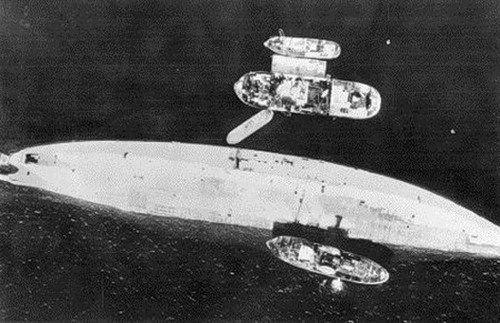

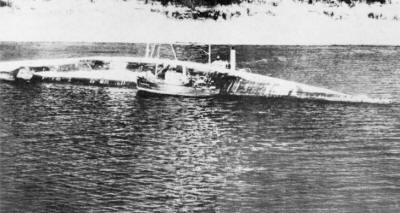


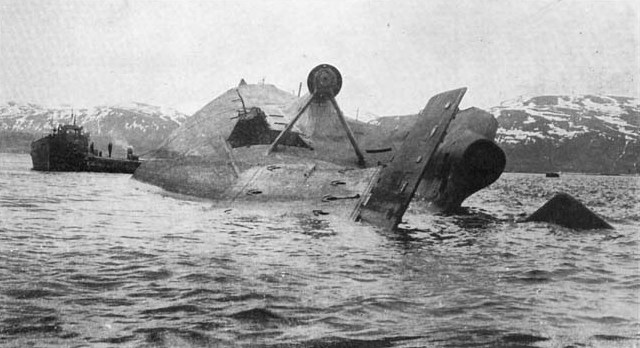


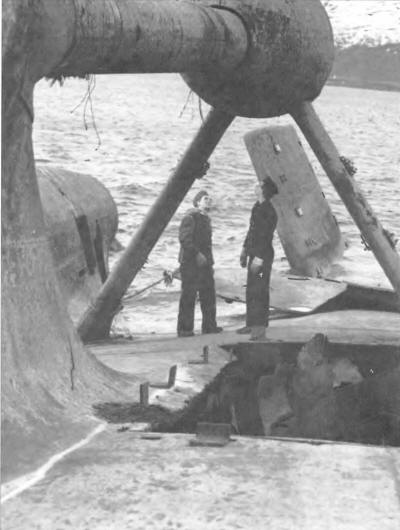
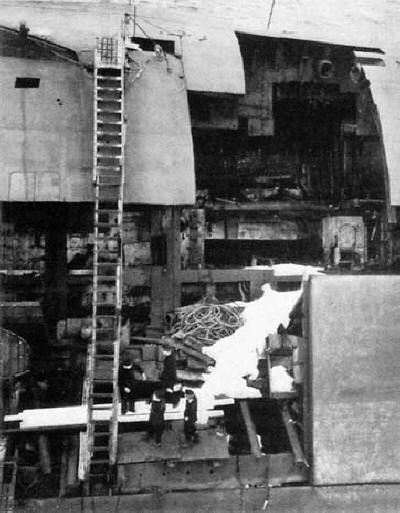


| 25.02.1941 | Вступил в строй и приступил к обучению. | капитан-цур-зее Карл Топп |
| нач.03.1941 | Перешел в Киль для испытаний на Балтике. | |
| 20.09.1941 | Признан боеспособным. | |
| 23-25.09.1941 | На позиции у Финского залива для предполагаемых действий против флота СССР. | |
| 12.01.1942 | Перешёл из Киля в Вильгельмсхафен. | |
| 14 - 16.01.1942 | Перешёл в Тронхейм. | |
| 30.01.1942 | Отбил налёт британской авиации. | |
| 6 - 9.03.1942 | Операция против конвоев PQ-12/QP-8, после чего прибыл в Нарвик. | |
| 12 - 13.03.1942 | Перешёл в Тронхейм. | |
| 31.03.1942 | Отбил налёт британской авиации. | |
| 28 и 29.04.1942 | Отбил налёты британской авиации. | |
| 2 - 7.07.1942 | Операция "Ход конём" - против конвоя PQ-17, после чего прибыл в Нарвик. | |
| 23.10.1942 | Перешёл в Тронхейм для ремонта. | |
| 24.01.1943 | Закончил ремонт и перешёл в Лофьорд для боевой подготовки. | |
| 21.02.1943 | ||
| капитан-цур-зее Ганс Майер | ||
| 5.03.1943 | Признан боеспособным. | |
| 11-13.03.1943 | Перешёл в Нарвик. | |
| 22 - 23.03.1943 | Перешёл в Альта-фьорд. | |
| 6 - 9.09.1943 | Поход для обстрела Шпицбергена. | |
| 22.09.1943 | Тяжело повреждён на стоянке британскими сверхмалыми подводными лодками. | |
| 11.1943 - 02.1944 | Ремонт на месте. | |
| 15.03.1944 | Пробный пробег после ремонта. | |
| 3.04.1944 | Тяжело повреждён британской авиацией. | |
| капитан-цур-зее Юнге (и. о.) | ||
| 05 - 06.1944 | Ремонт на месте. | |
| 22.06.1944 | Проба машин и учебные стрельбы. | |
| 17.07.1944 | Отбил налёт британской авиации. | |
| 31.07 - 1.08.1944 | Учения вместе с эсминцами 4-й флотилии. | |
| 22 и 24.08.1944 | Отбил налёты британской авиации. | |
| 15. 09.1944 | Повреждён британской авиацией на стоянке в Каа-фьорде. | |
| 15.10.1944 | Перешёл в залив Сёрботн у Тромсё. | |
| 29.10.1944 | Отбил налёт британской авиации. | |
| 4.11.1943 | ||
| капитан-цур-зее Роберт Вебер | ||
| 12.11.1941 | Потоплен британской авиацией на стоянке. | |
| 1948 - 1957 | Разобран на месте. | --- |
|
ГАЛЕРЕЯ МОДЕЛЕЙ 
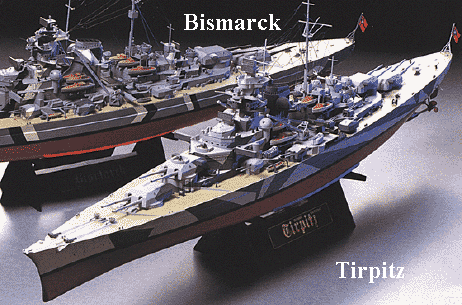
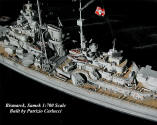


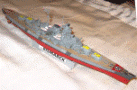


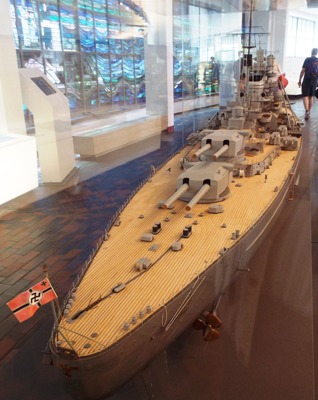



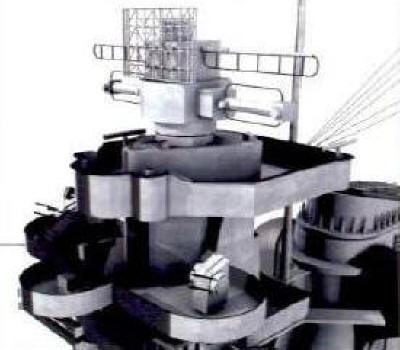





















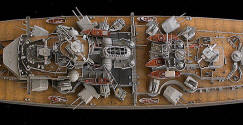














|
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ |
|
| на немецком | |
| 1 | Groner E., Mickel P., Mrva F. - Die Deutschen Kriegsschiffe.1815-1945. Vol. 1., Bernard & Graefe Verlag, Munchen, De, 1982. |
| 2 | Breyer, Siegfried: Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 1905–1970. J. F. Lehmanns Verlag, München 1970 |
| 3 | Graser, Bernhard: Norddeutschlands Seemacht. Ihre Organisation, ihre Schiffe, ihre Häfen und ihre Bemannung. Verlag Friedrich Wilhelm Grunow, Leipzig 1870. |
| 4 | Elfrath, Ulrich: De Deutsche Kriegsmarine 1935-1945, Weltbild Verlag, Augsburg, 1994. |
| 5 | Hansen, Clas Broder: Deutschland wird Seemacht. Urbes Verlag Hans Jürgen Hansen, Gräfelfing vor München 1991 |
| 6 | Hansen H.J. - Die Schiffe der deutschen Flotten 1848-1945, Weltbild Verlag GmbH, Augsburg, De, 1998. |
| на английском | |
| 7 | Breyer, Siegfried Battleships and Battlecruisers 1905—1970. (Doubleday and Company; Garden City, New York, 1973) |
| 8 | Williamson, Gordon: German Battleships 1939-45. //New Wanguard N71, Osprey, Oxford, 2003. |
| 9 | Robert D. Ballard: The Discovery of the Bismarck. Madison, Toronto, 1990. |
| на русском | |
| 10 | Балакин С. - Сверхрейдеры фюрера. // журнал "Моделист-конструктор".-1996.-№4. |
| 11 | Иванов С. В. и др. - Линкоры Кригсмарине. // периодич. издание "Война на море".-2005.-№3. |
| 12 | Малов А. А., Патянин С. В. - Линкоры "Бисмарк" и "Тирпиц". Яуза/Арсенал-коллекция., М. 2005. |
| 13 | Малов А., Патянин С., Сулига С. - Линкоры фюрера. Яуза/Арсенал-коллекция., М. 2008. |
| 14 | Патянин С. В. - Корабли второй мировой войны ВМФ Германии, часть 1. // периодич. издание "Морская коллекция".-2005.-№8. |
| 15 | Патянин С., Морозов М., Нагирняк В. - Кригсмарине. Яуза/Арсенал-коллекция., М. 2009. |
| 16 | Печуконис Н. И. и др. - "Бисмарк". // периодич. издание "Бриз".-1998.-№4. |
| 17 | Платонов А. В., Апальков Ю. В. - Боевые корабли Германии 1939 - 1945 гг. ? |
| 18 | Тарас А. Е. - Энциклопедия броненосцев и линкоров. М., 2002. |
| + | |
| некоторые материалы с интернет-форумов | |
 Bismarck
Bismarck 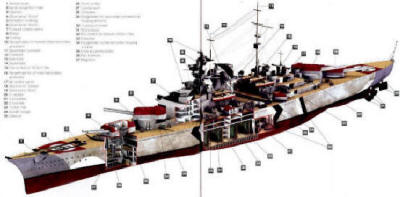
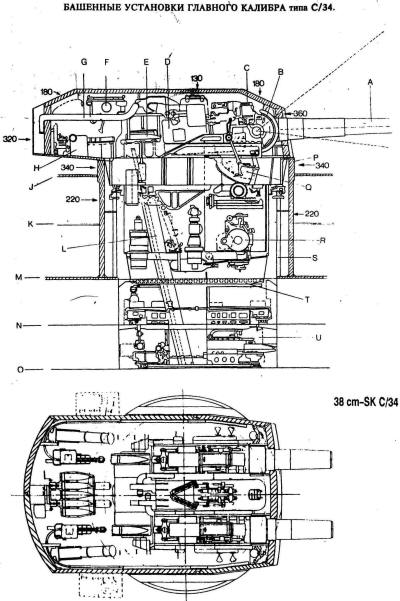
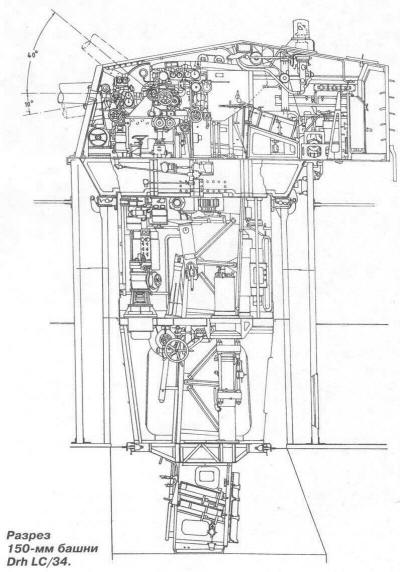

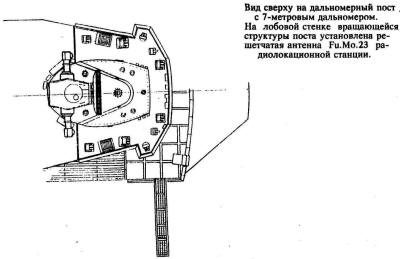
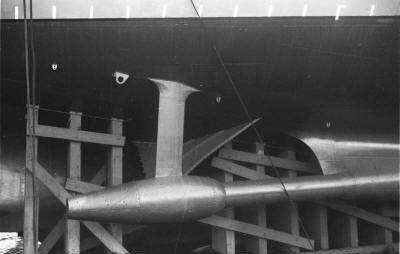

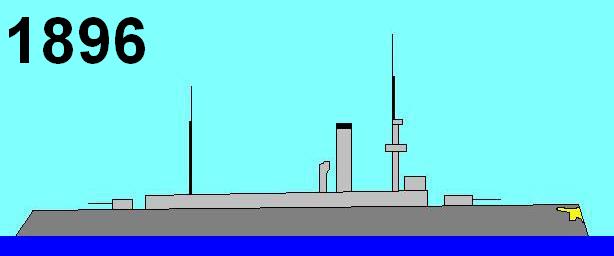
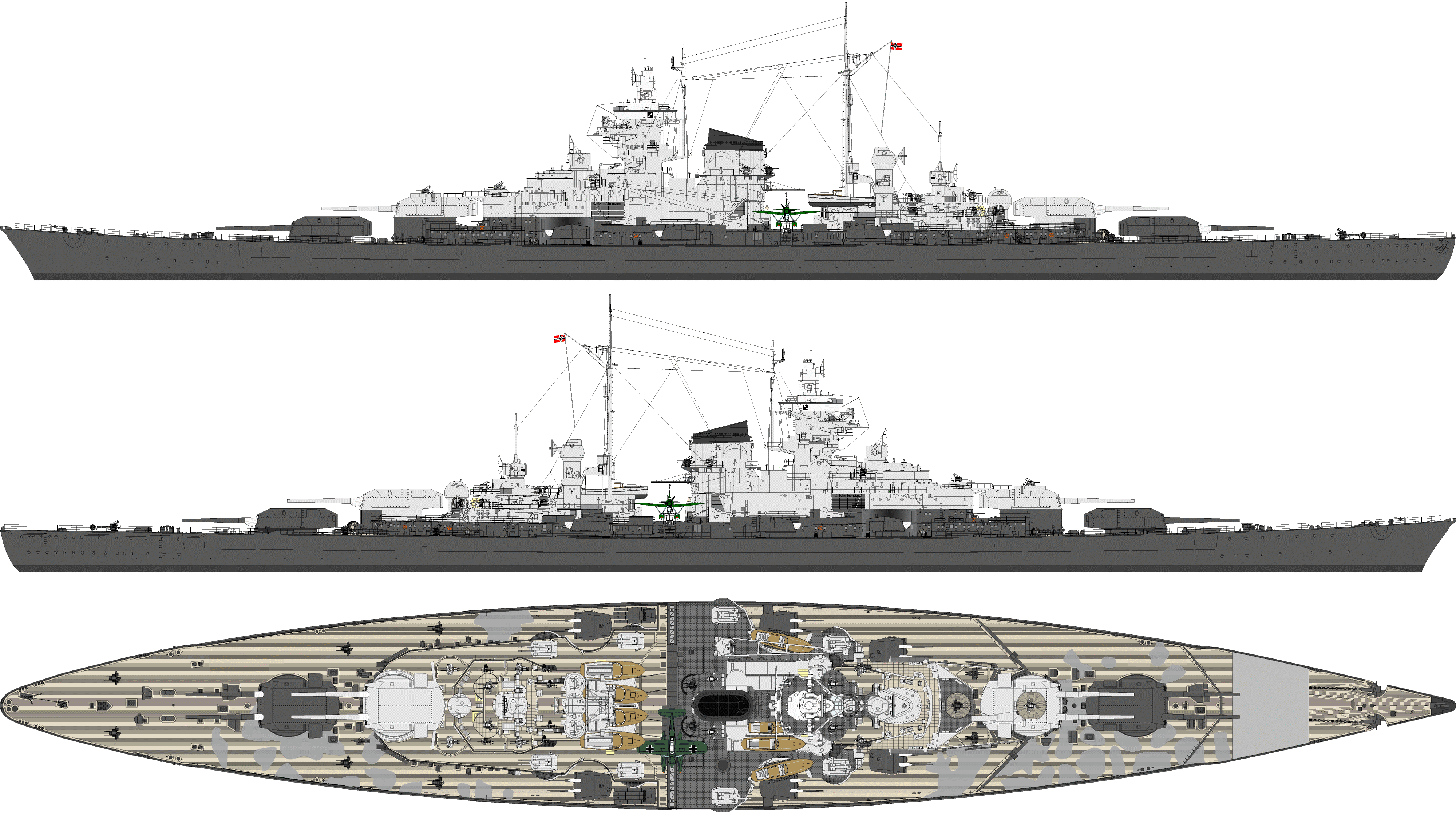
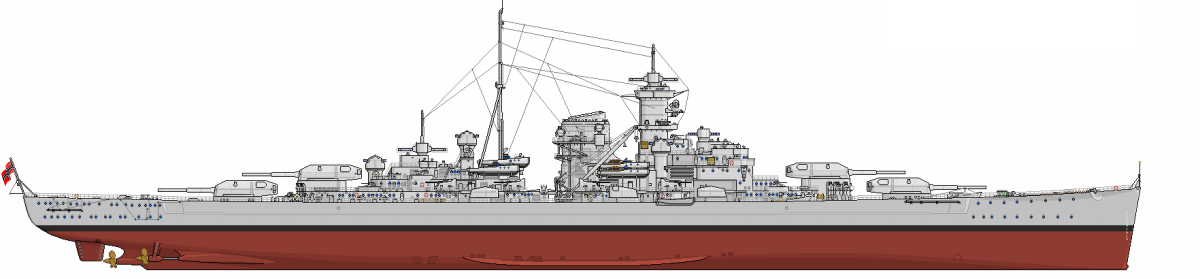
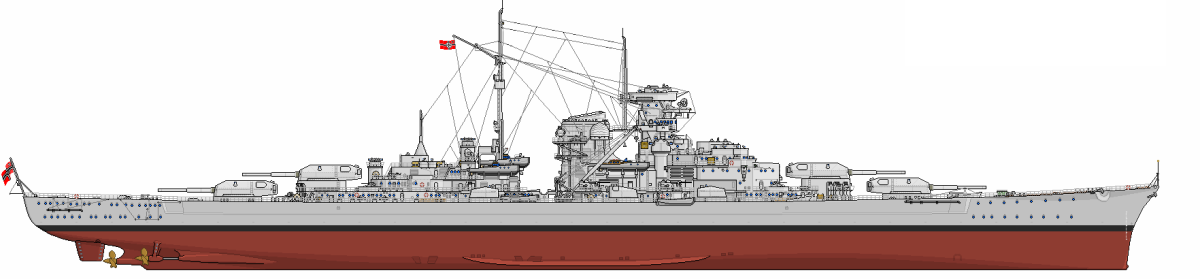
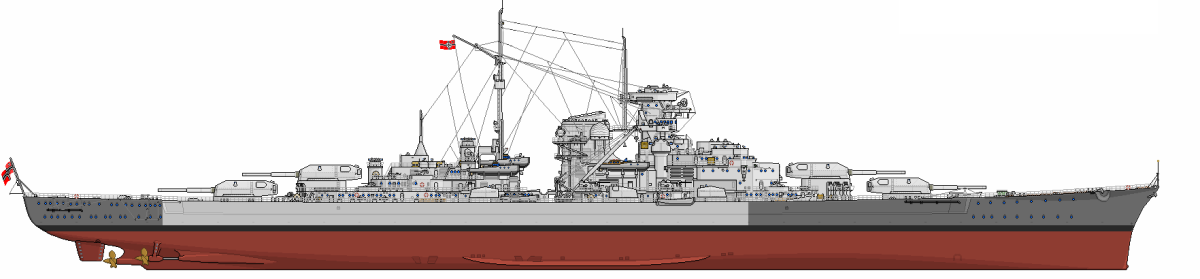
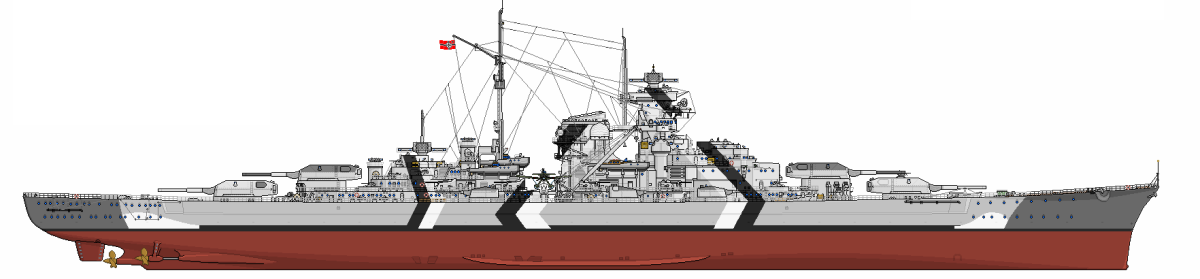
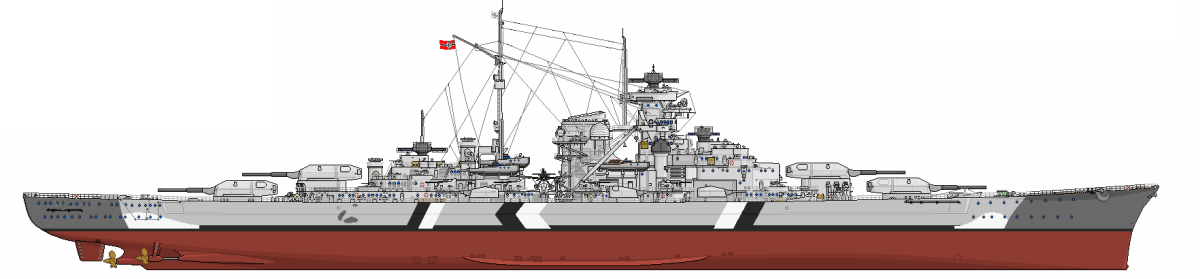
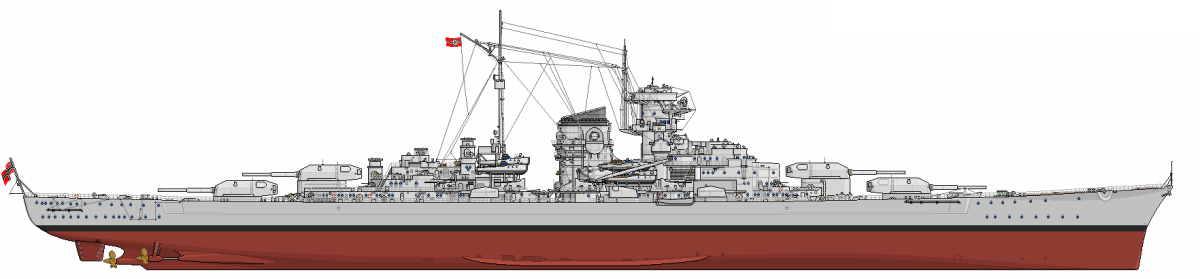
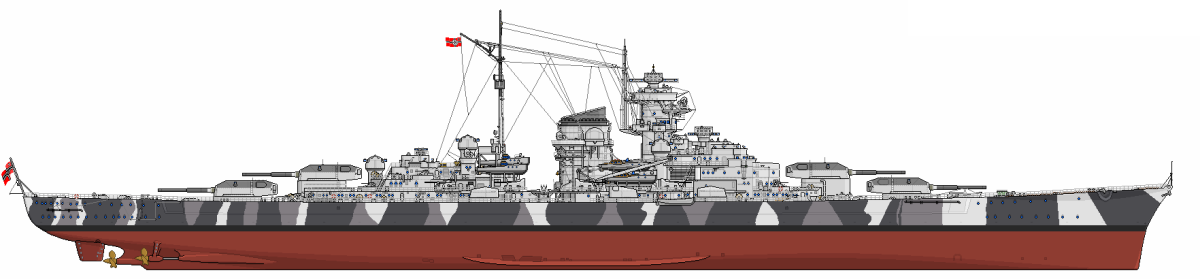
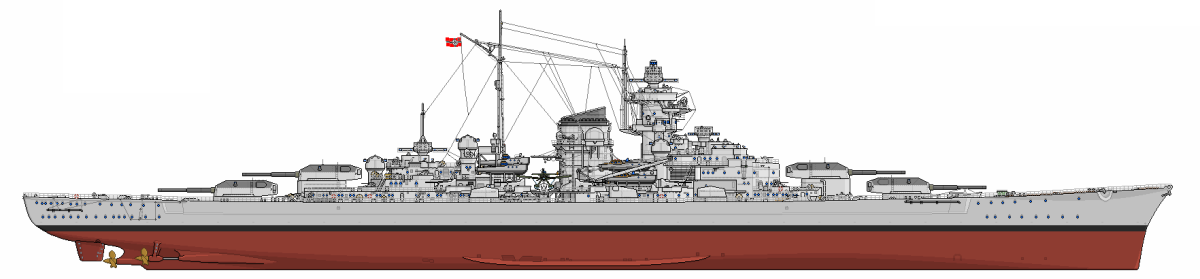
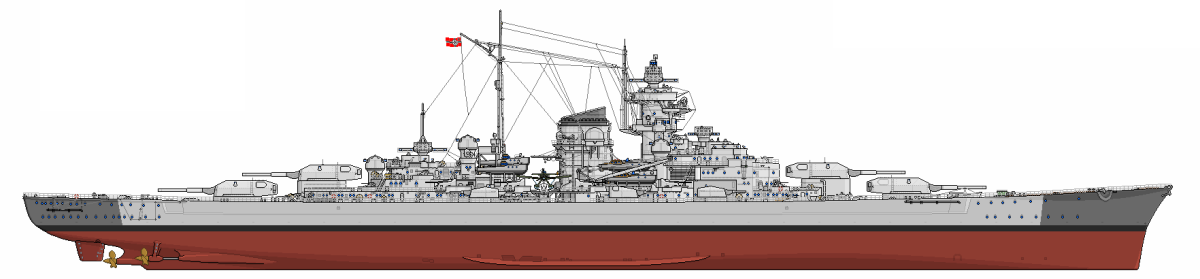
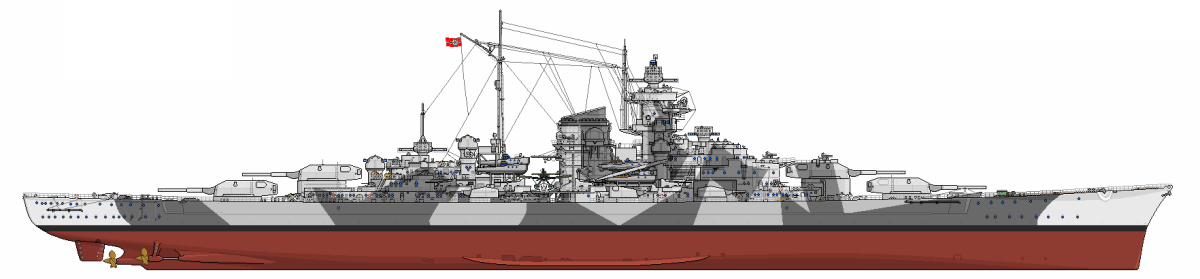
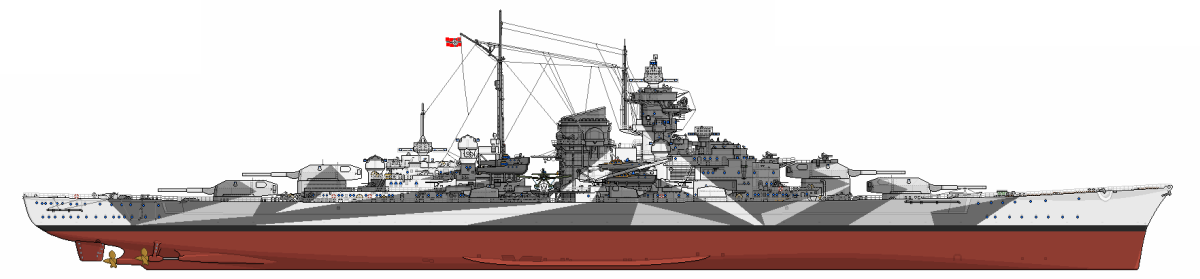
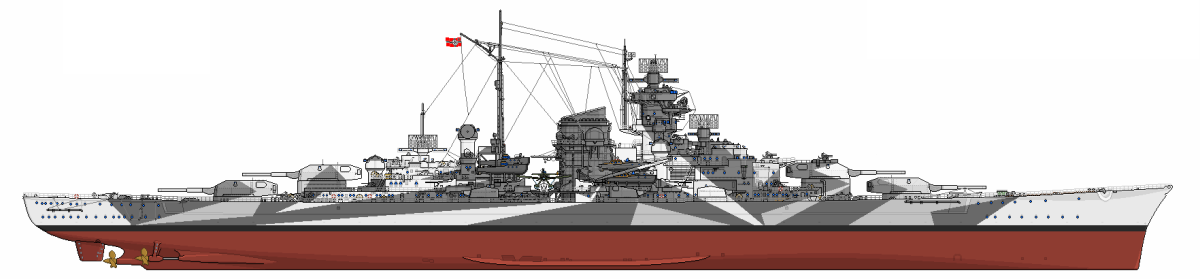
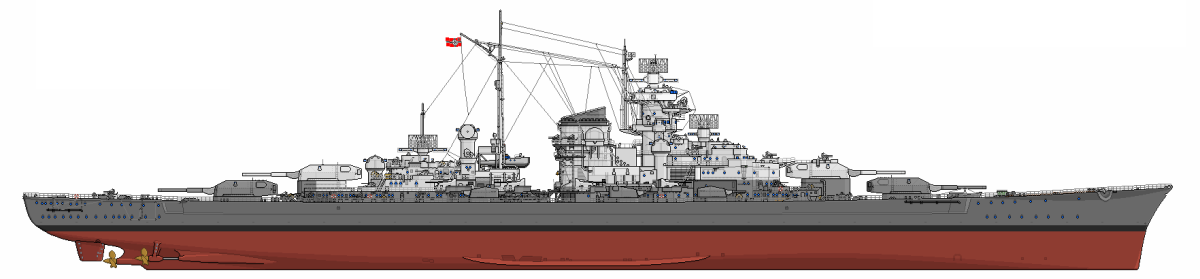


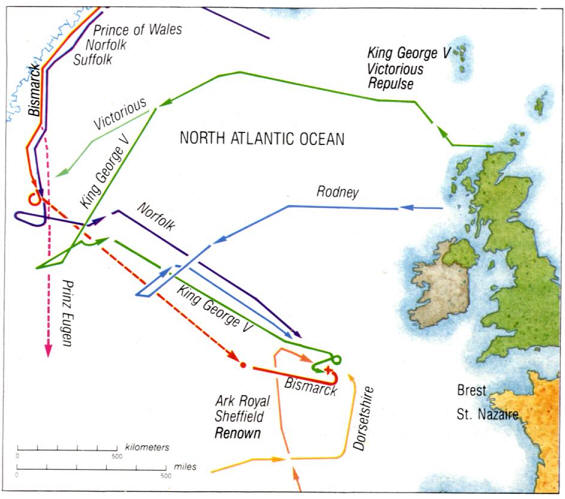
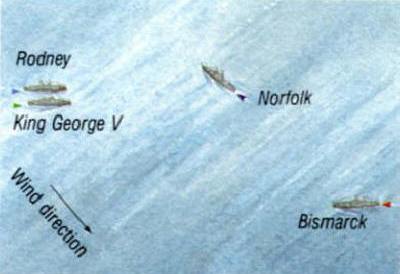
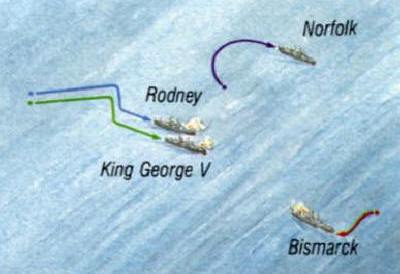
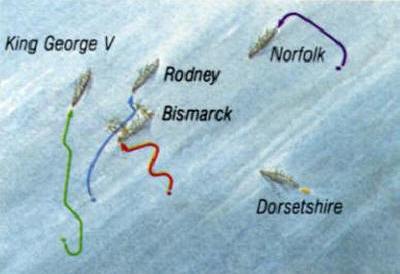
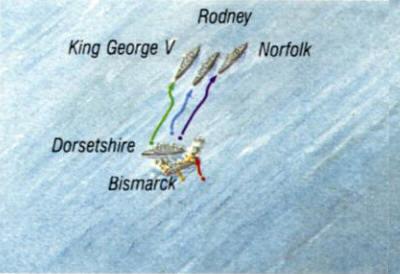
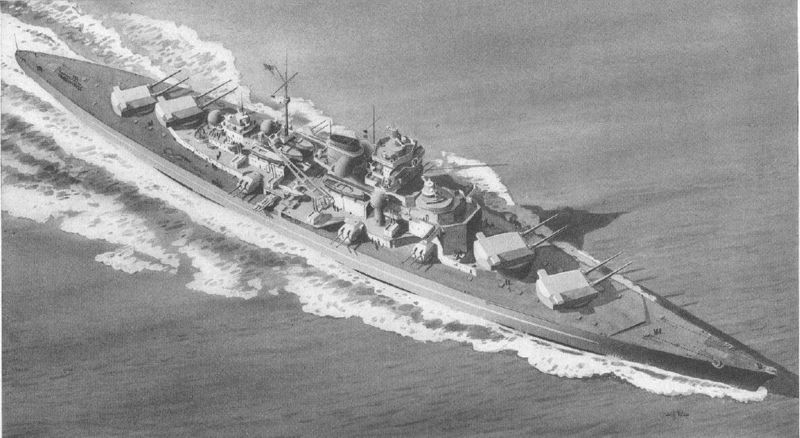
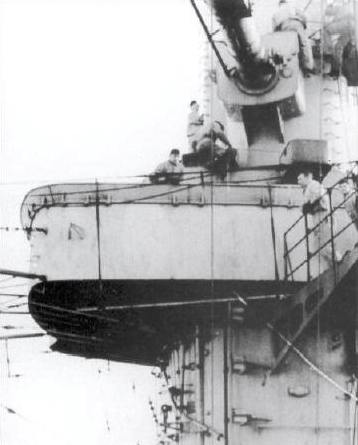


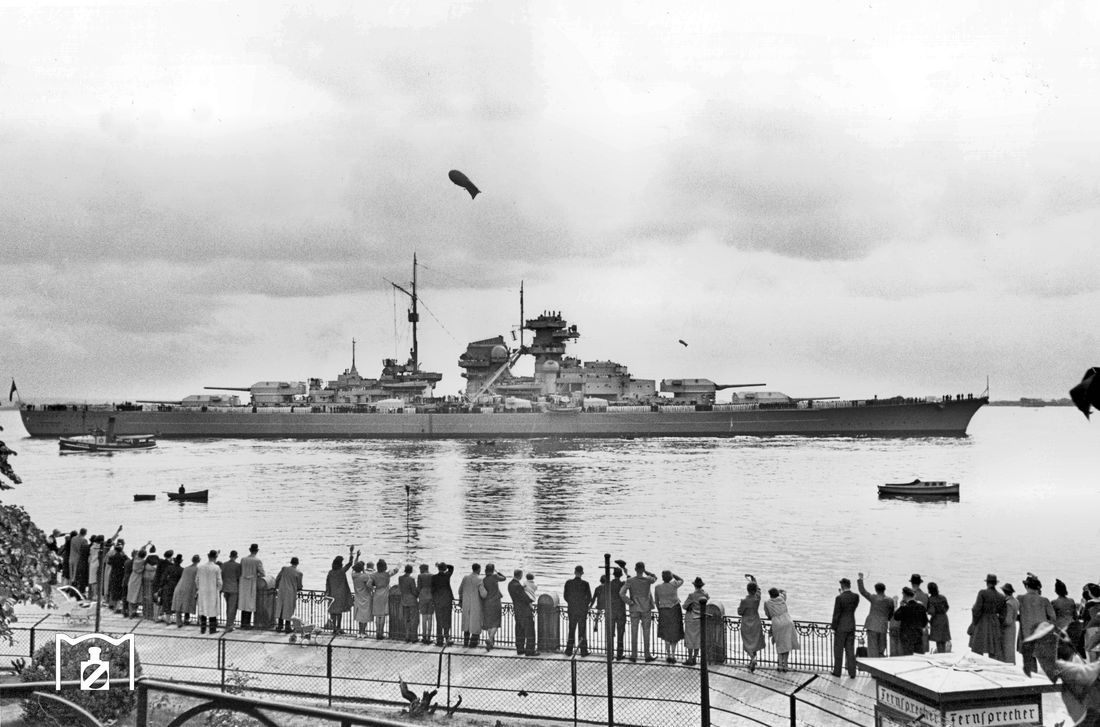


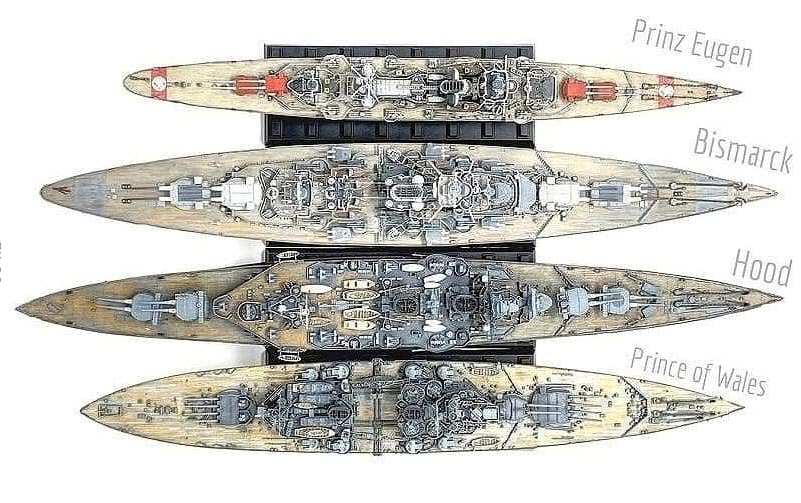



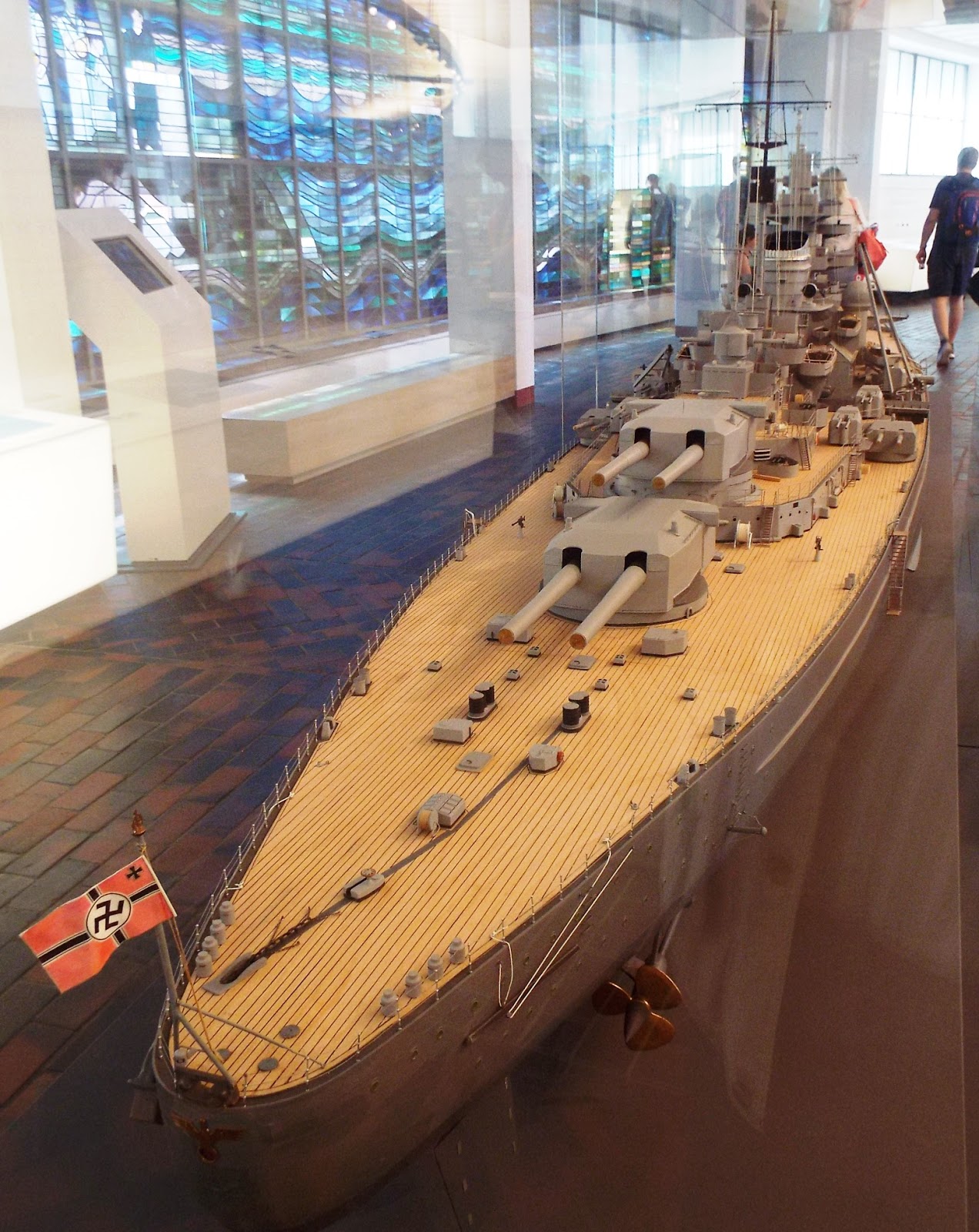










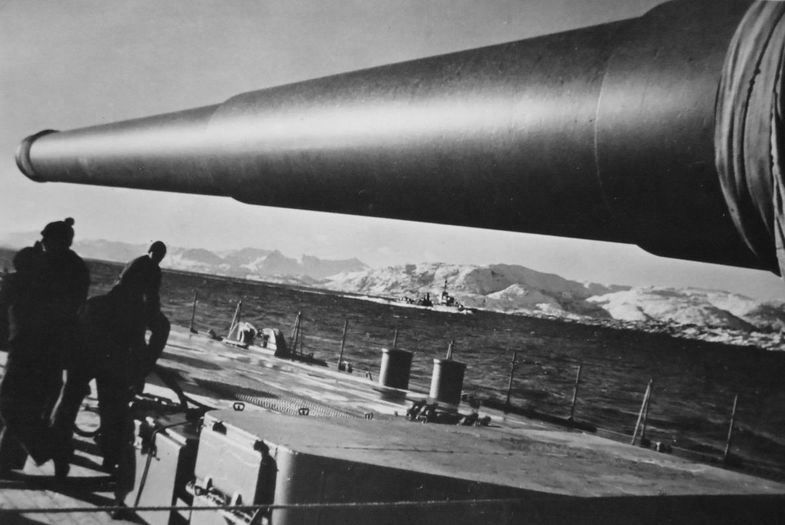


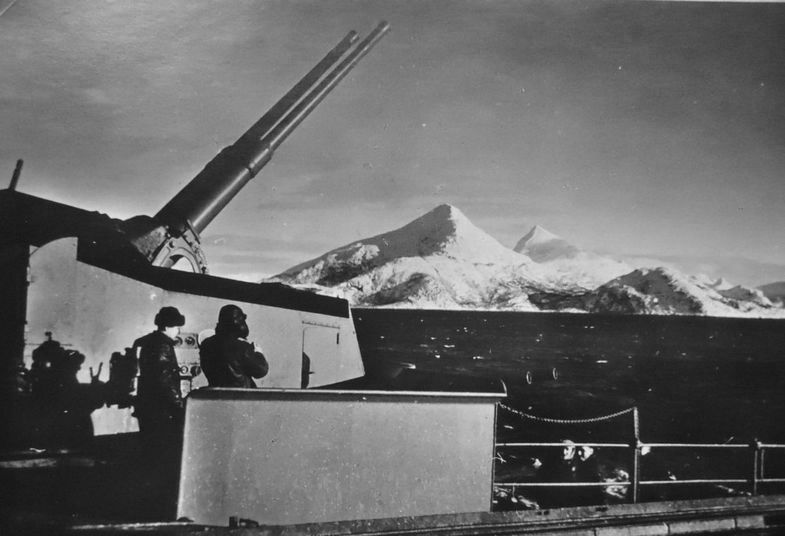








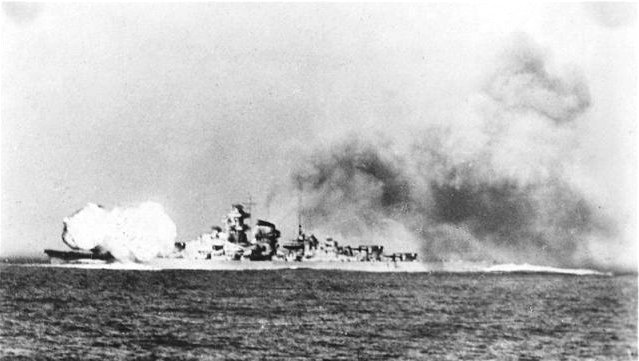








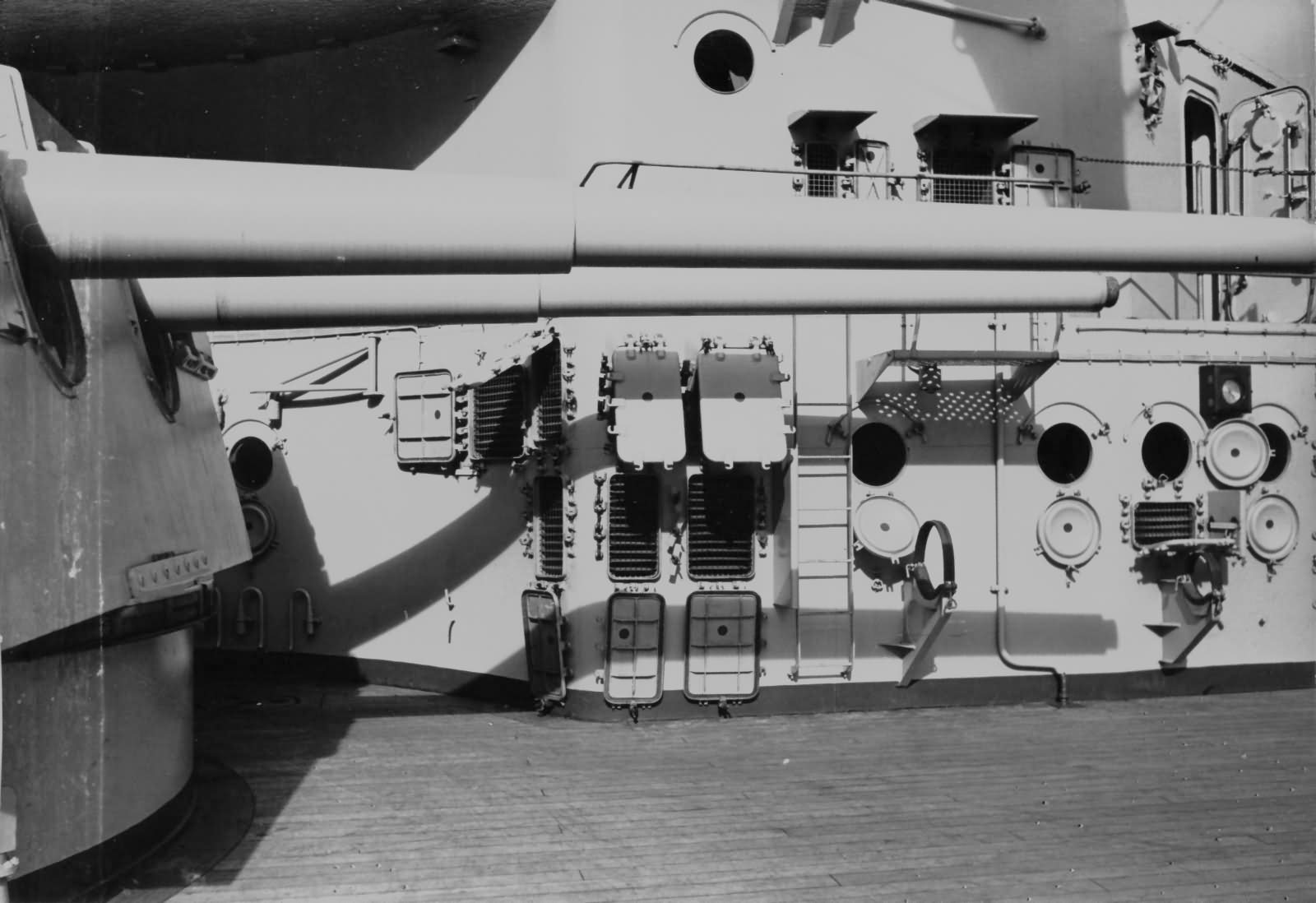

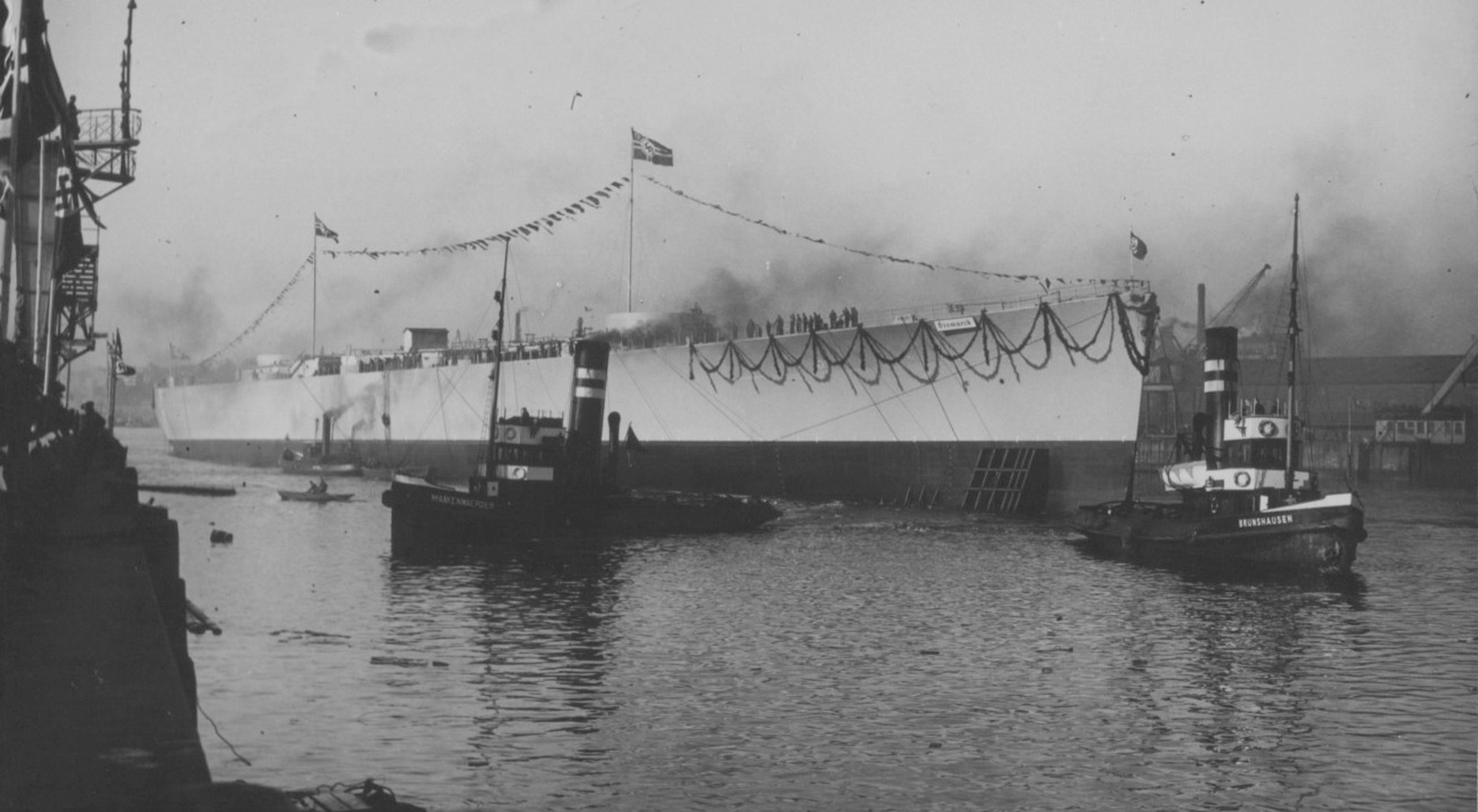





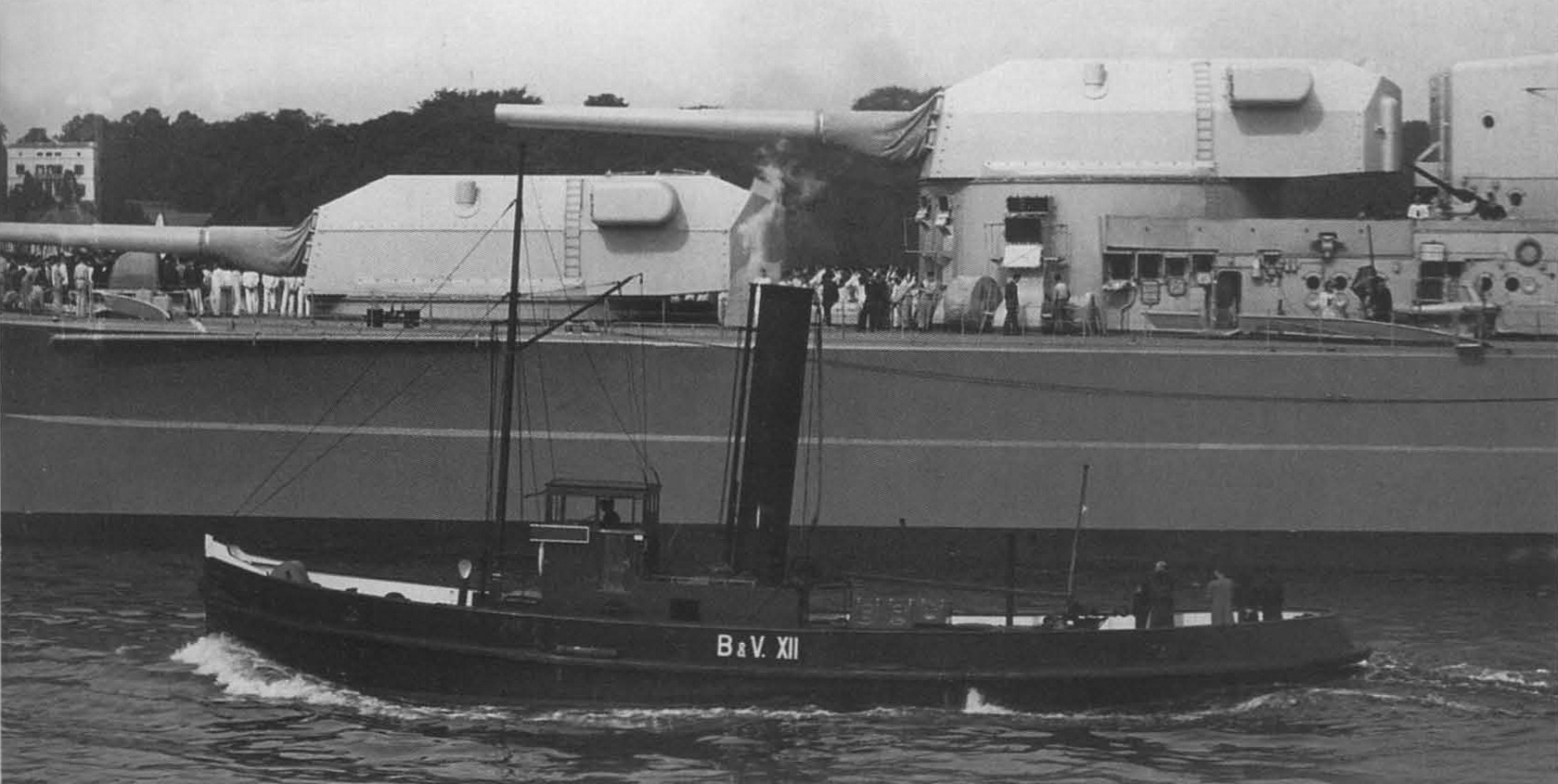

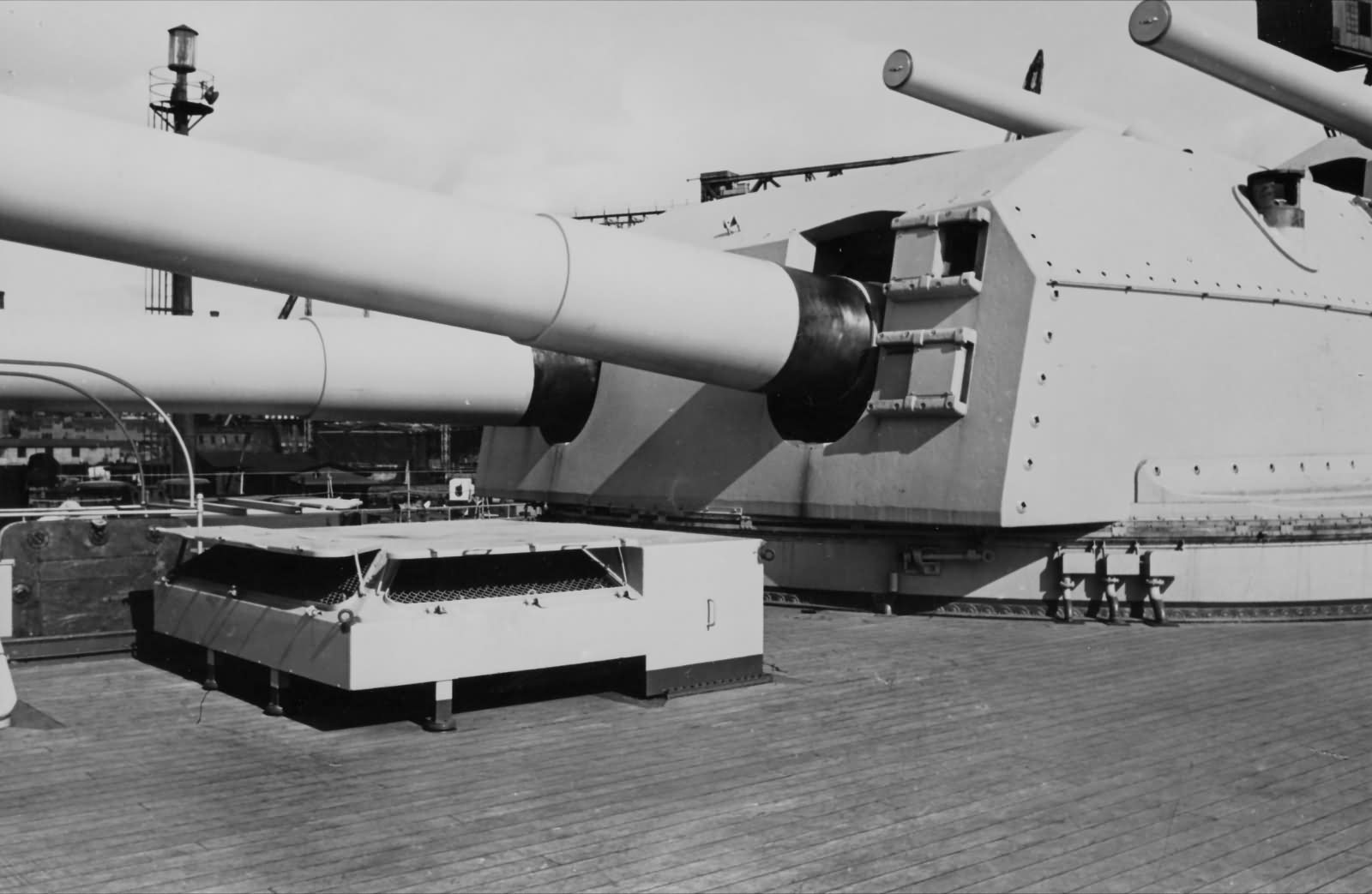
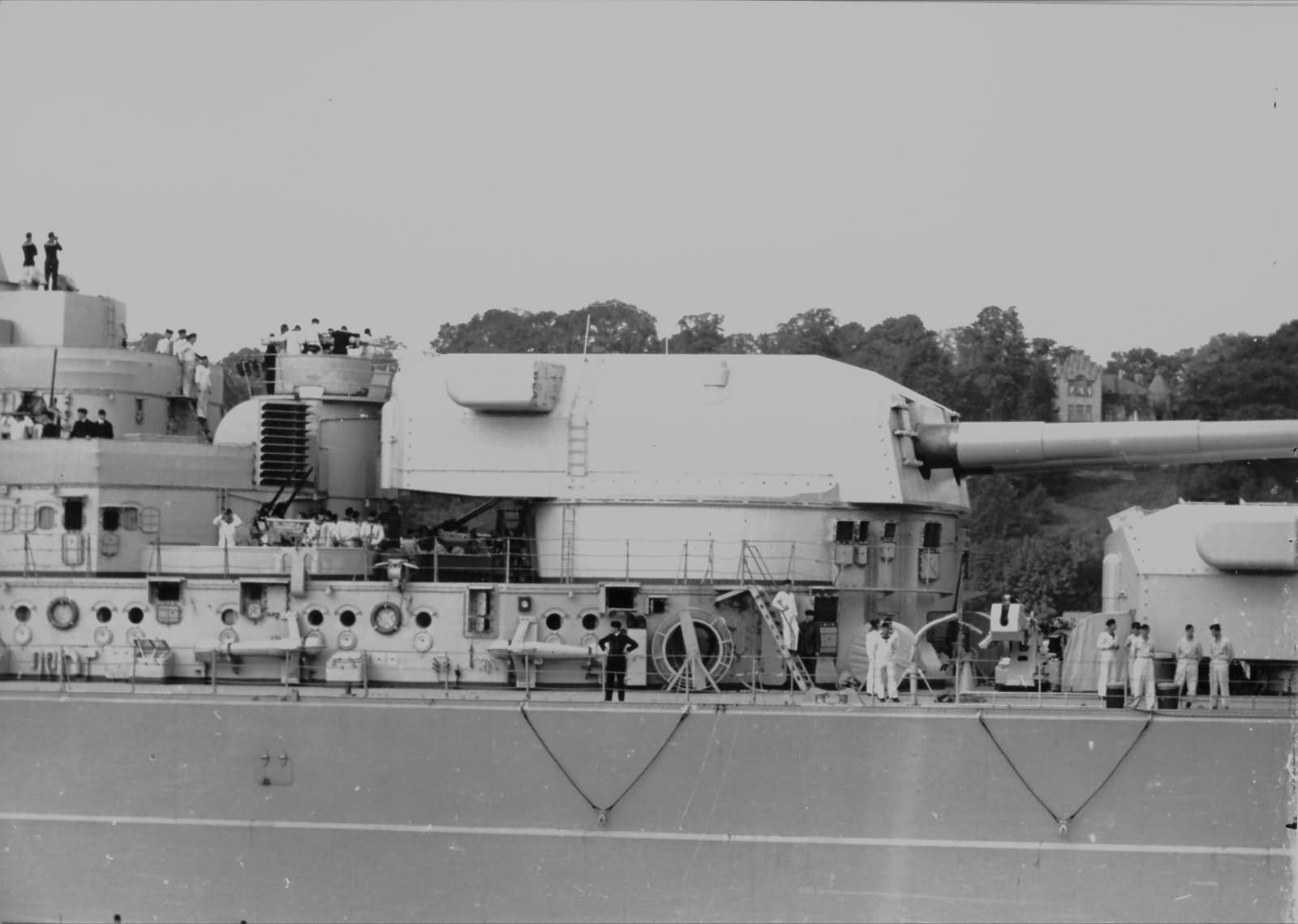


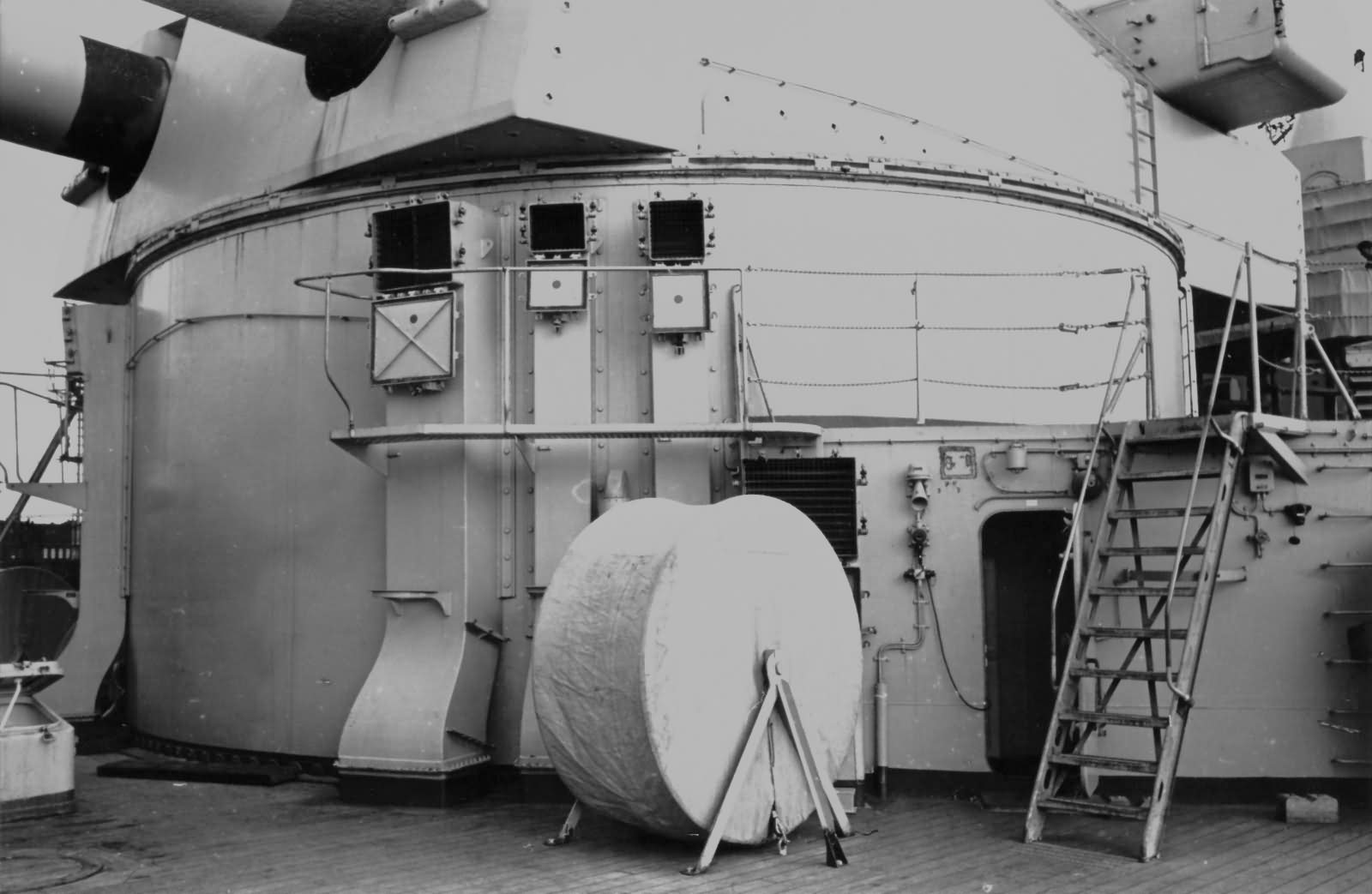
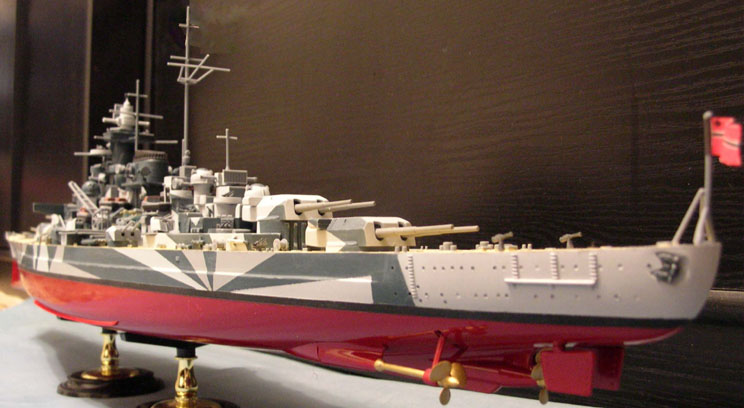



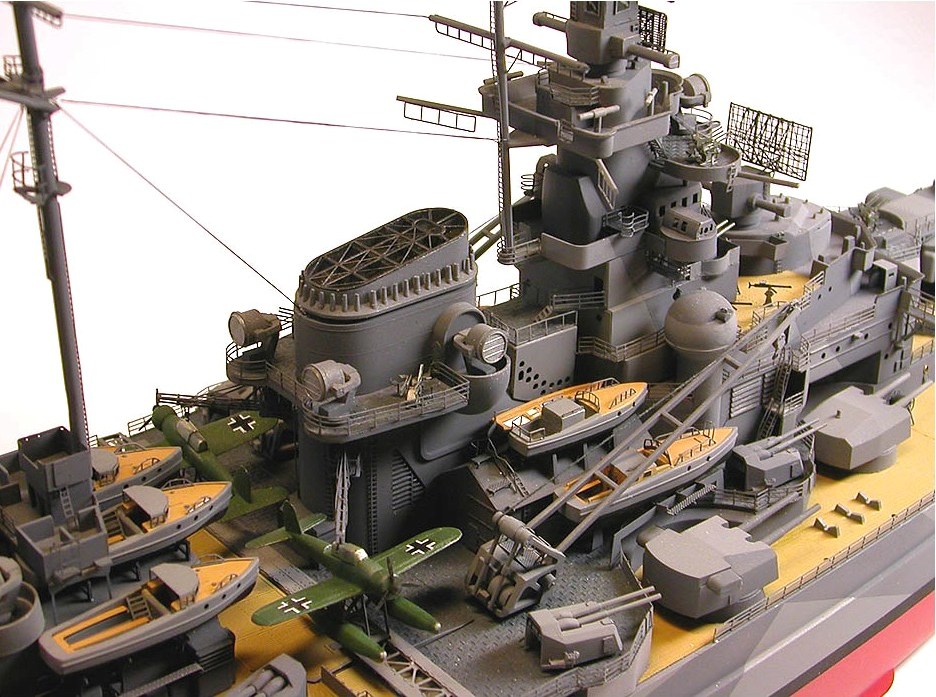



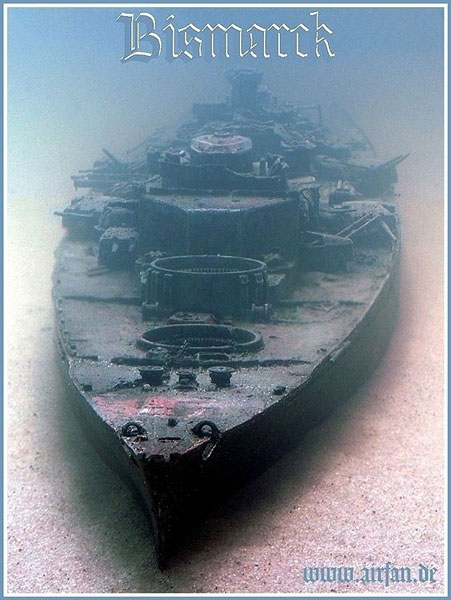






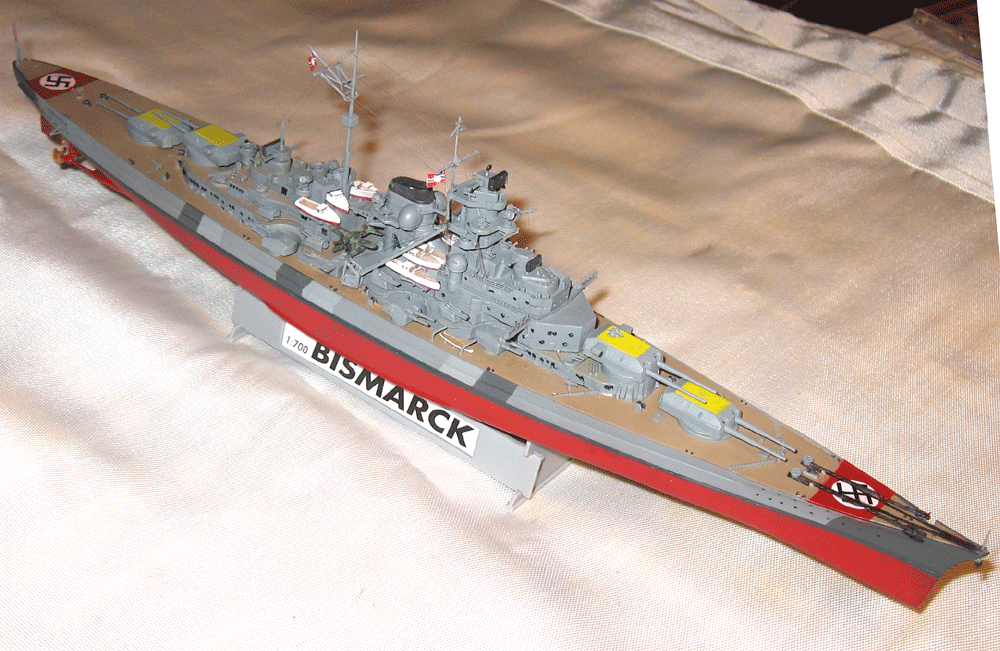
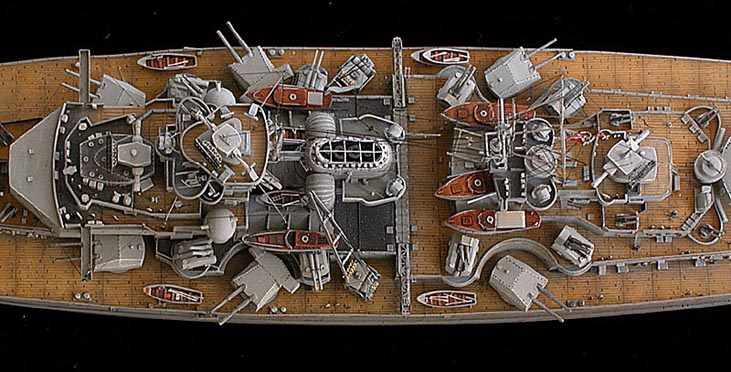













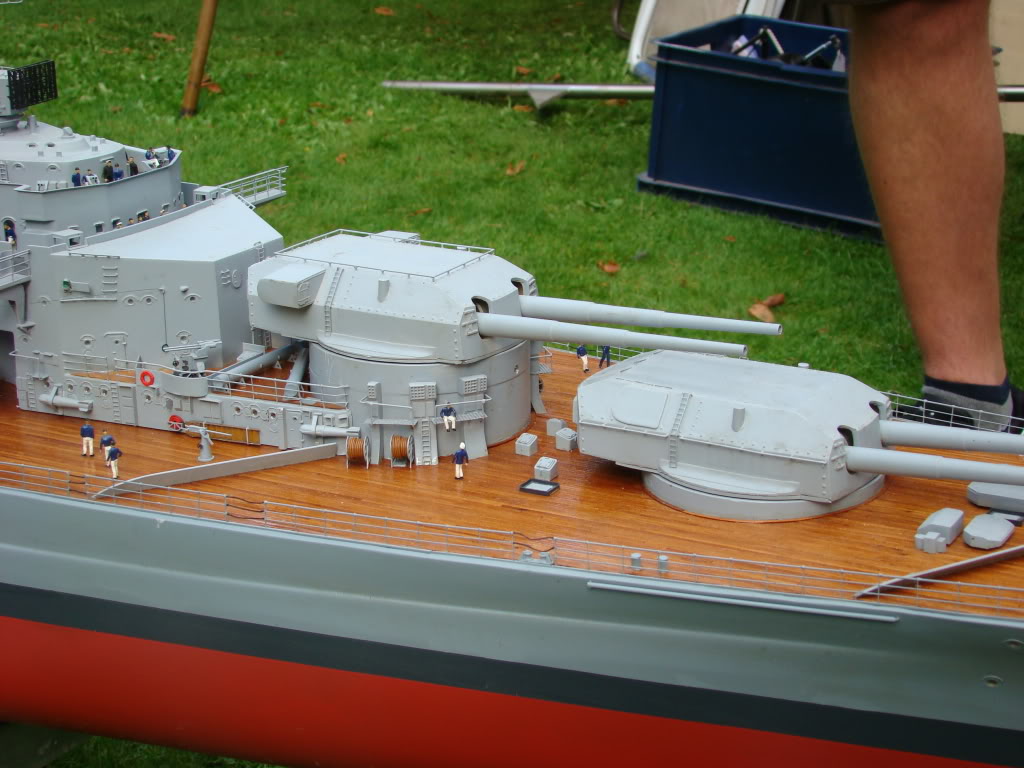
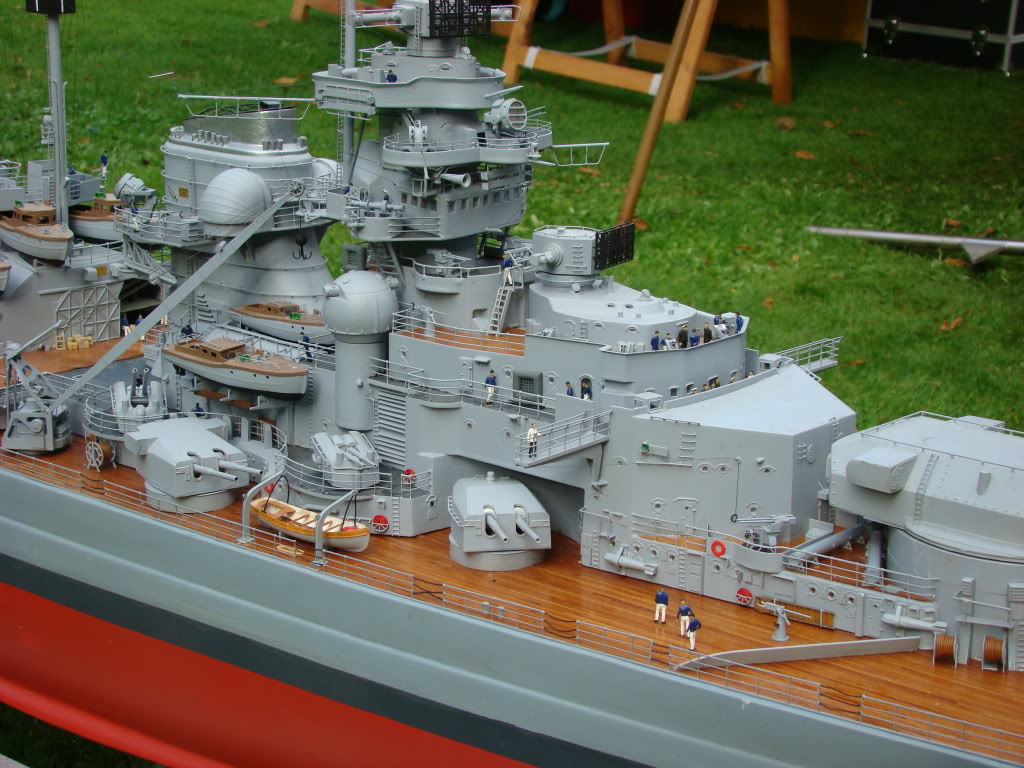








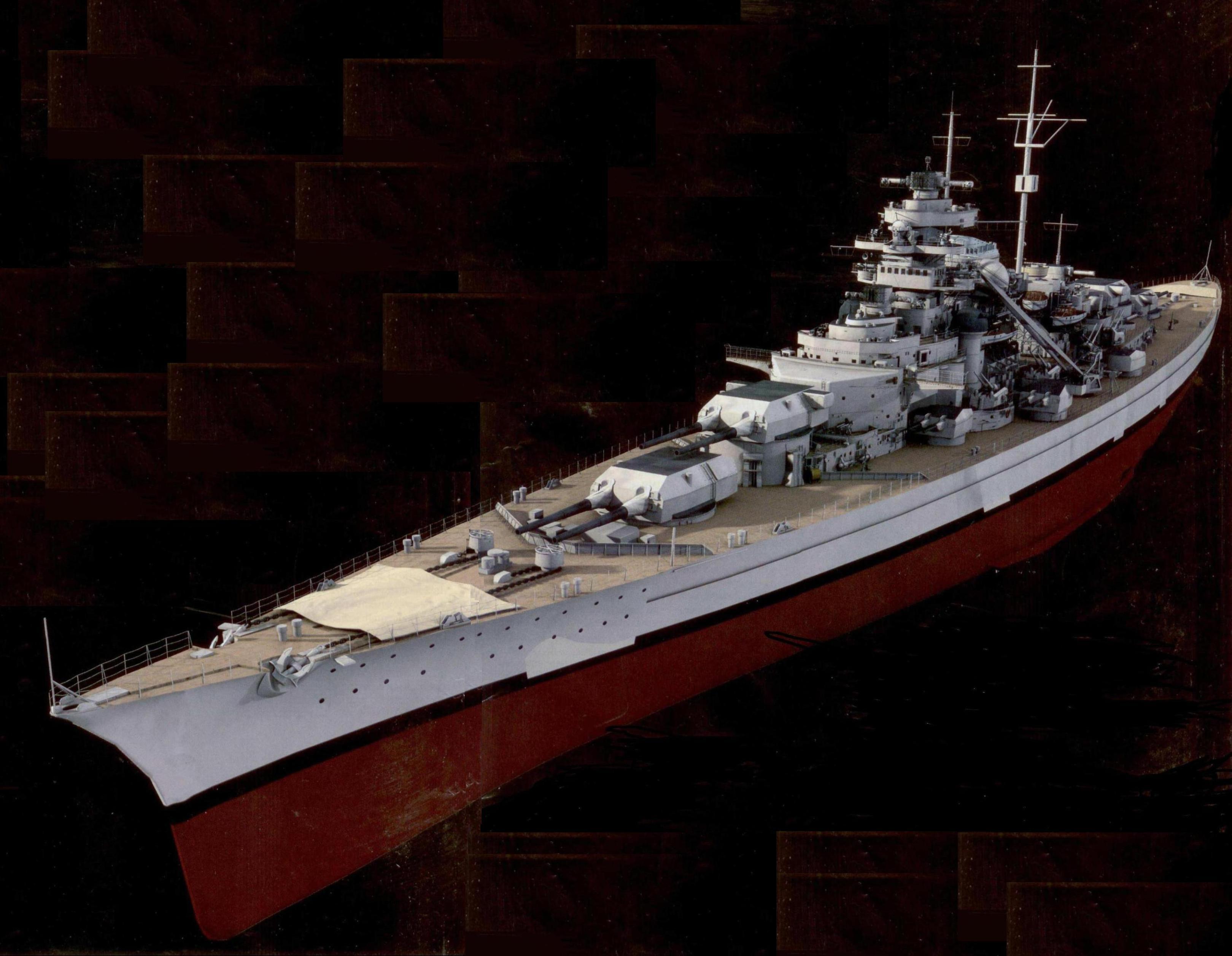

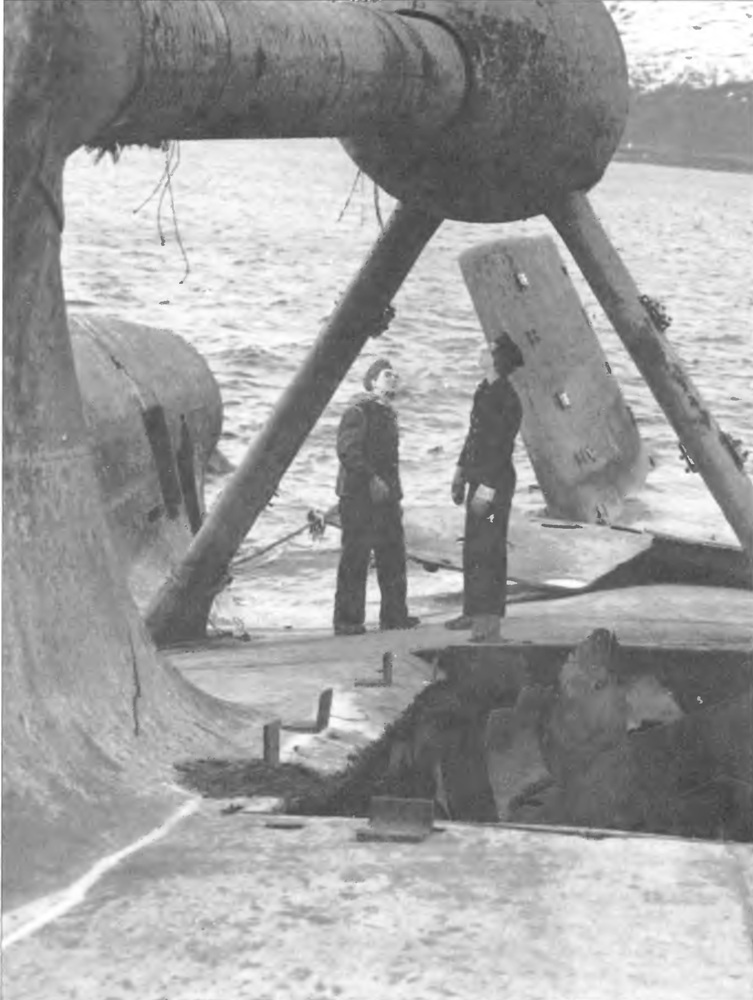
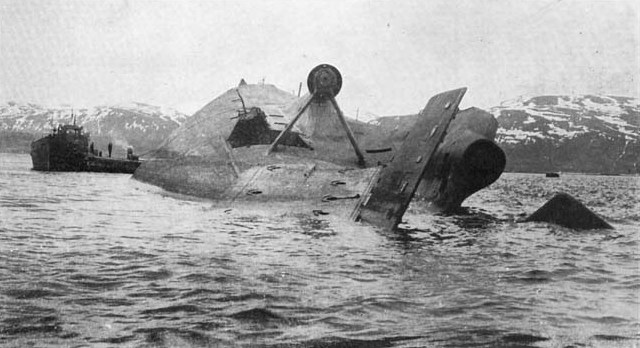


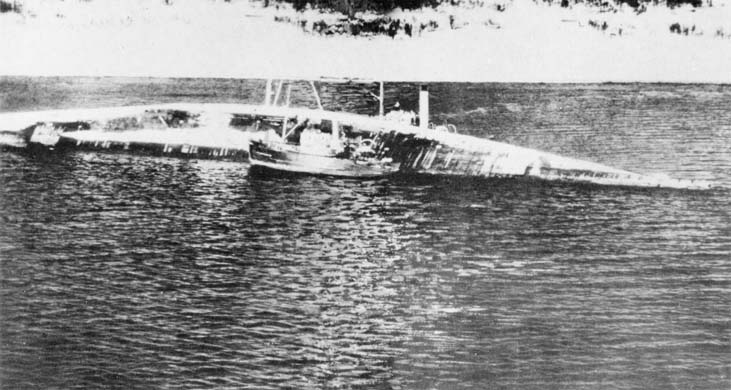

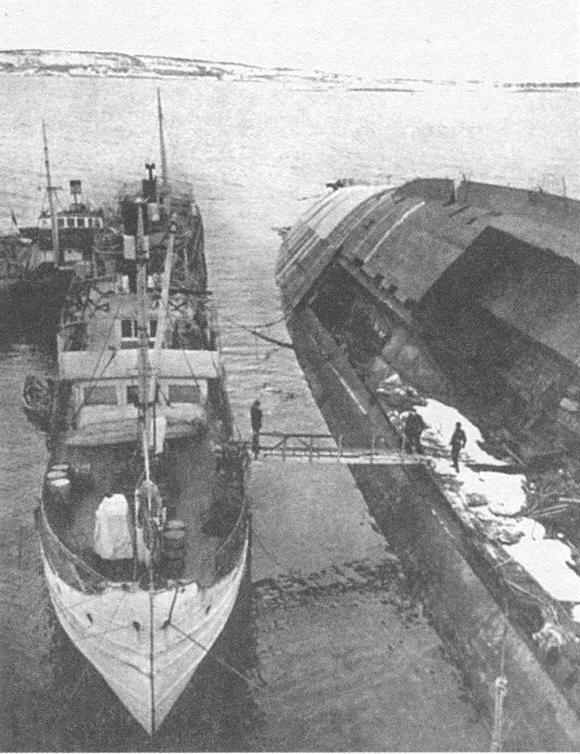
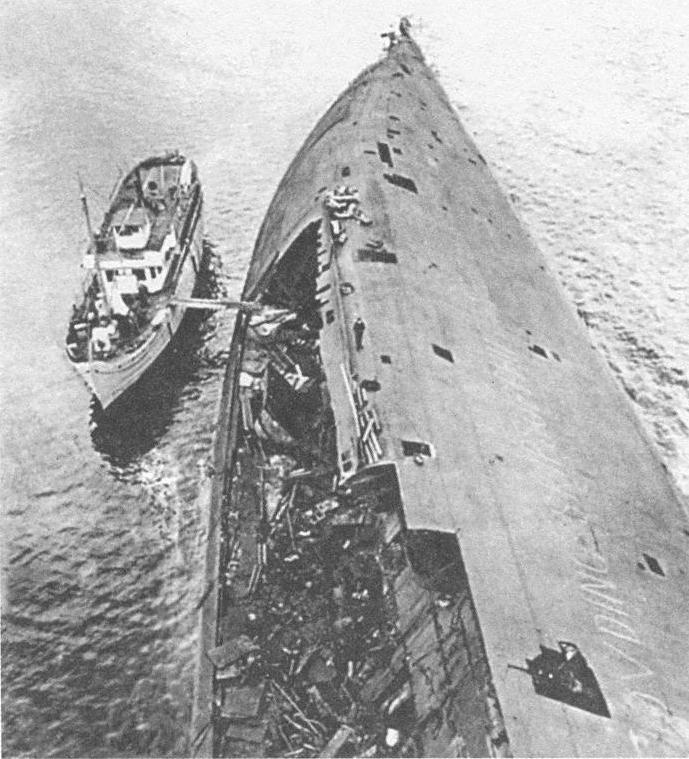

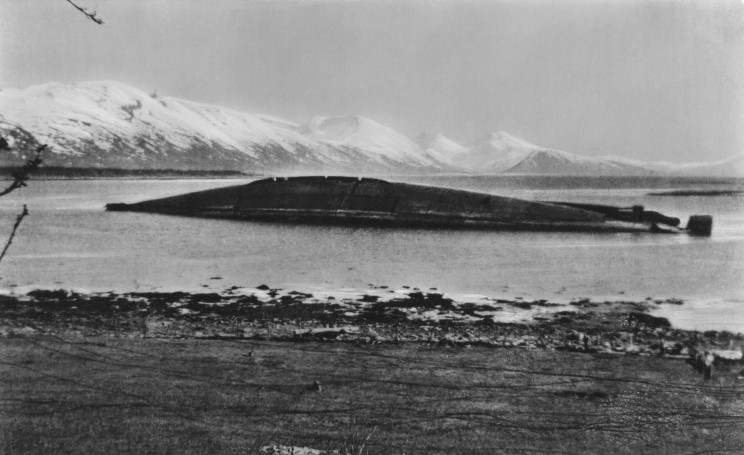
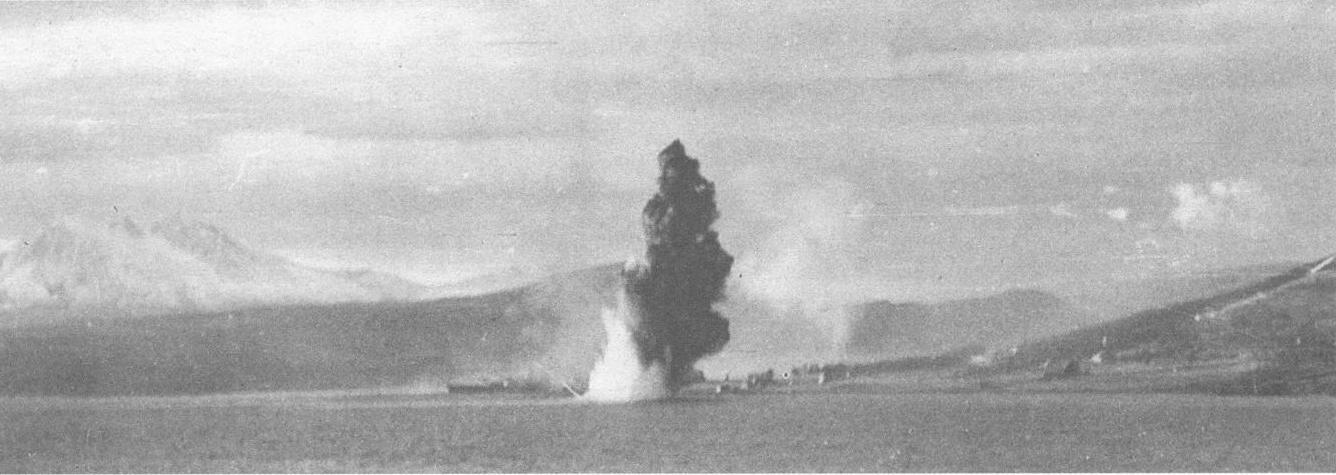
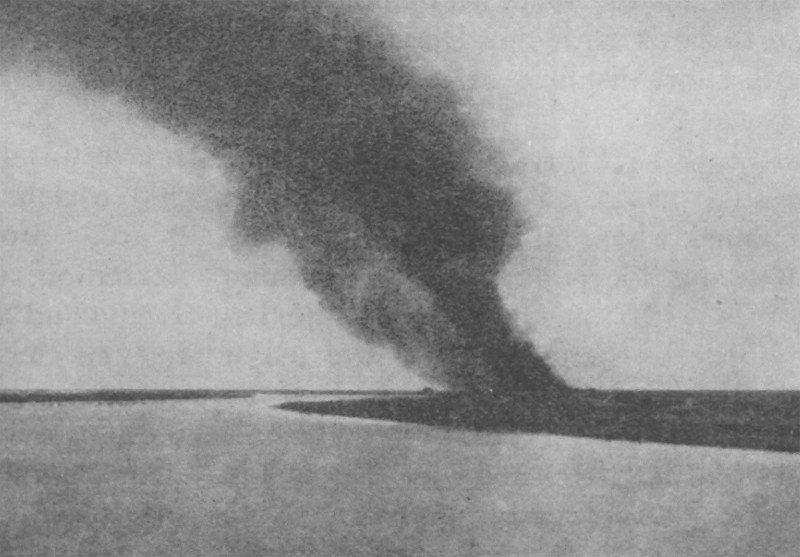
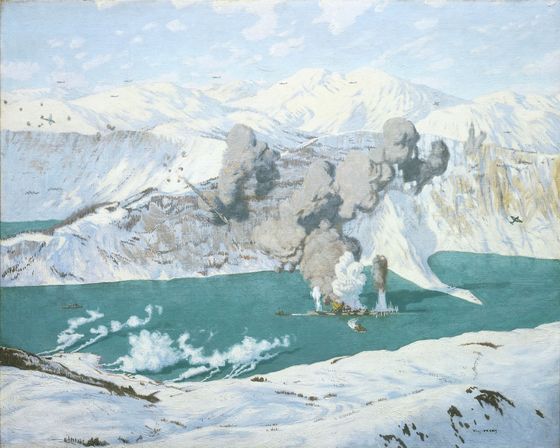
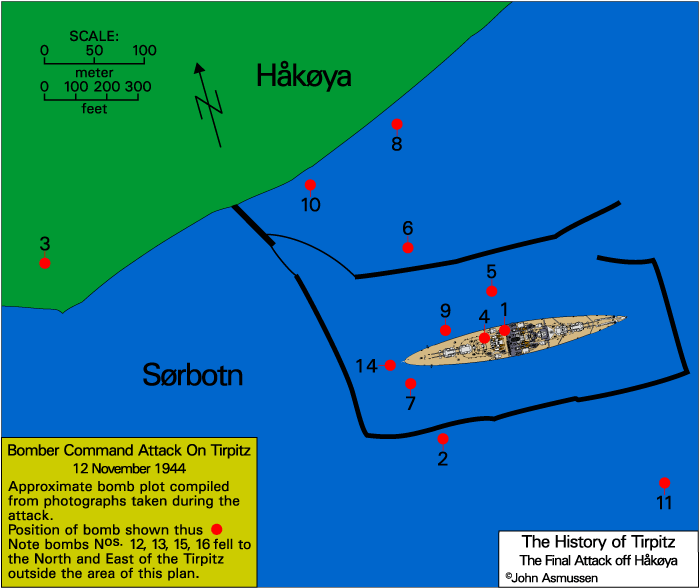

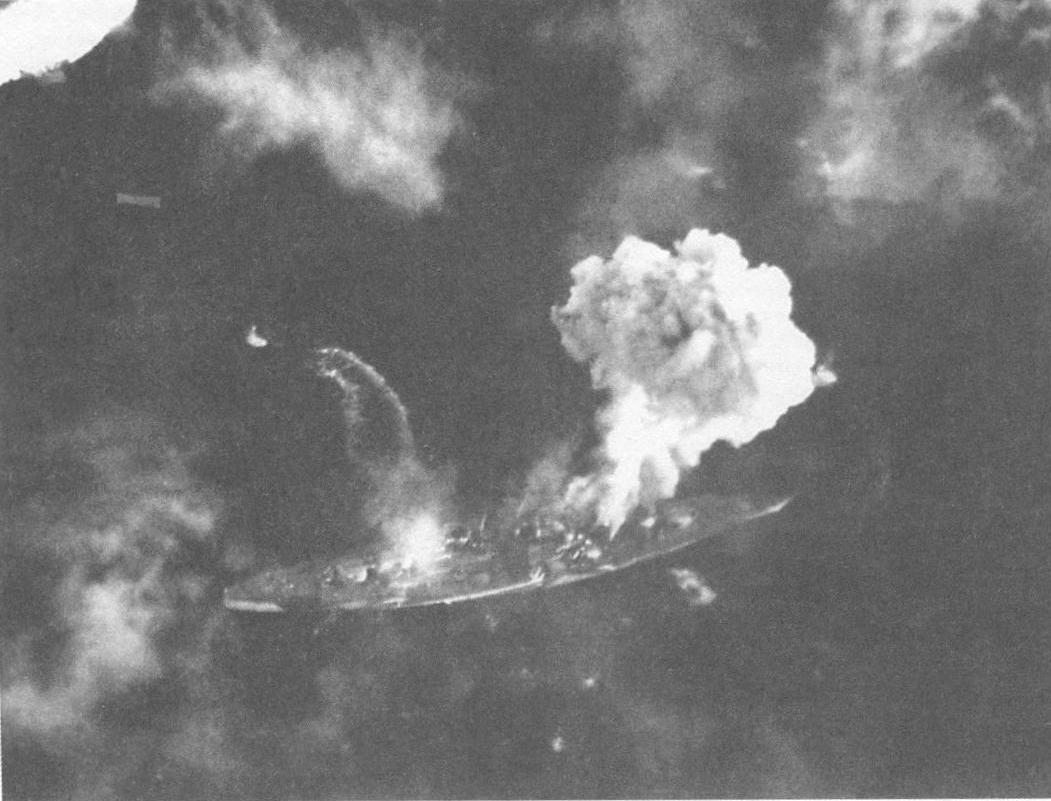
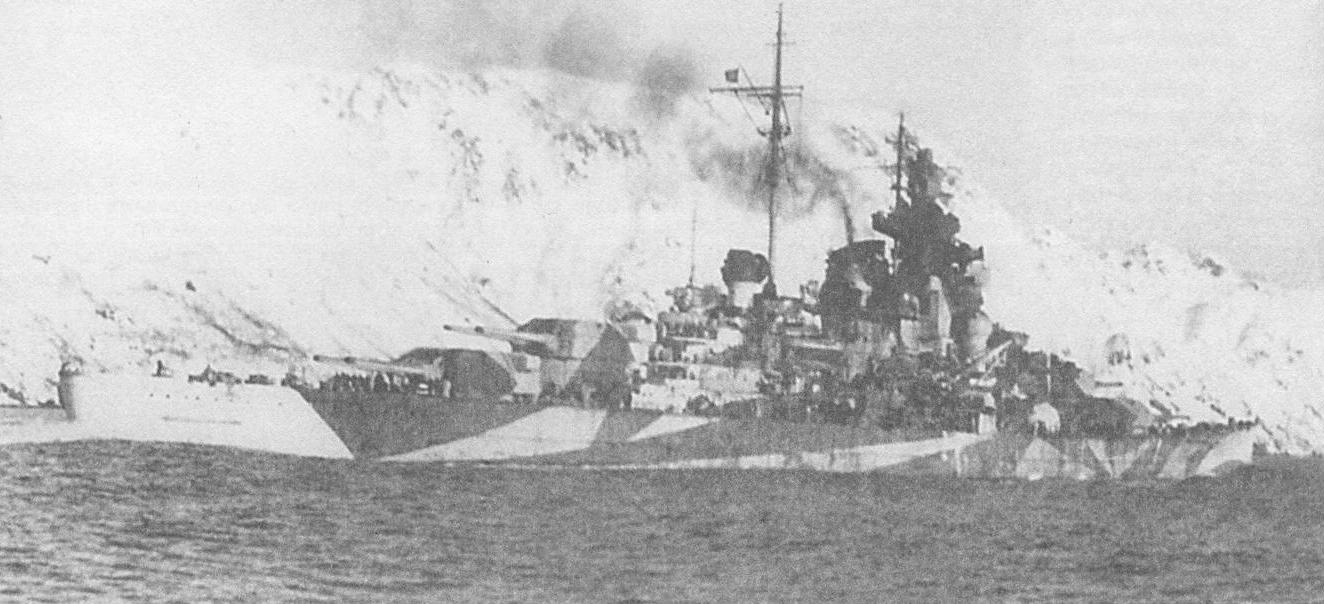
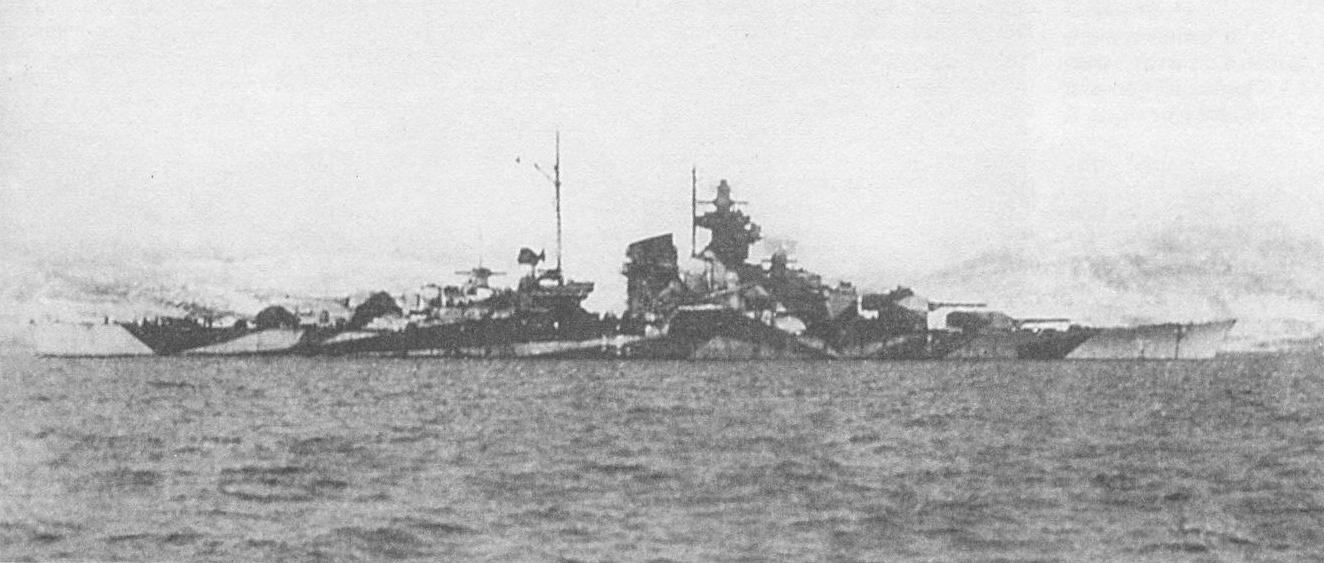
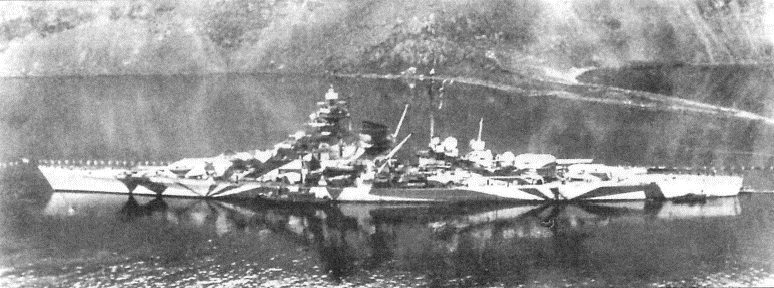





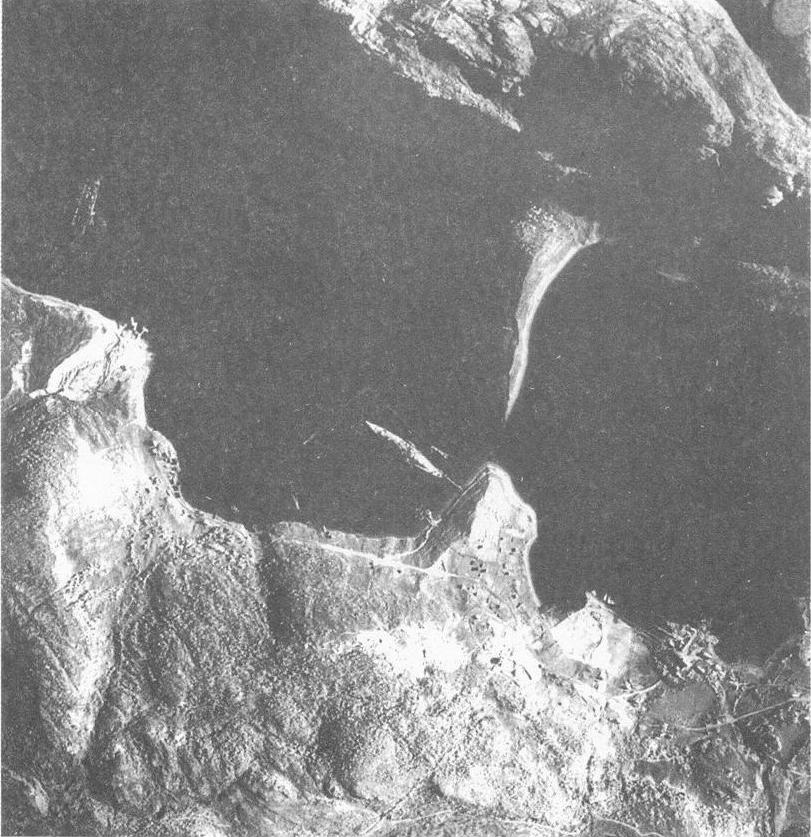
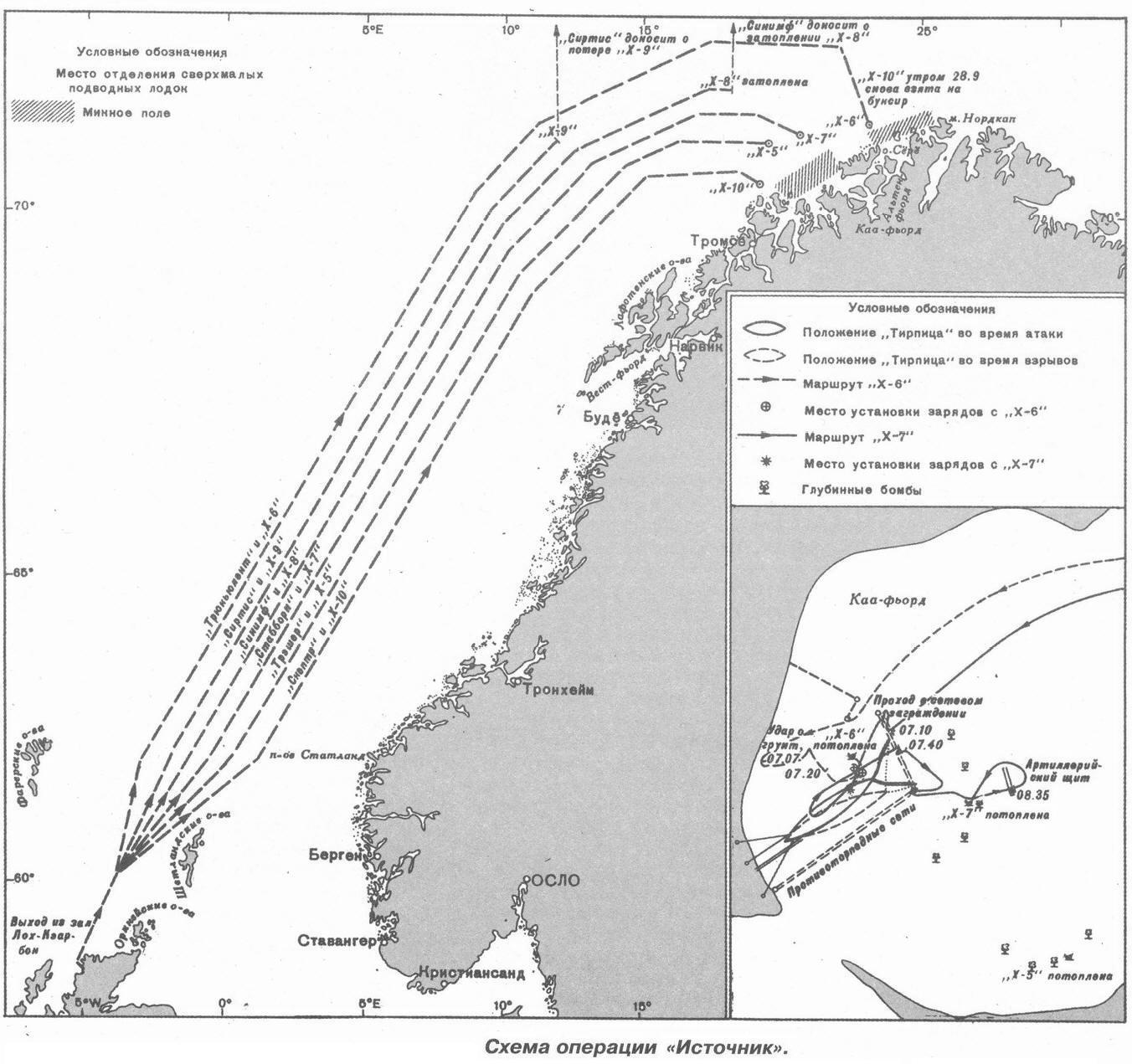


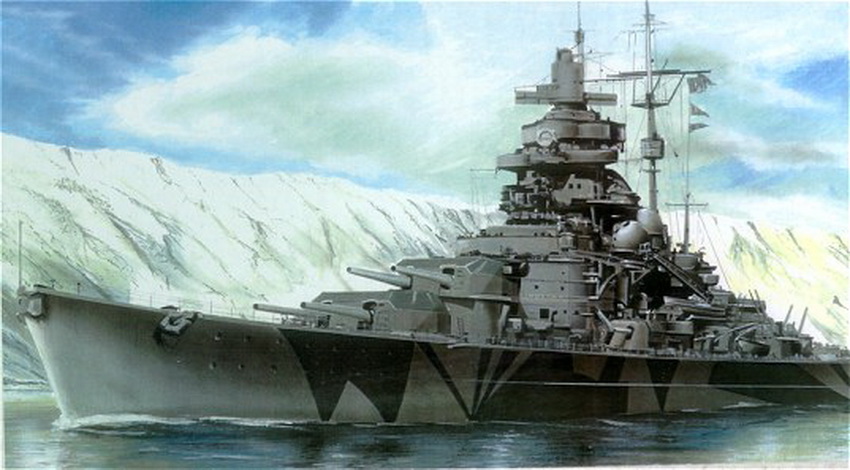

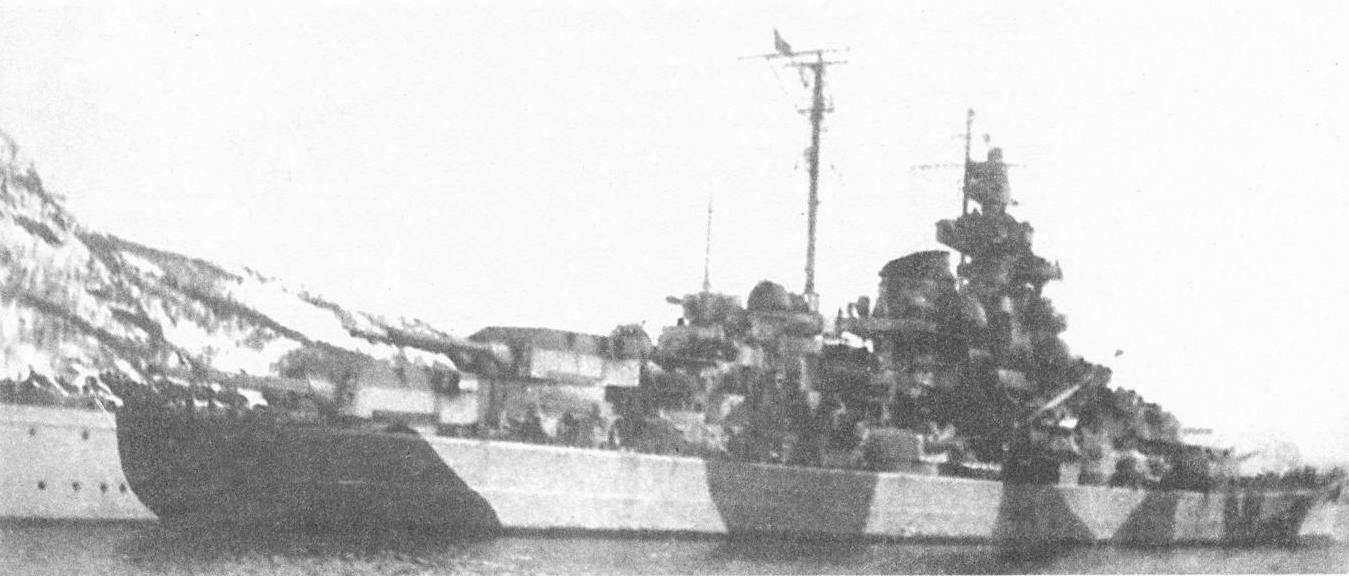

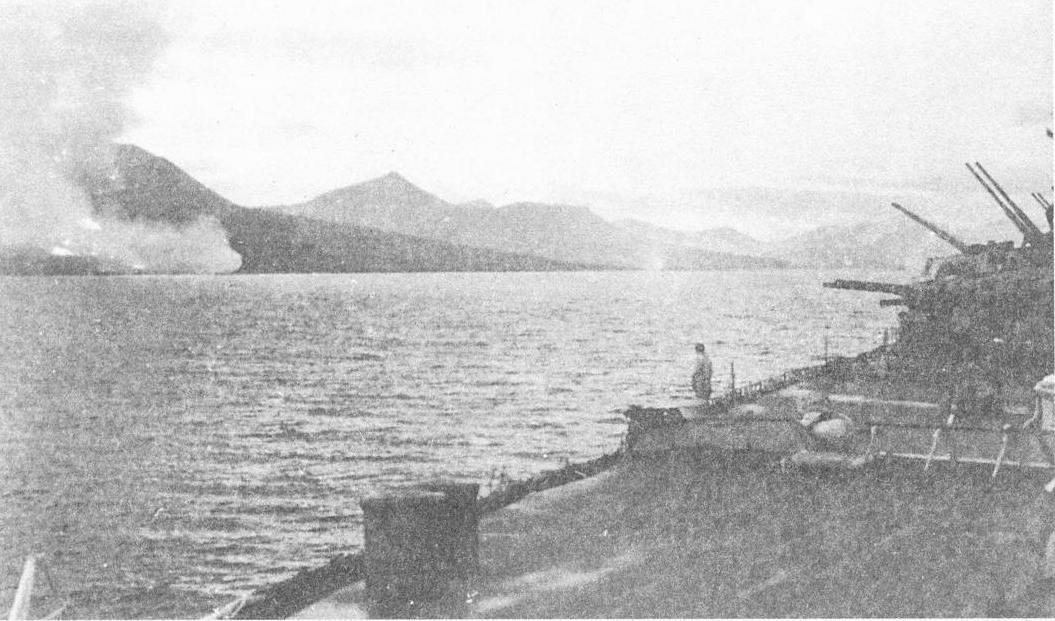


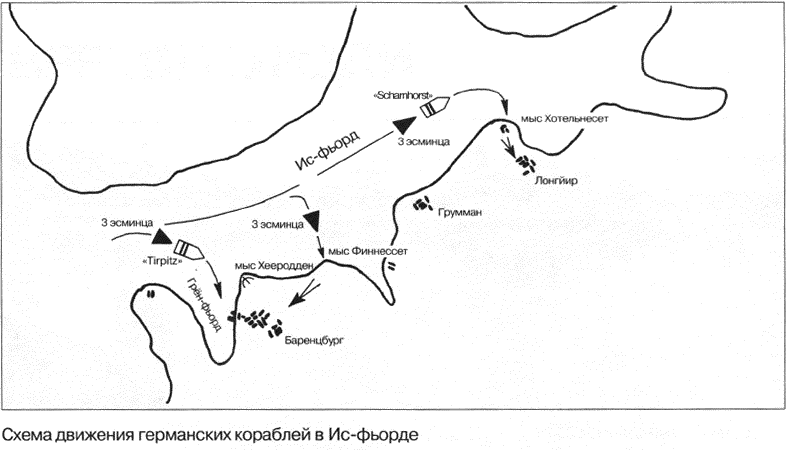
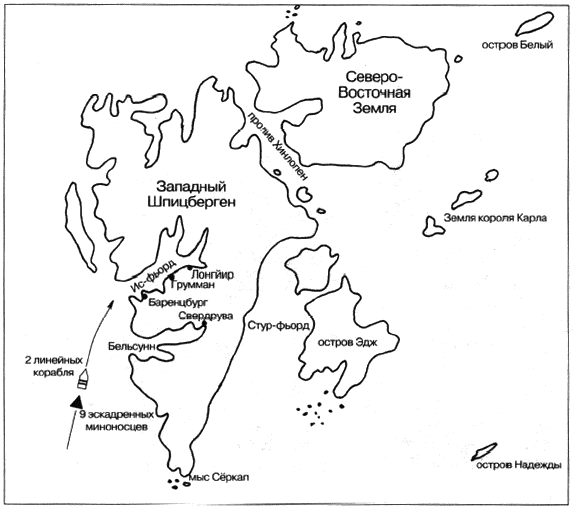


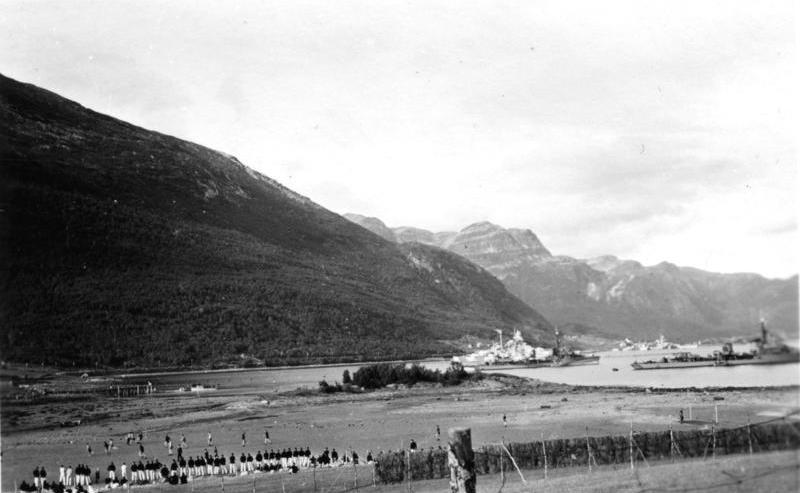
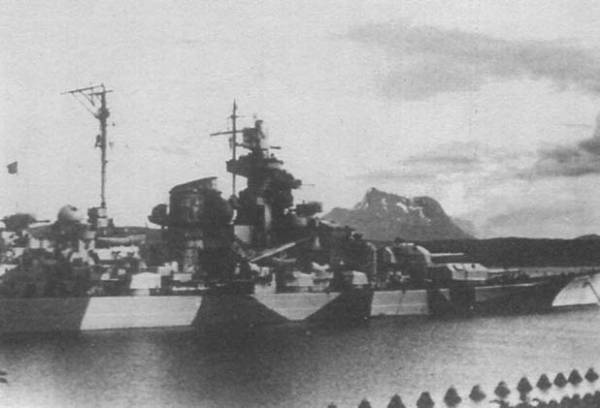




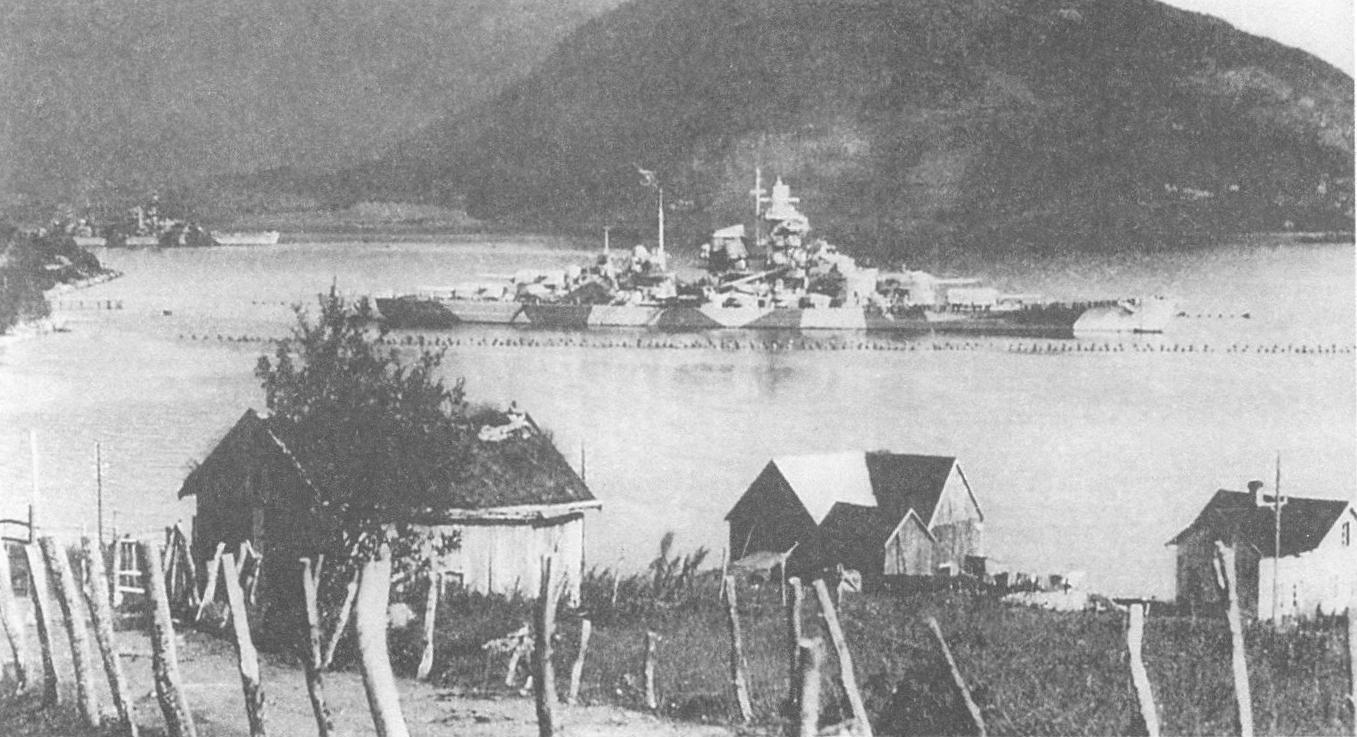

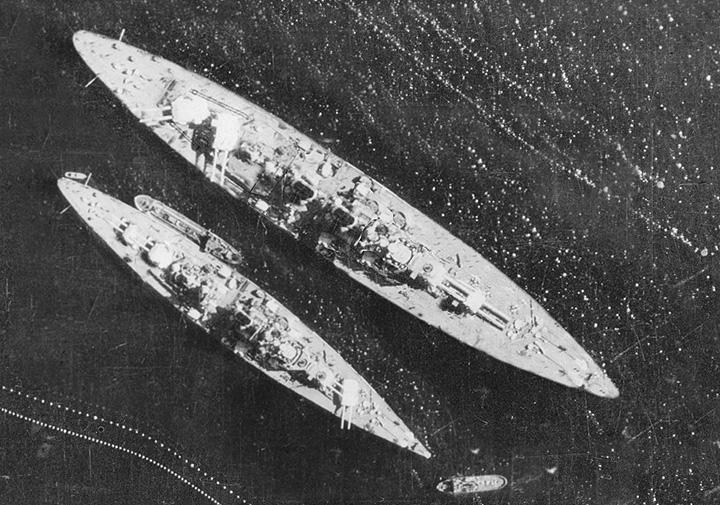
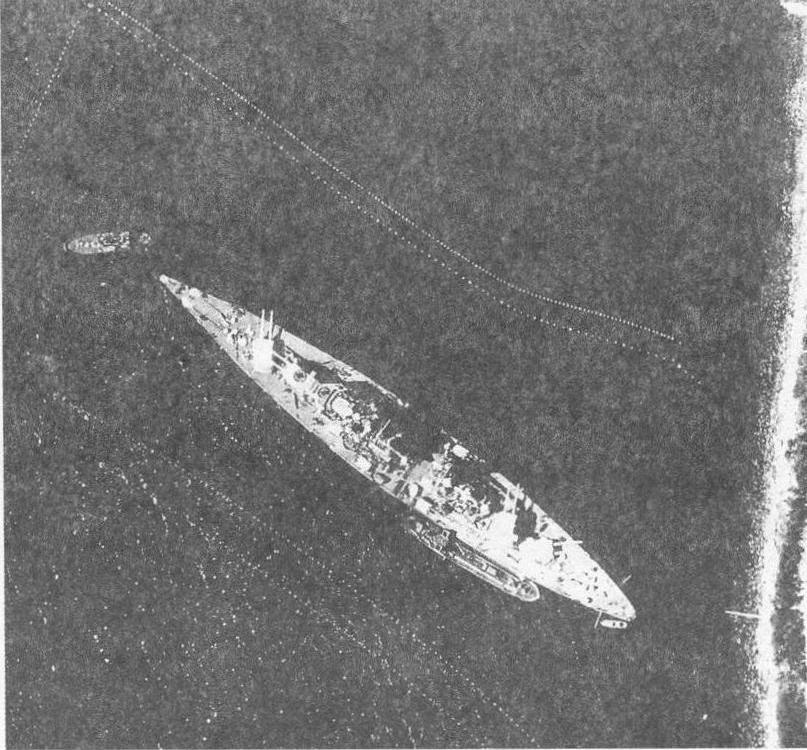


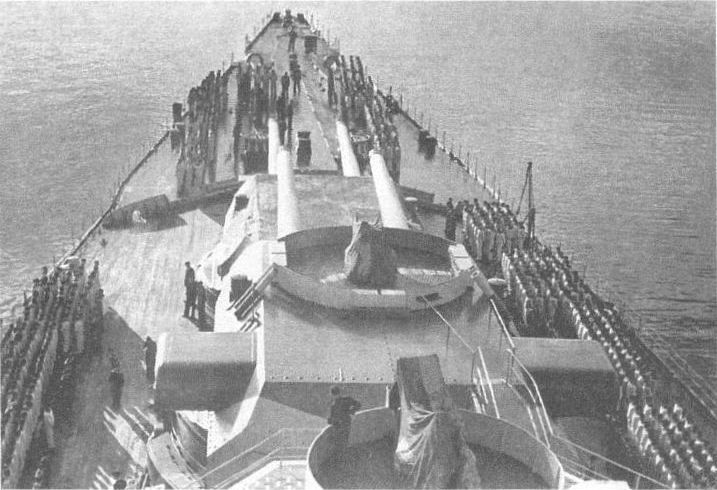
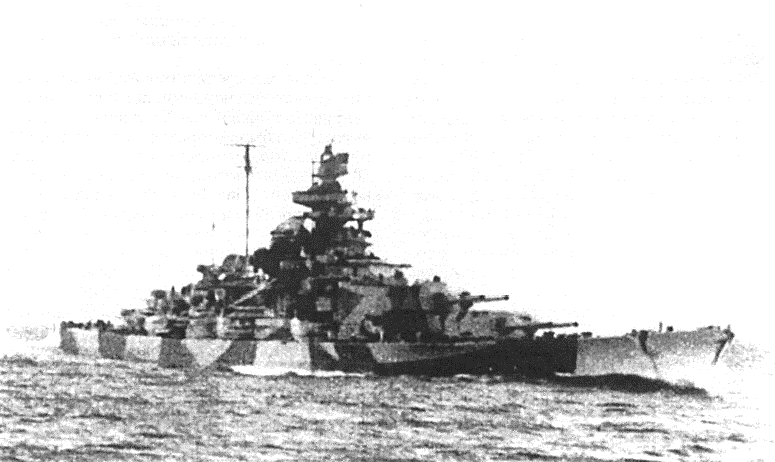


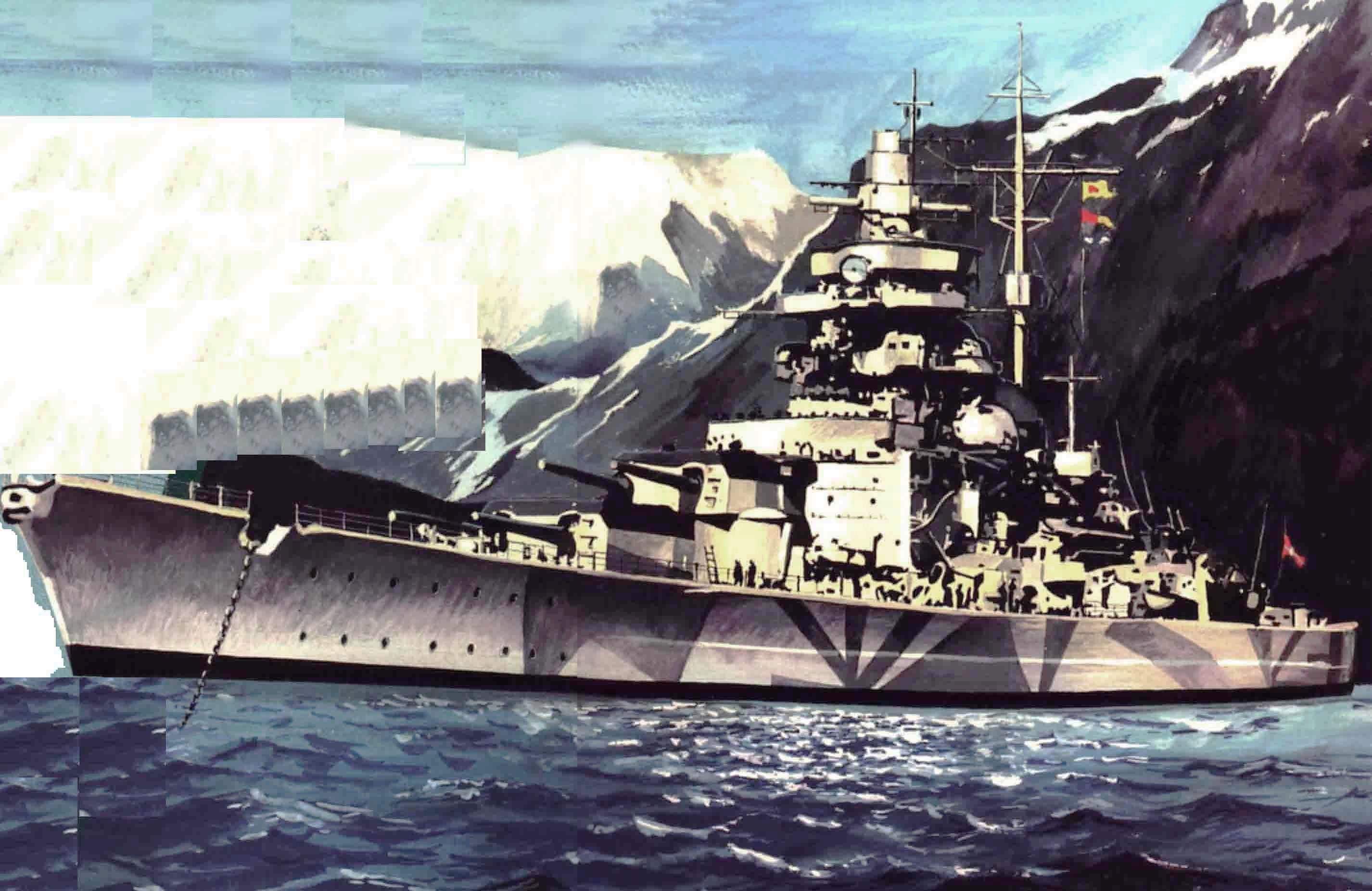
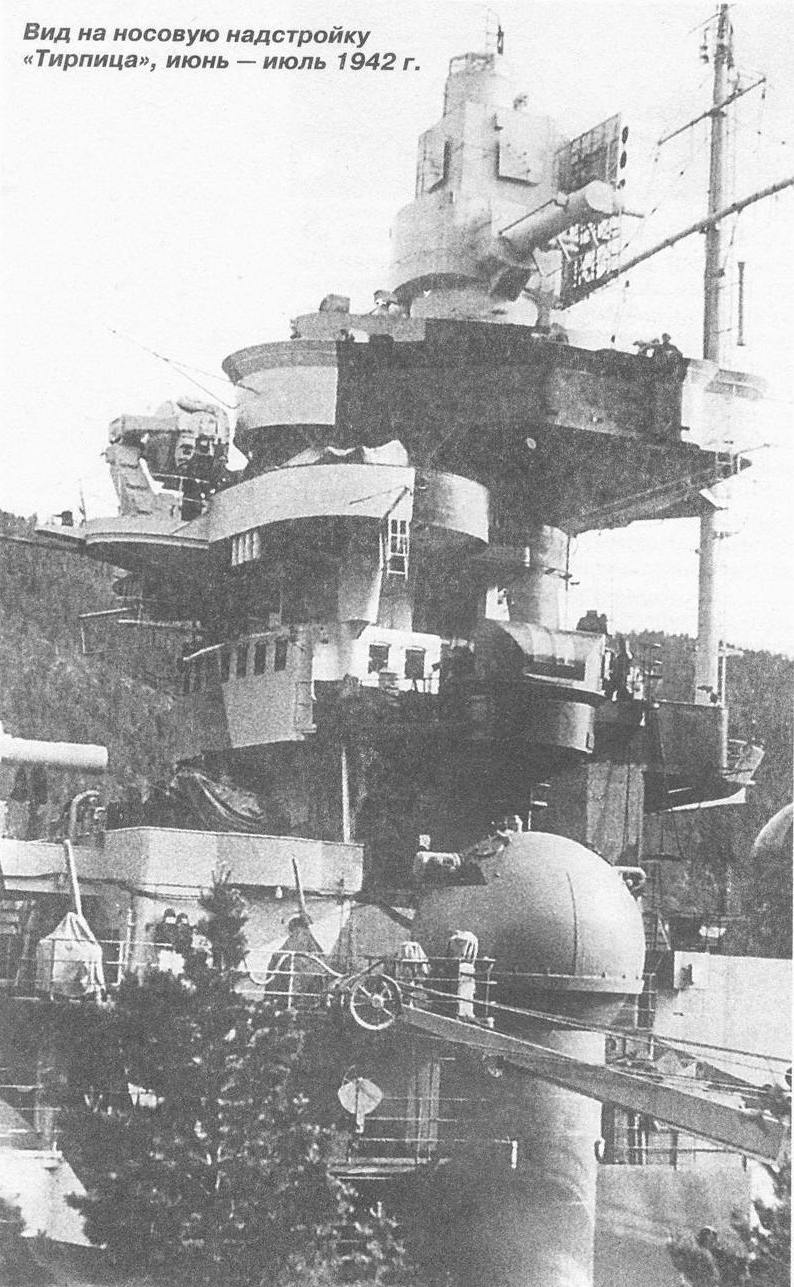
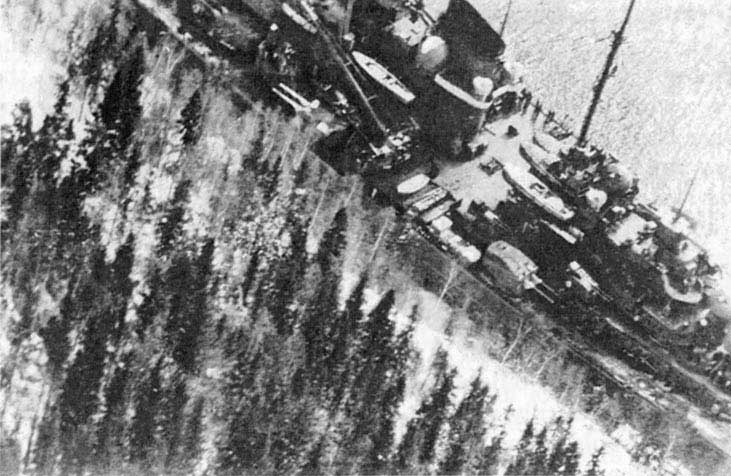





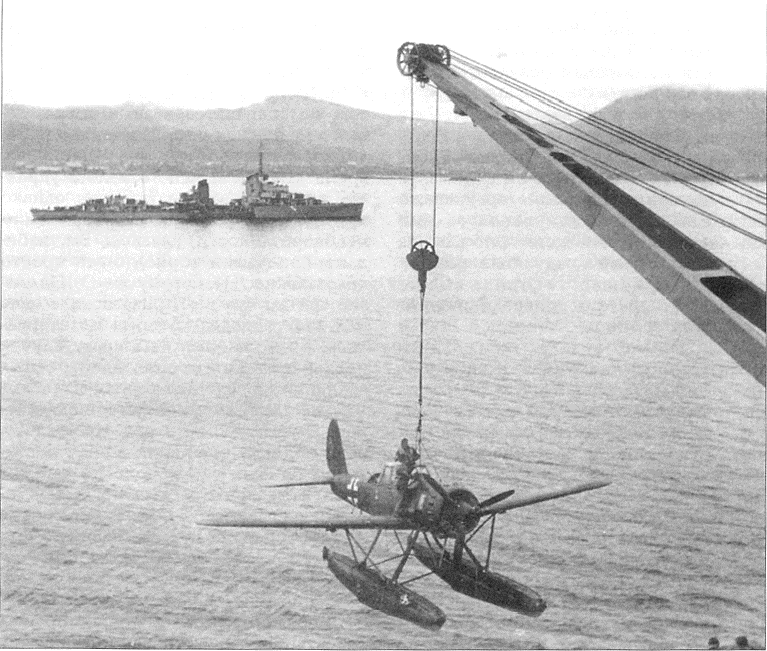
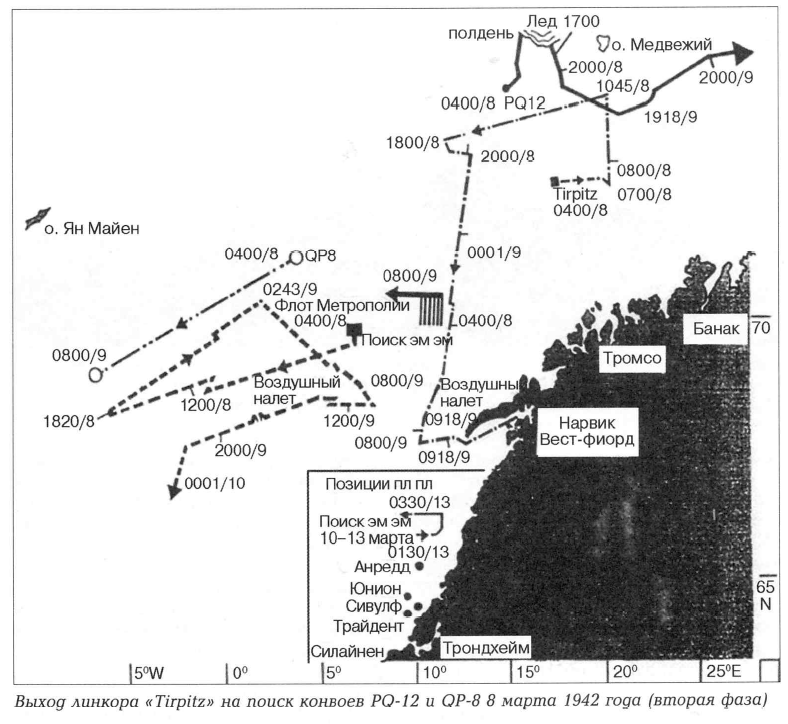
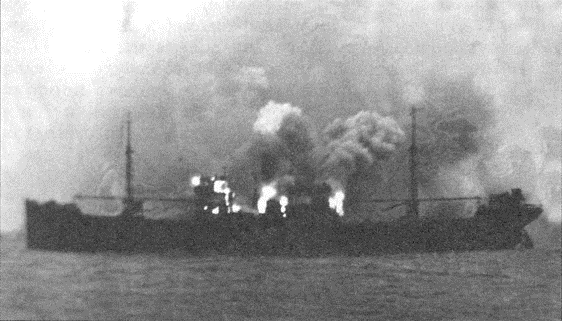

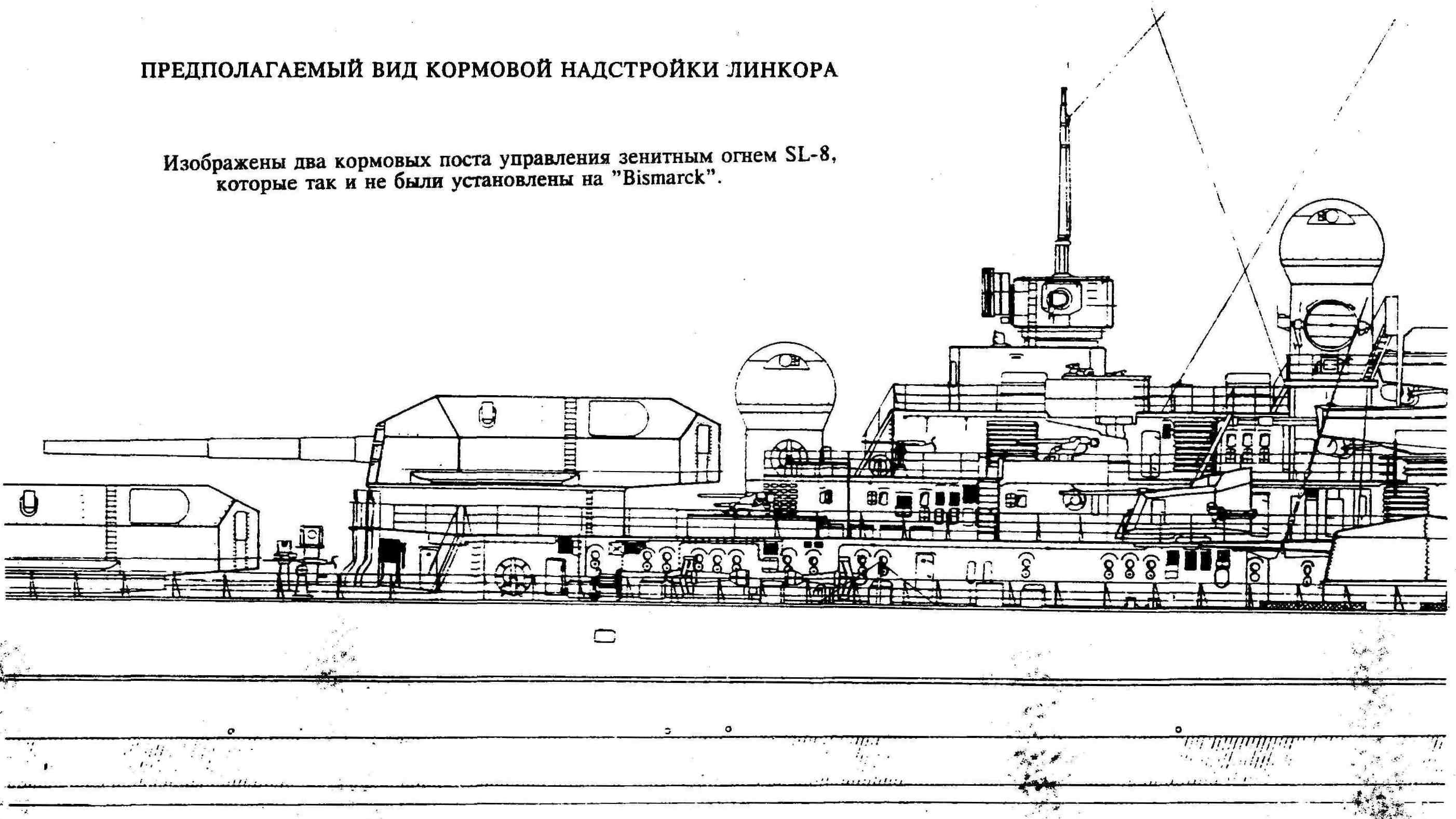
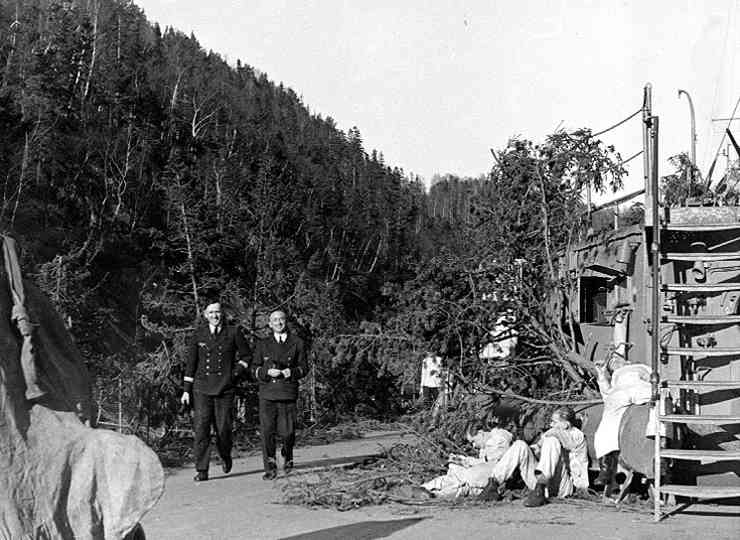


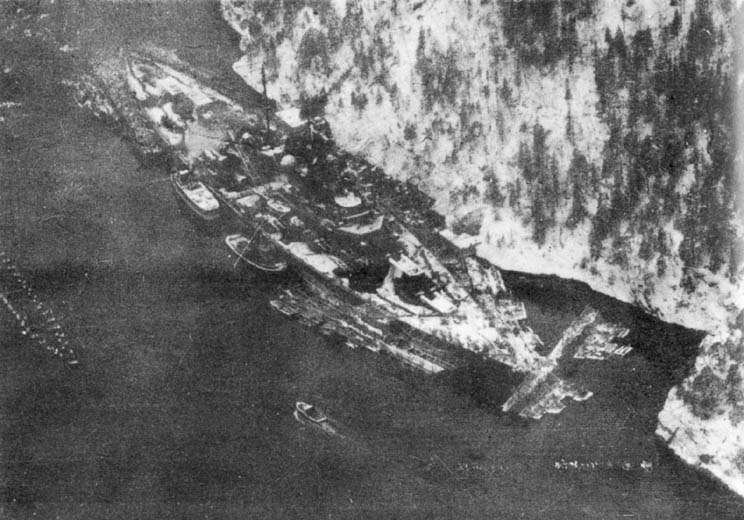


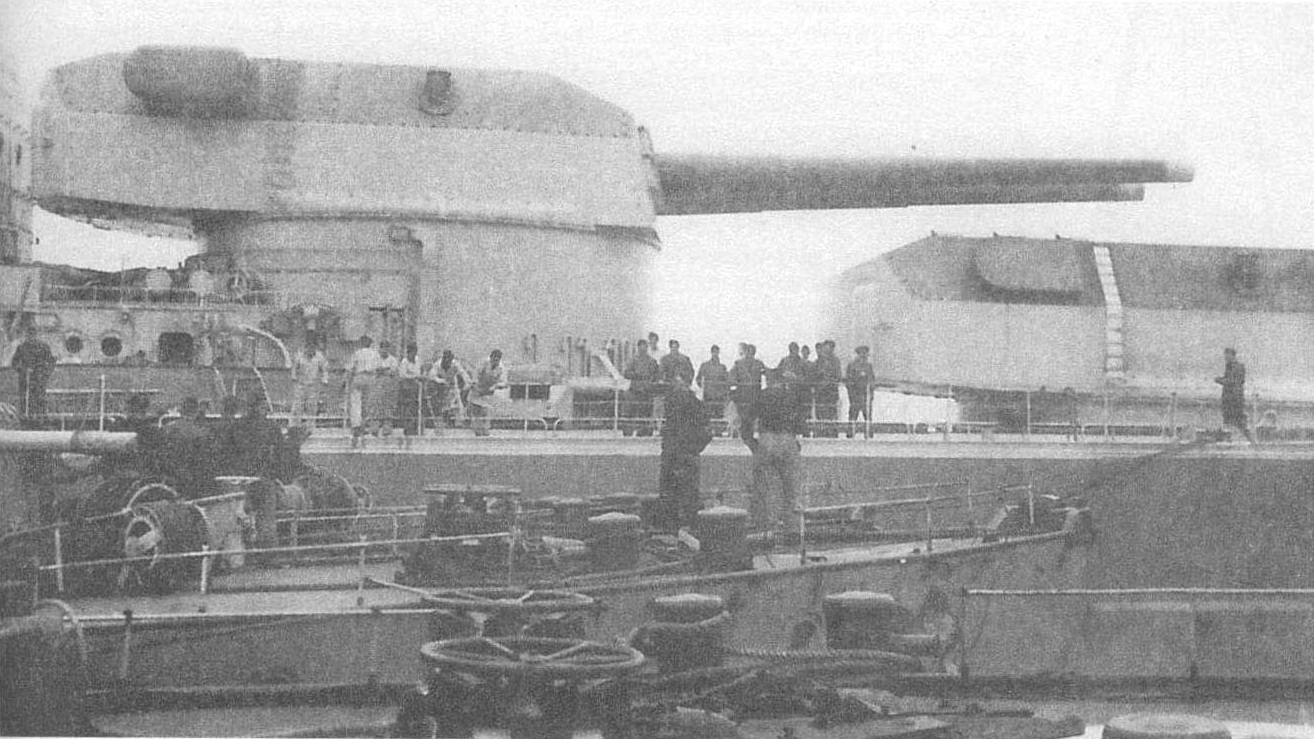

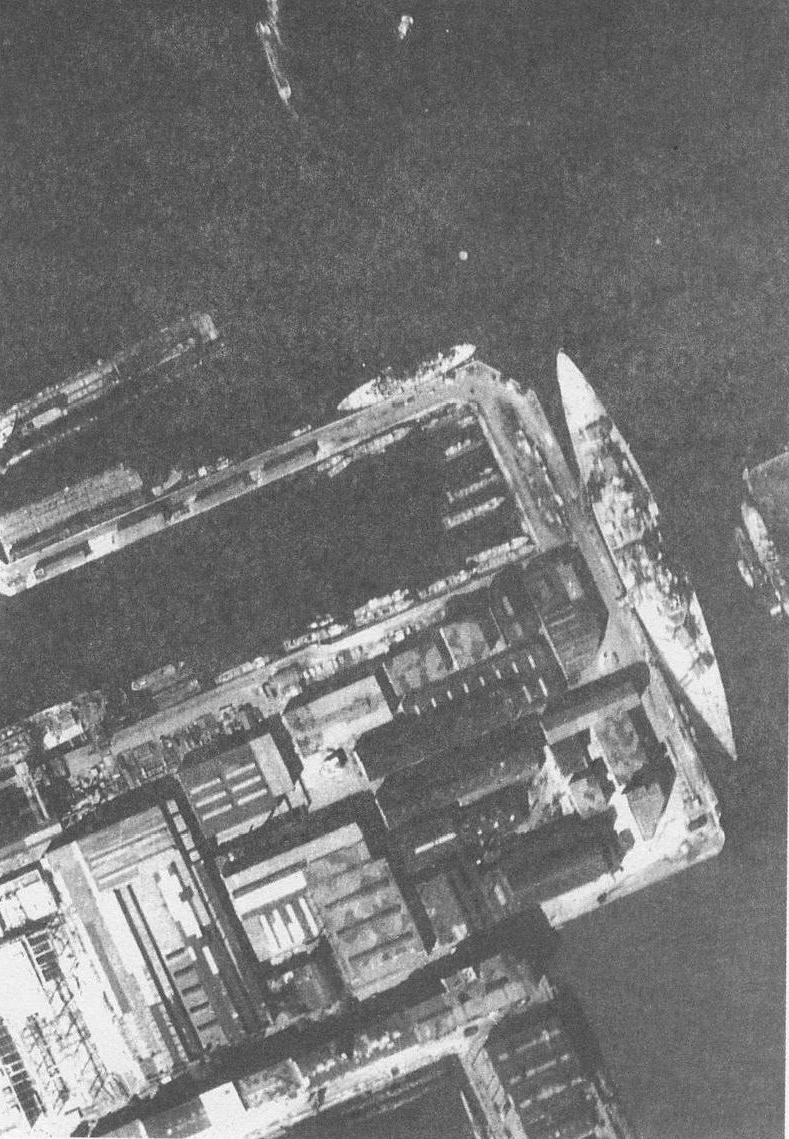
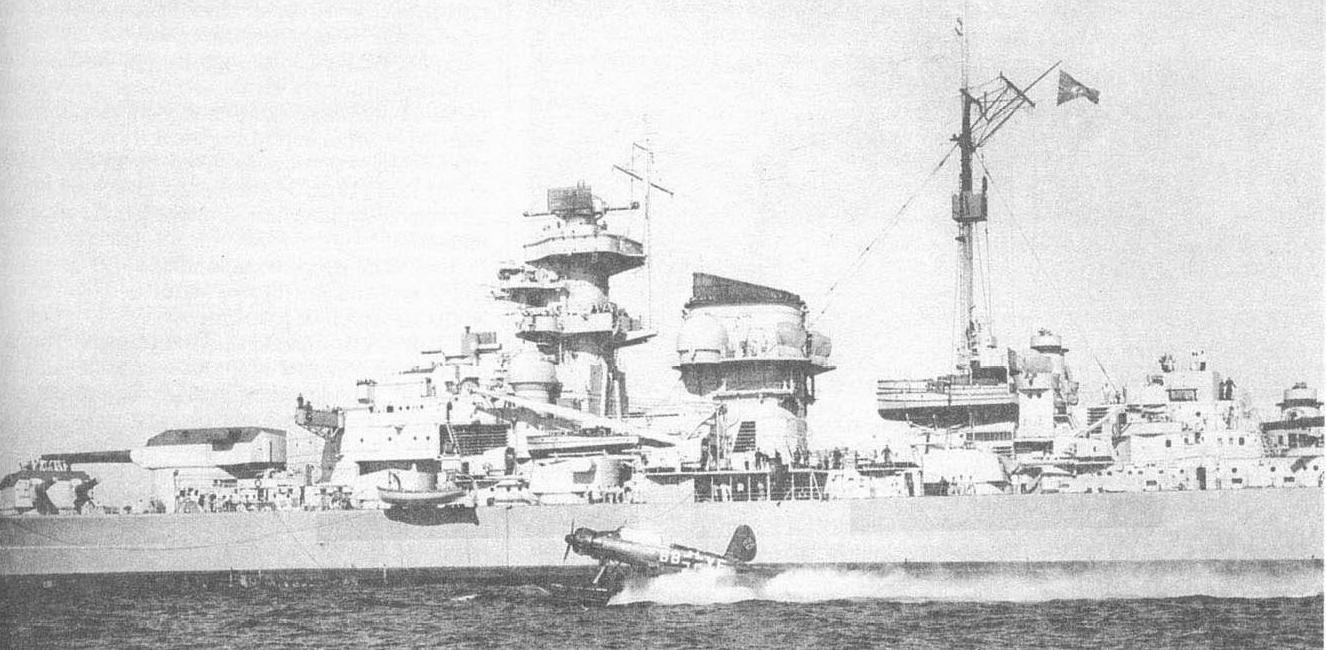

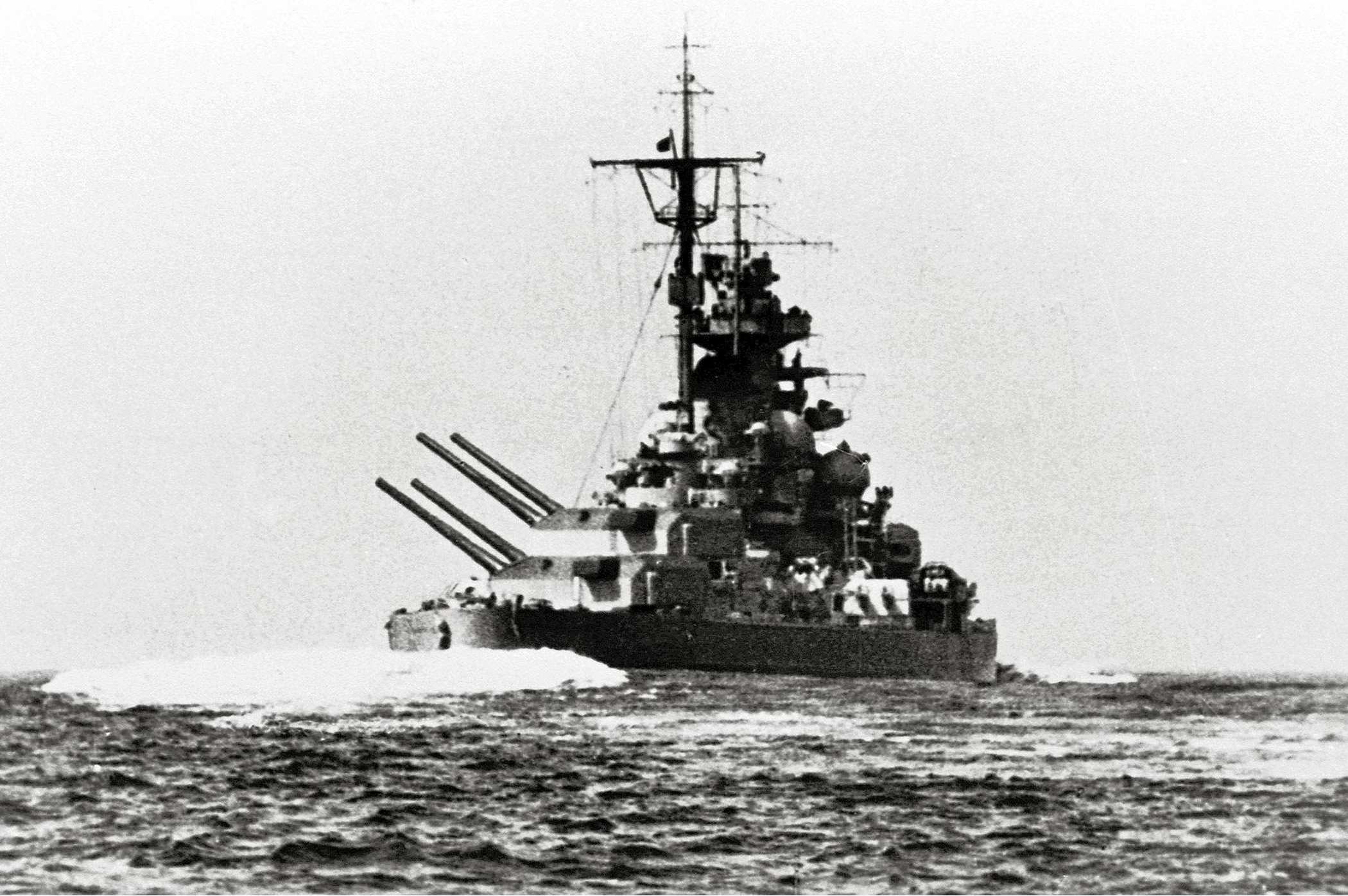
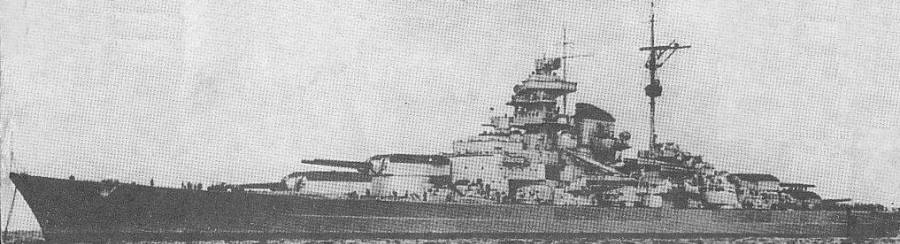
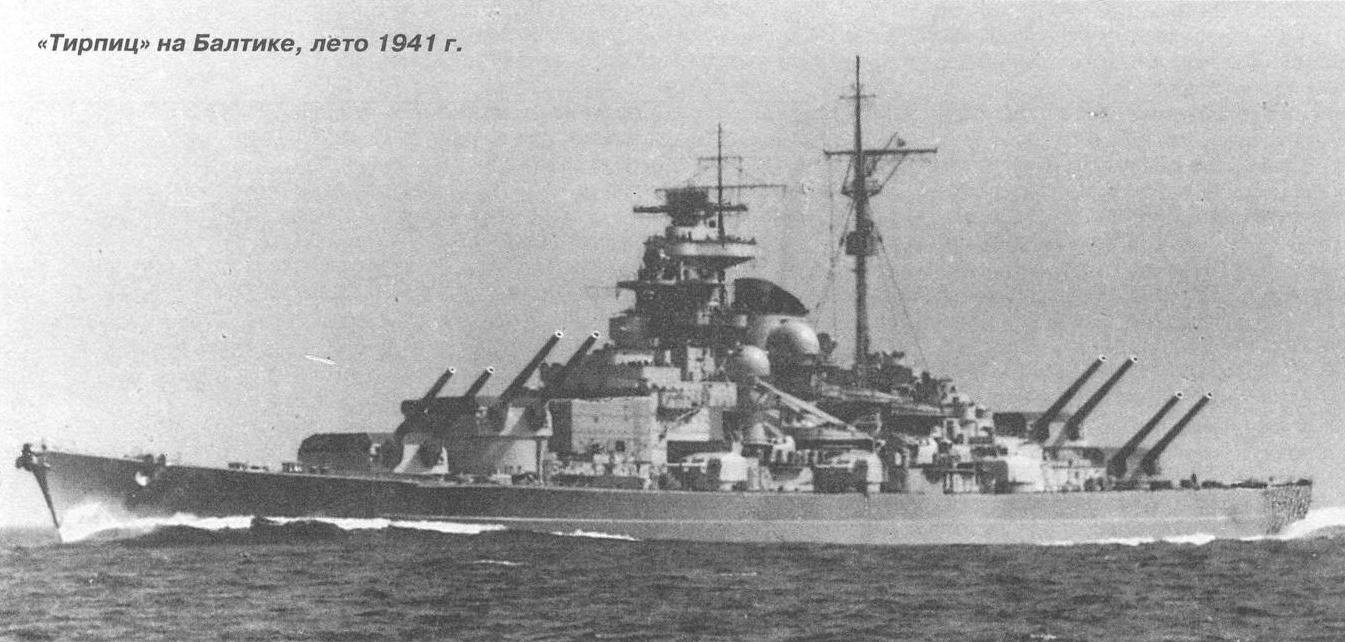
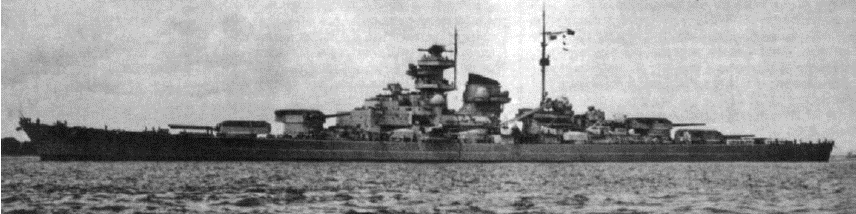


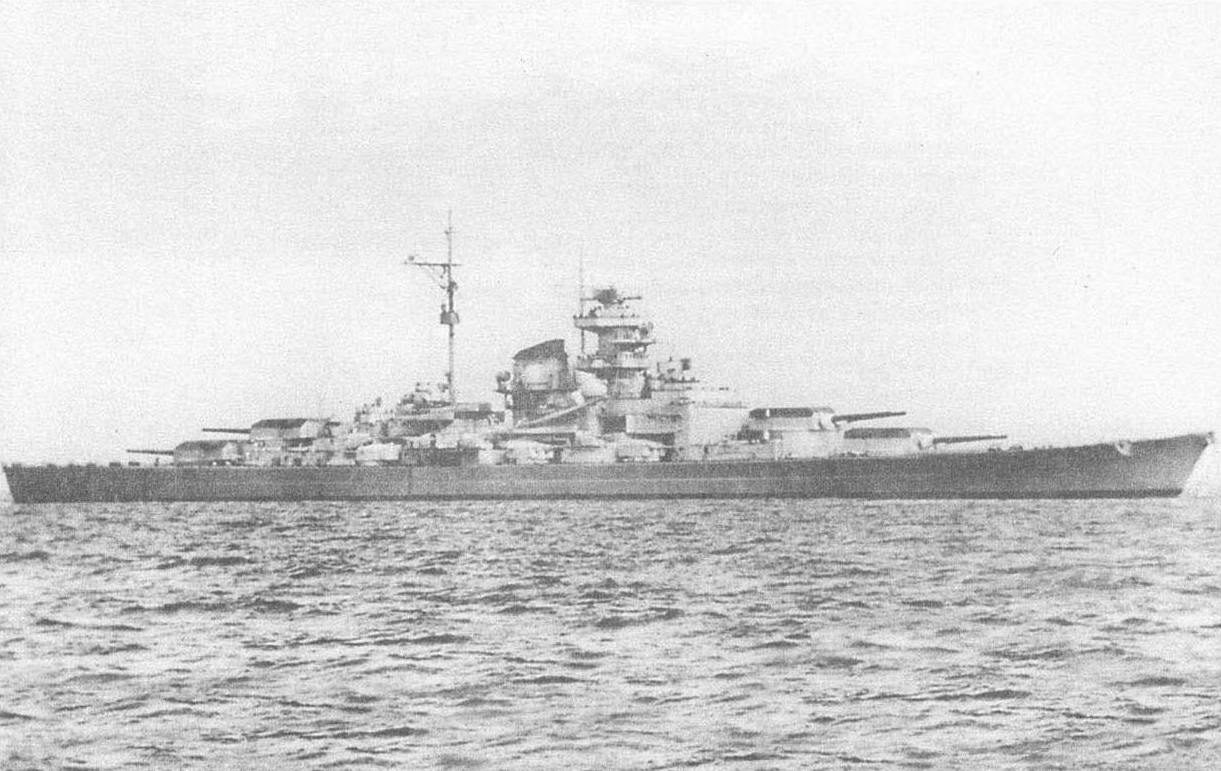


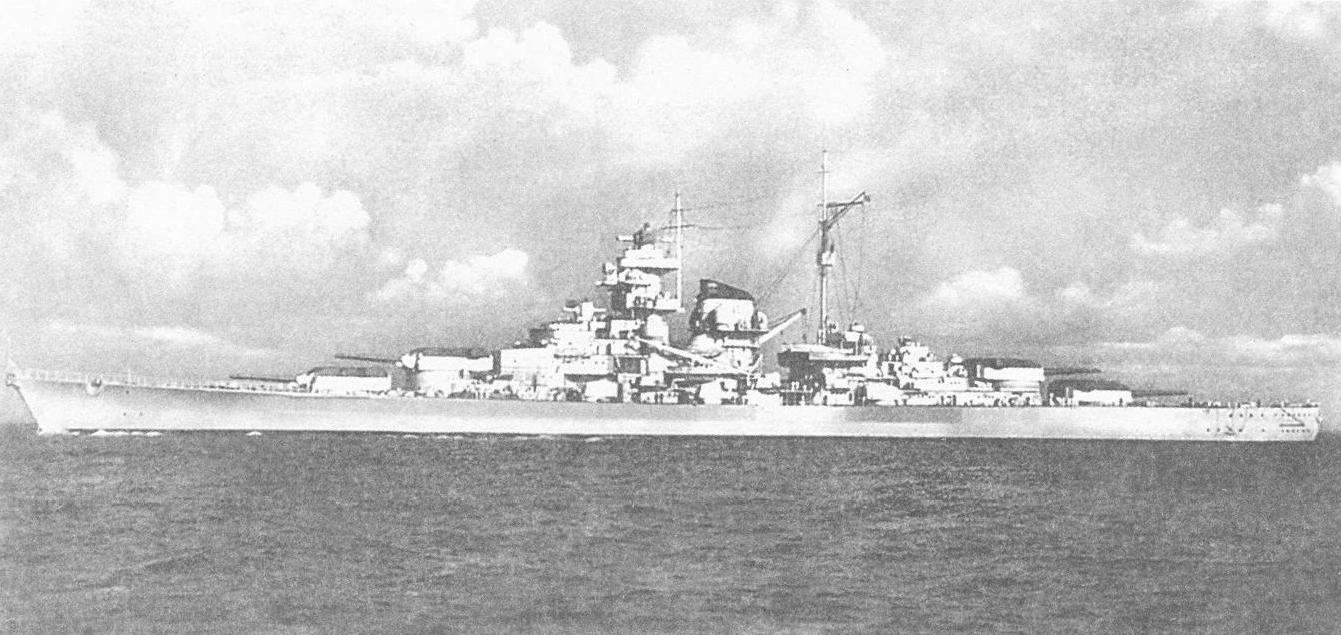

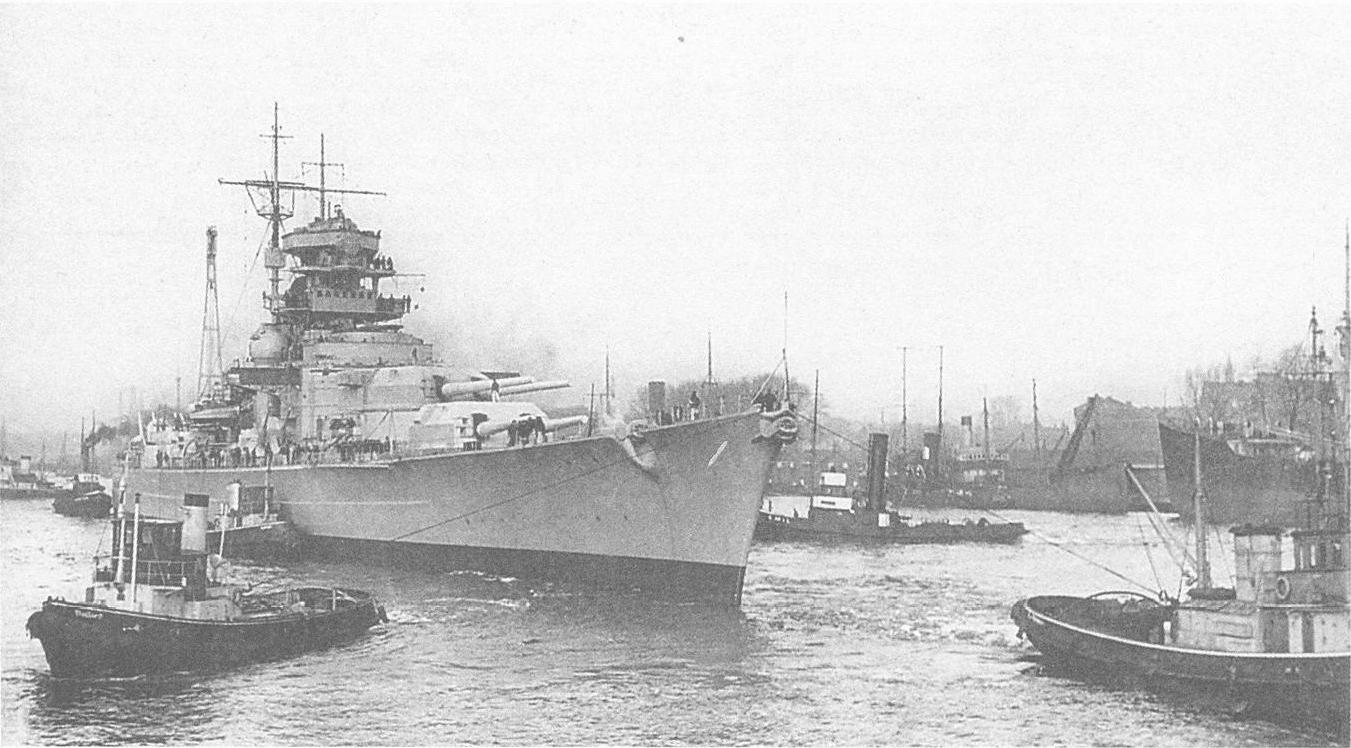
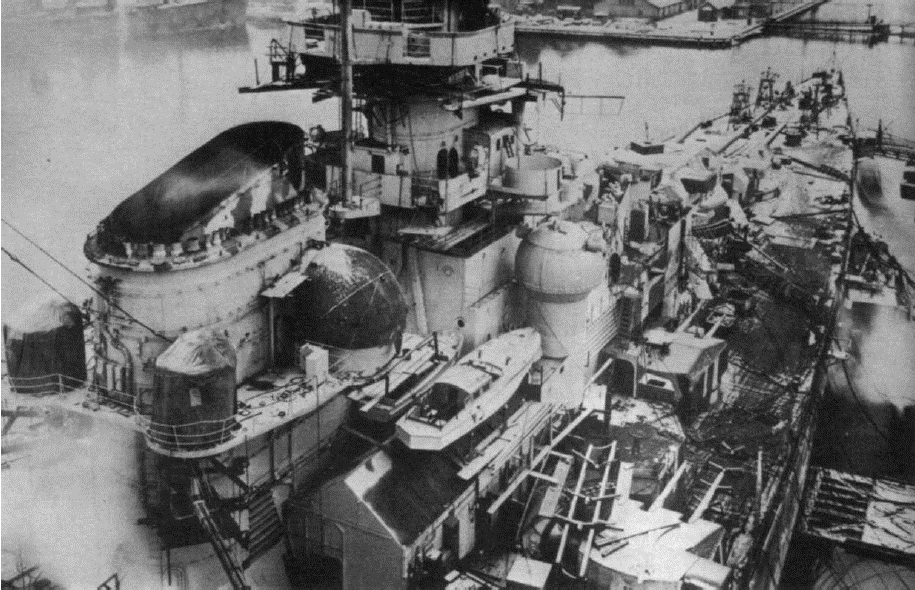

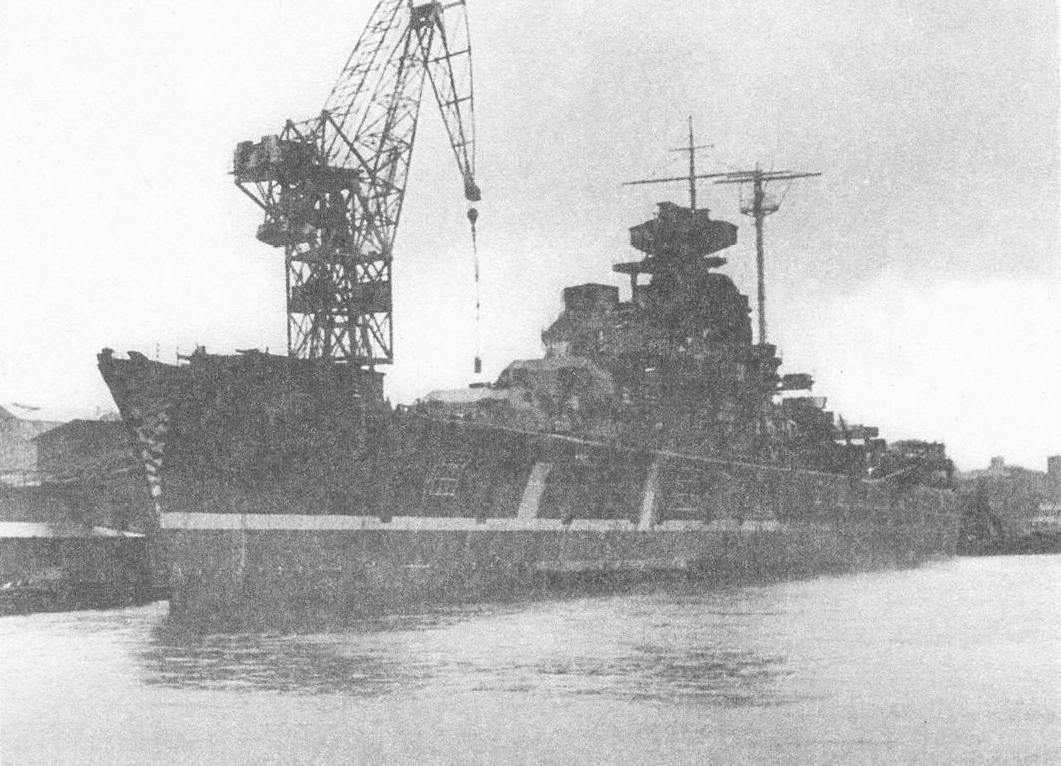
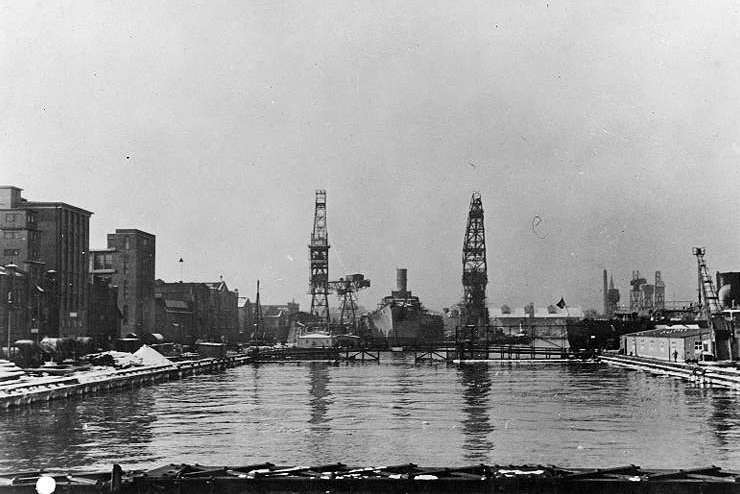




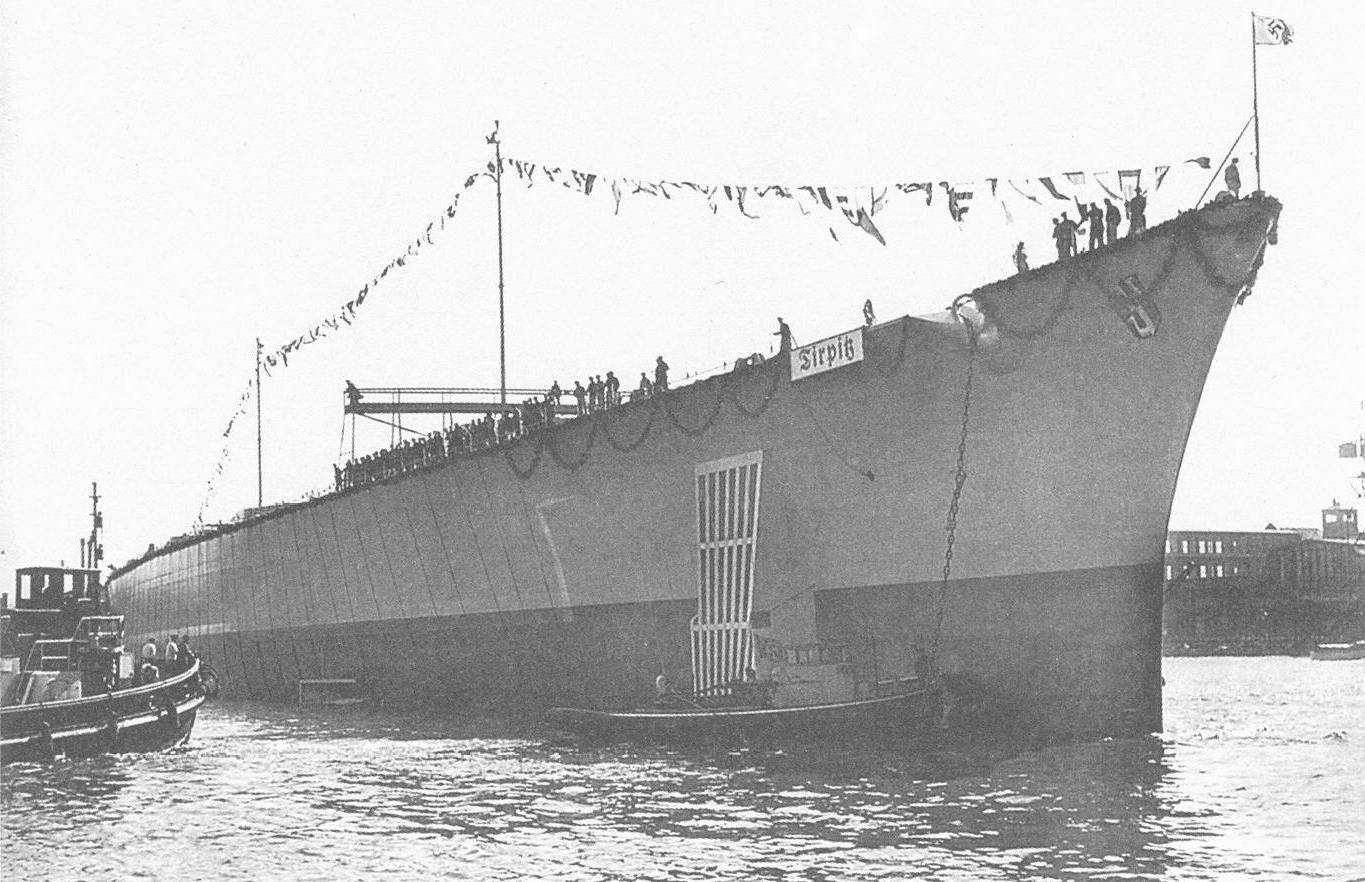
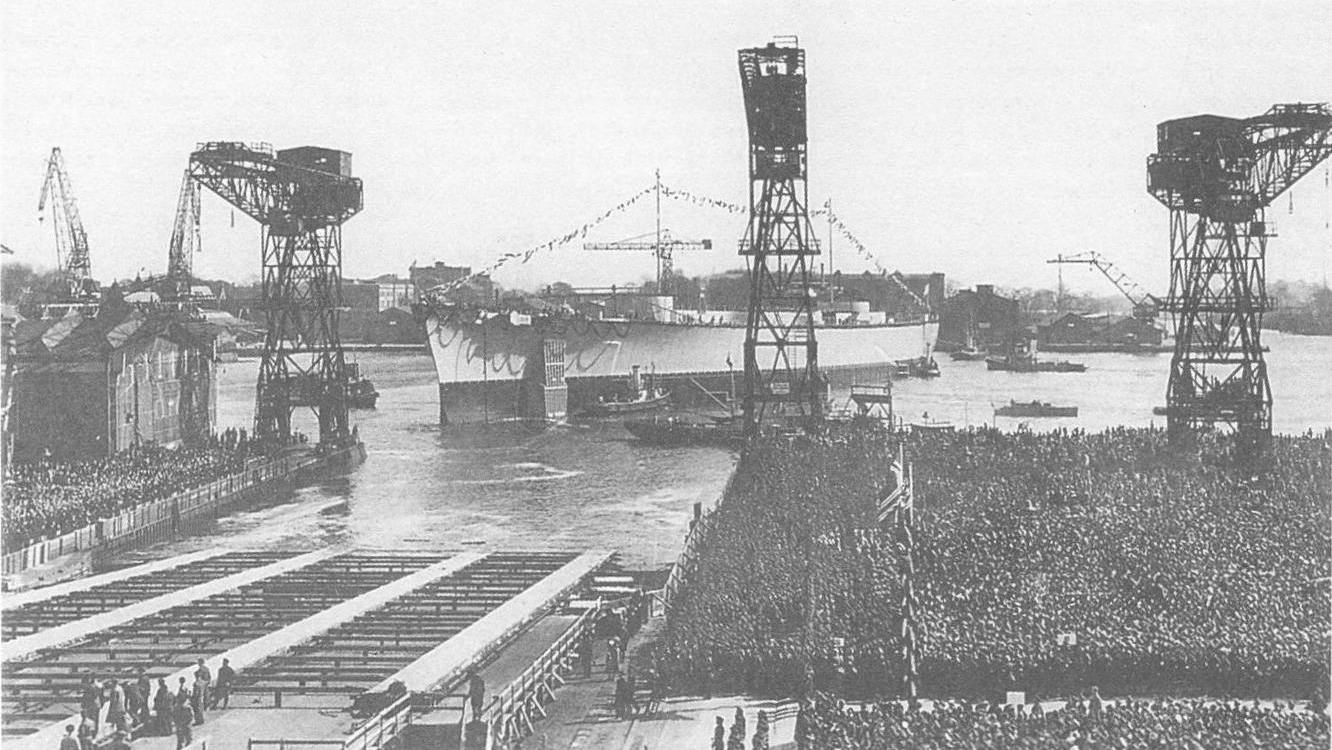
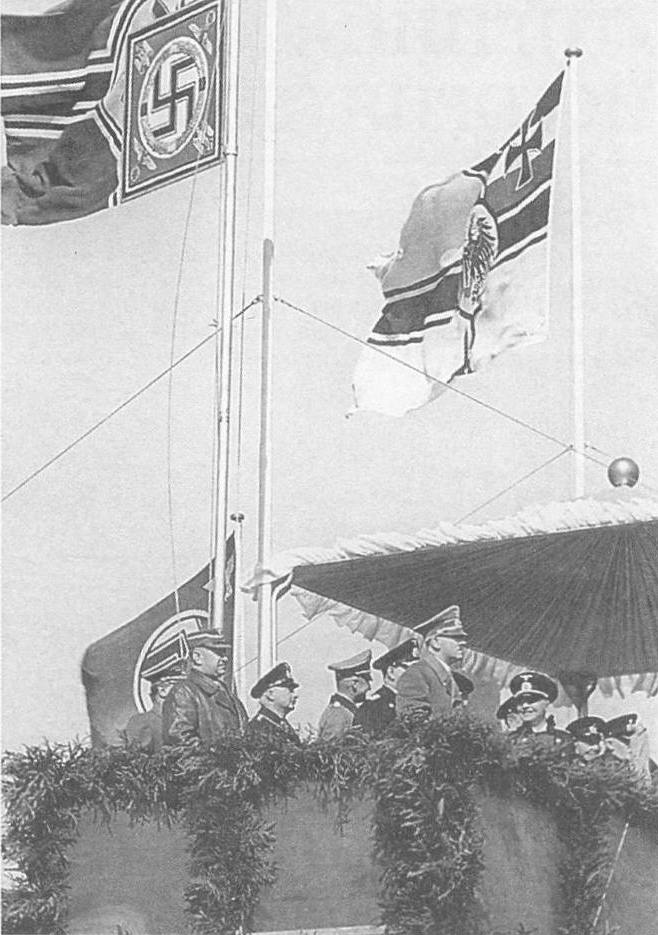



 Альфред фон Тирпиц (нем. Alfred von Tirpitz) (19 марта 1849, Кюстрин, провинция Бранденбург — 6 марта 1930, Эбенхаузен) — германский военно-морской деятель, гросс-адмирал
(27 января 1911), командующий флотом.
Альфред фон Тирпиц (нем. Alfred von Tirpitz) (19 марта 1849, Кюстрин, провинция Бранденбург — 6 марта 1930, Эбенхаузен) — германский военно-морской деятель, гросс-адмирал
(27 января 1911), командующий флотом.

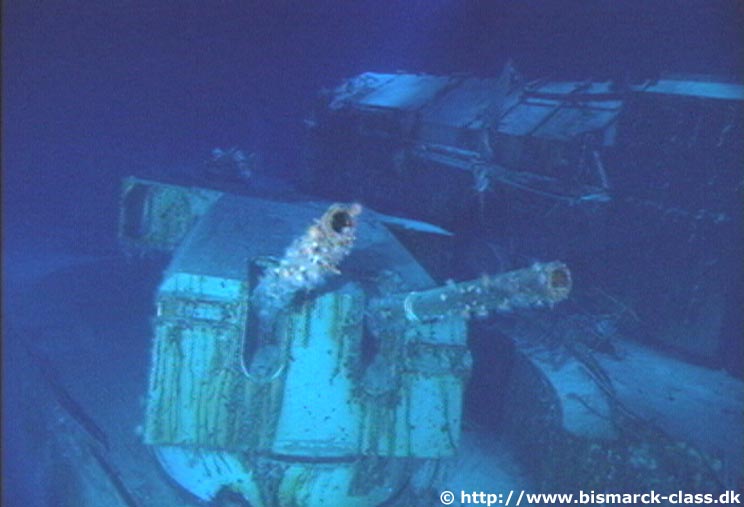


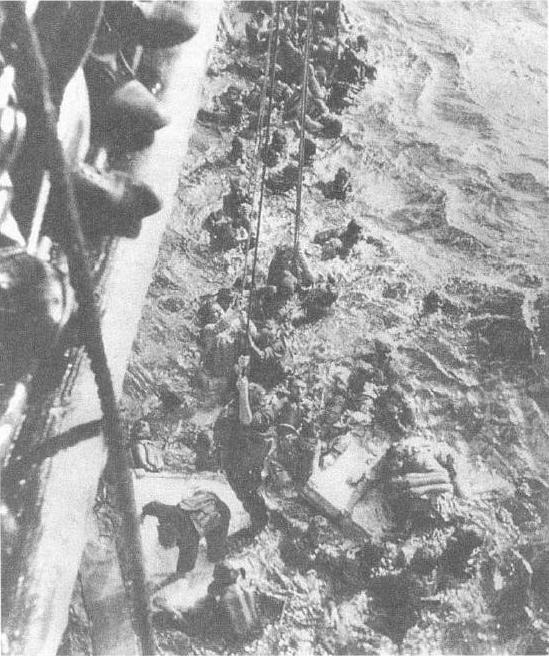
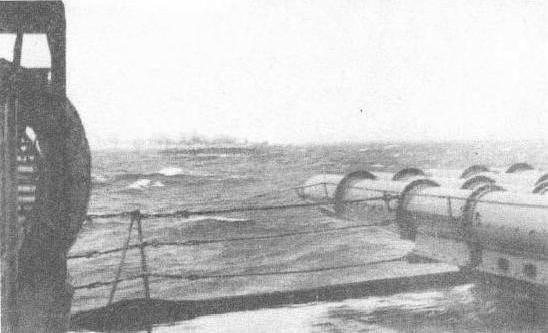





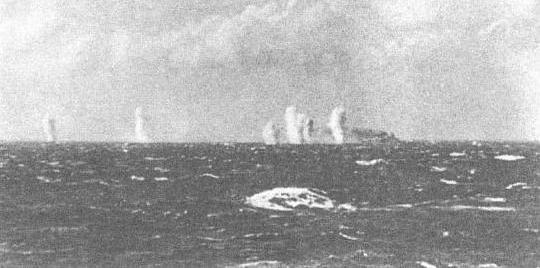




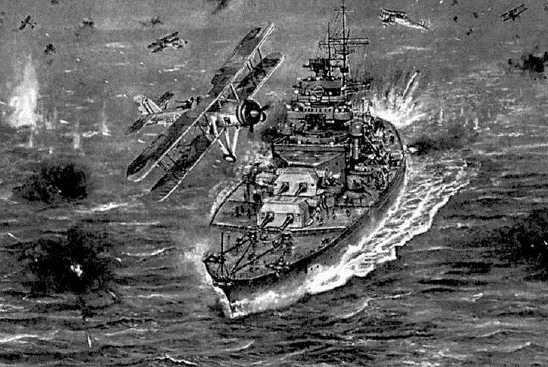

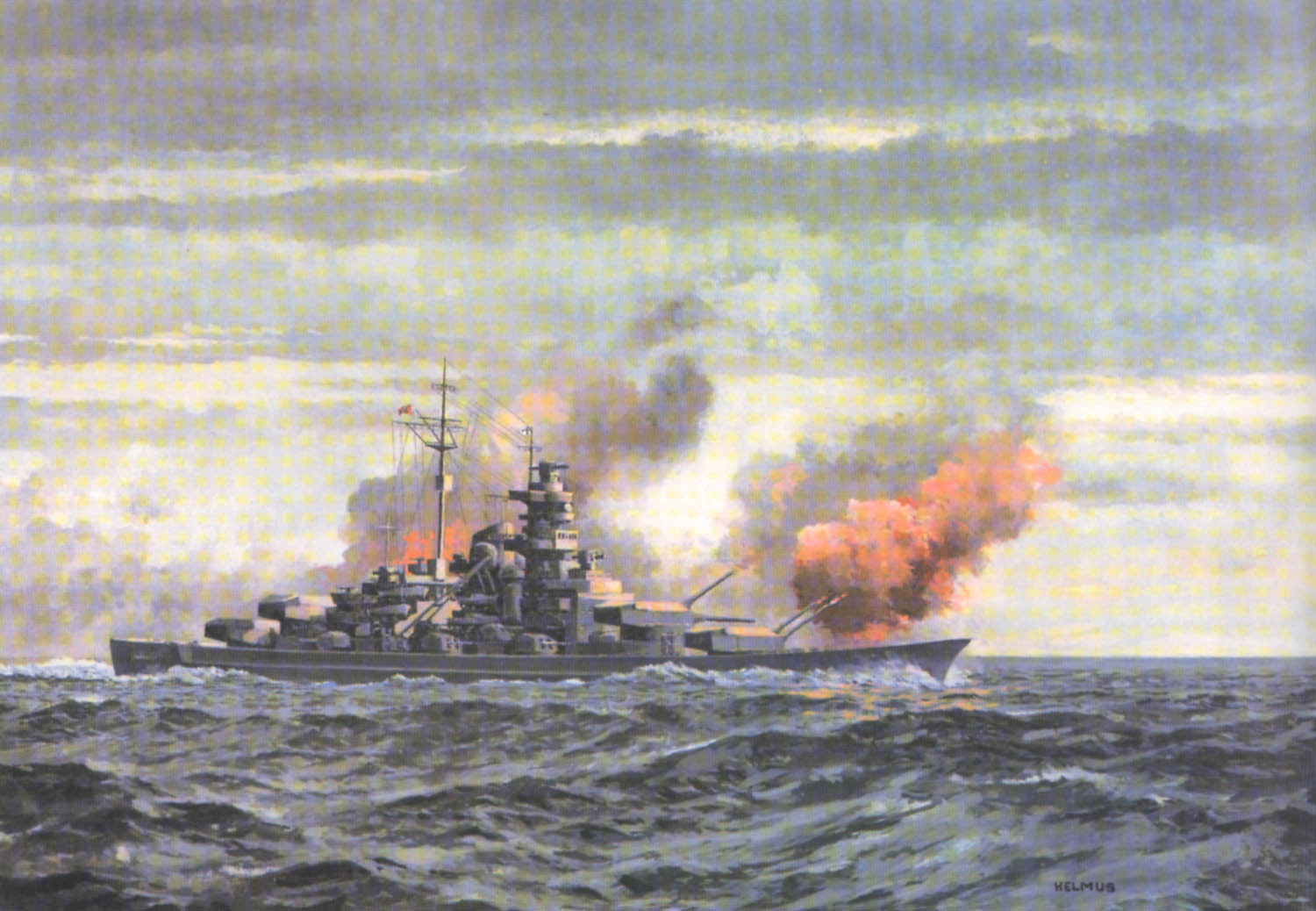


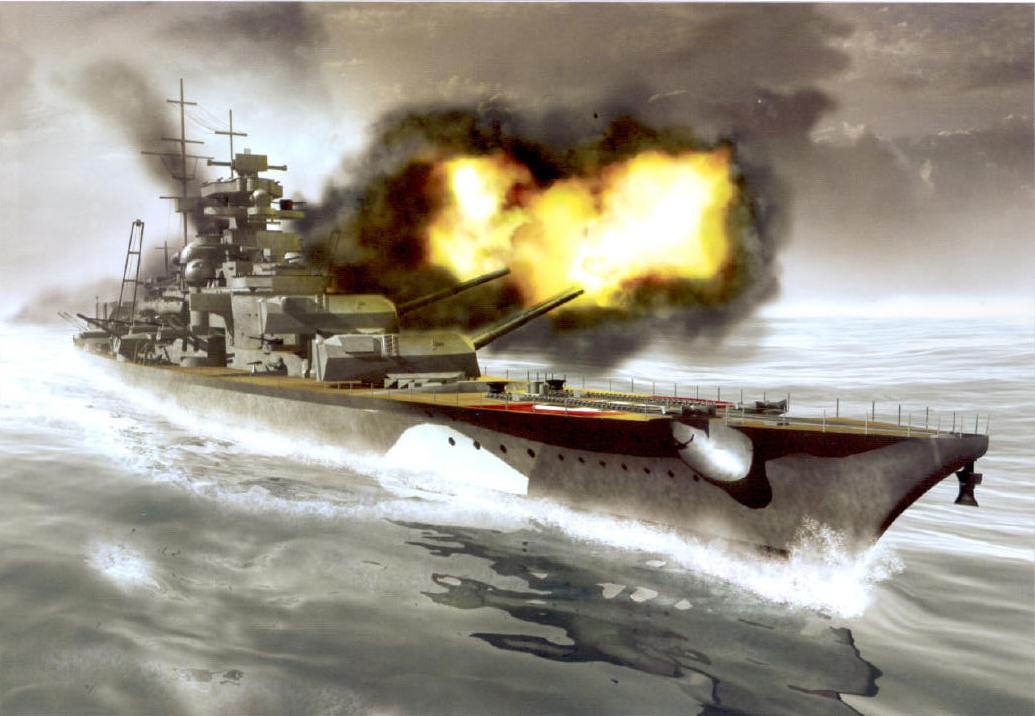








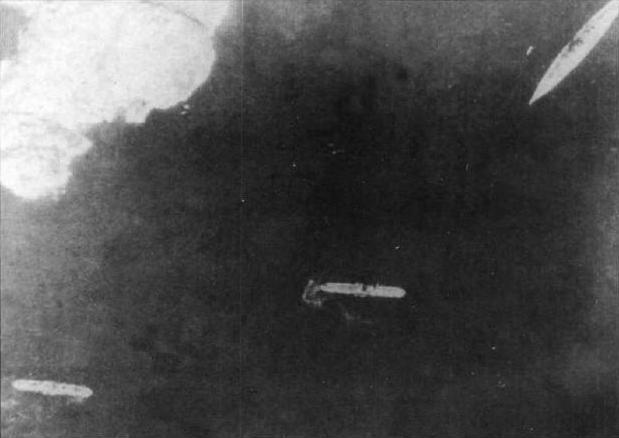





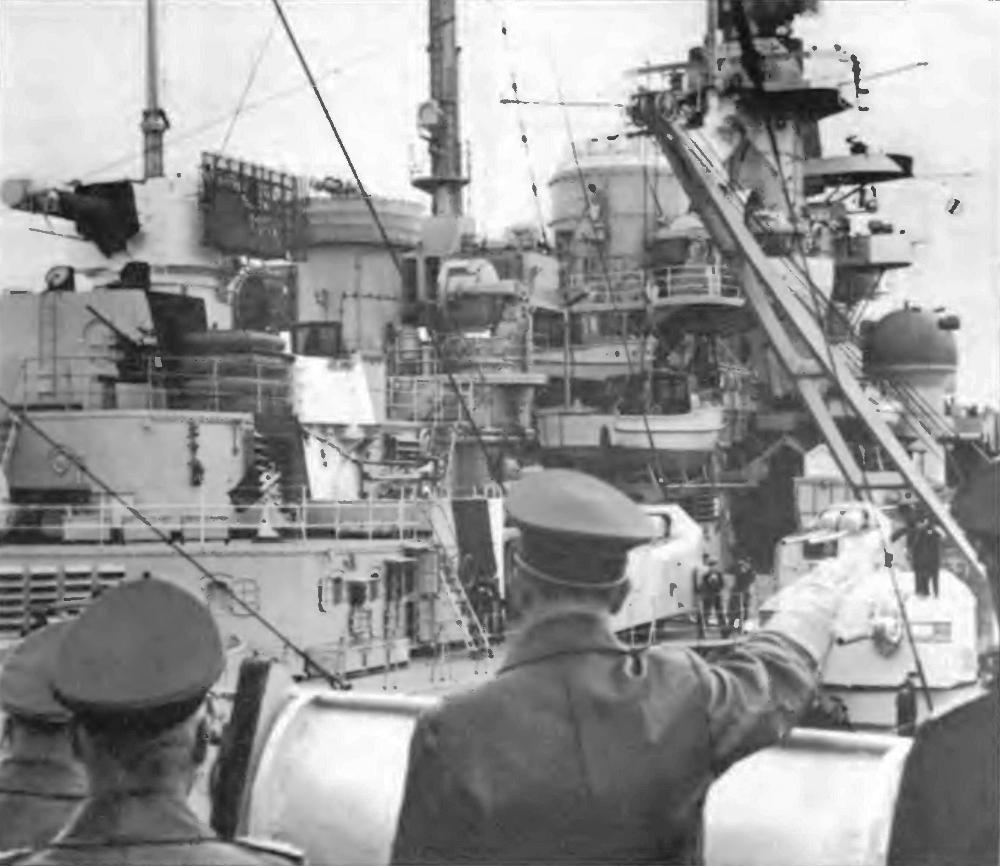
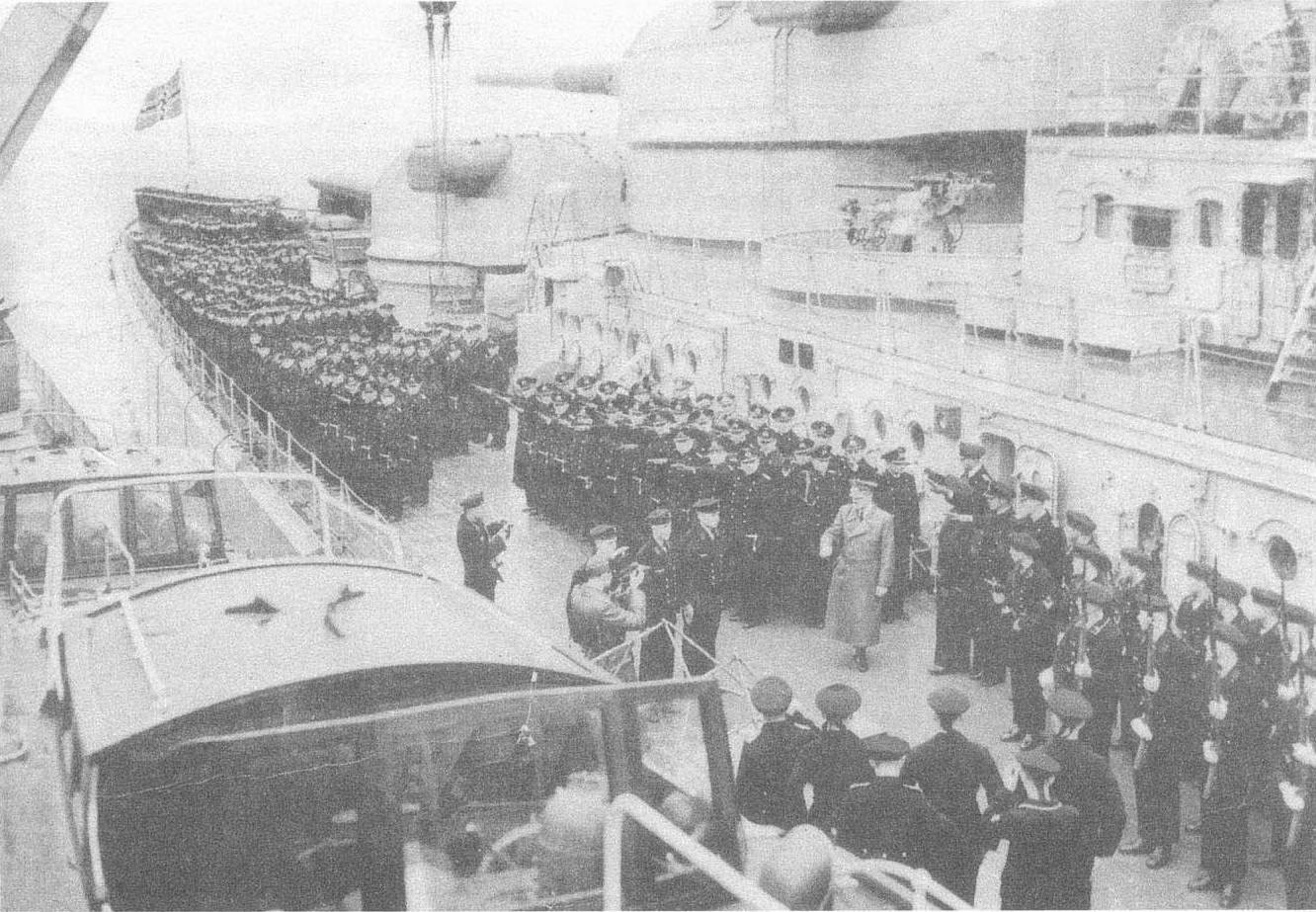
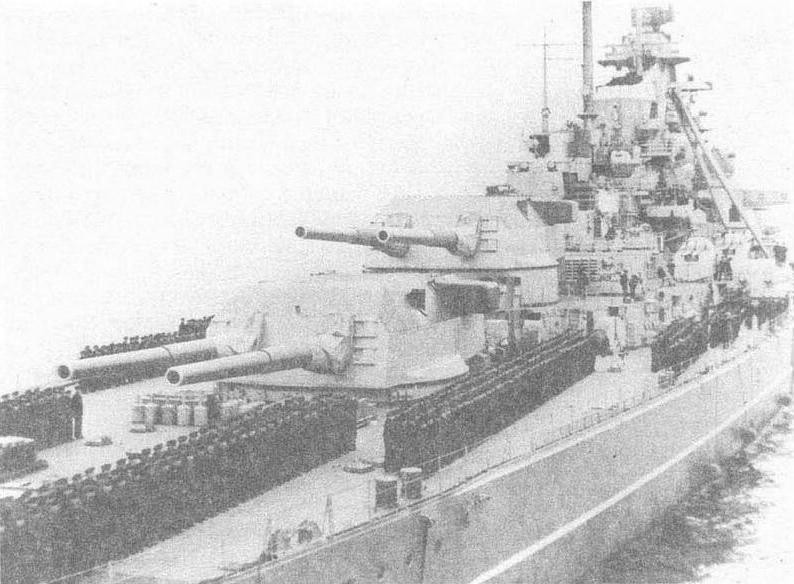






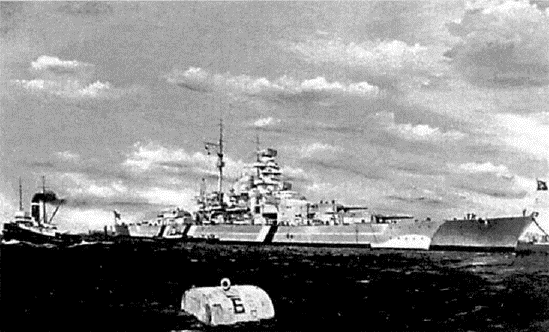
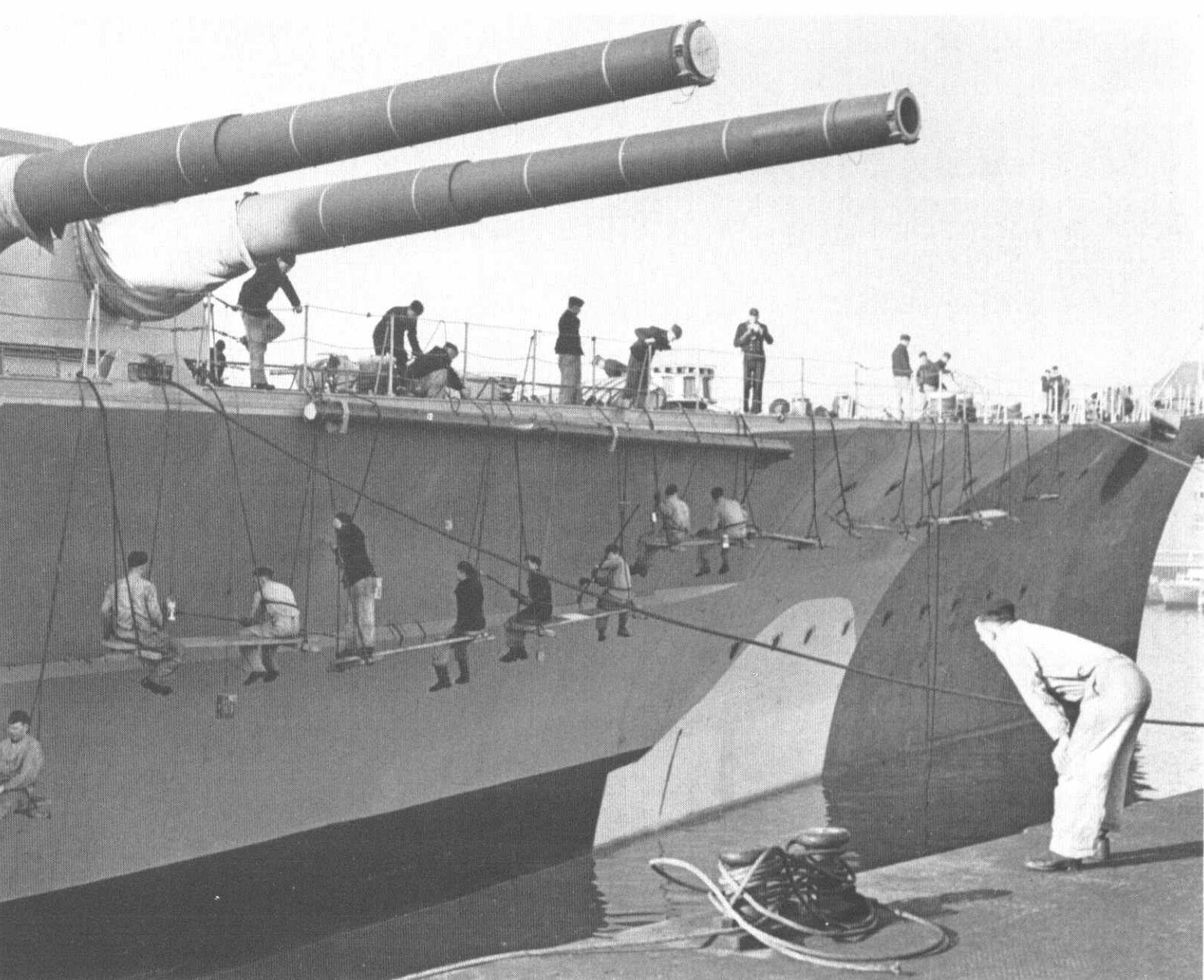
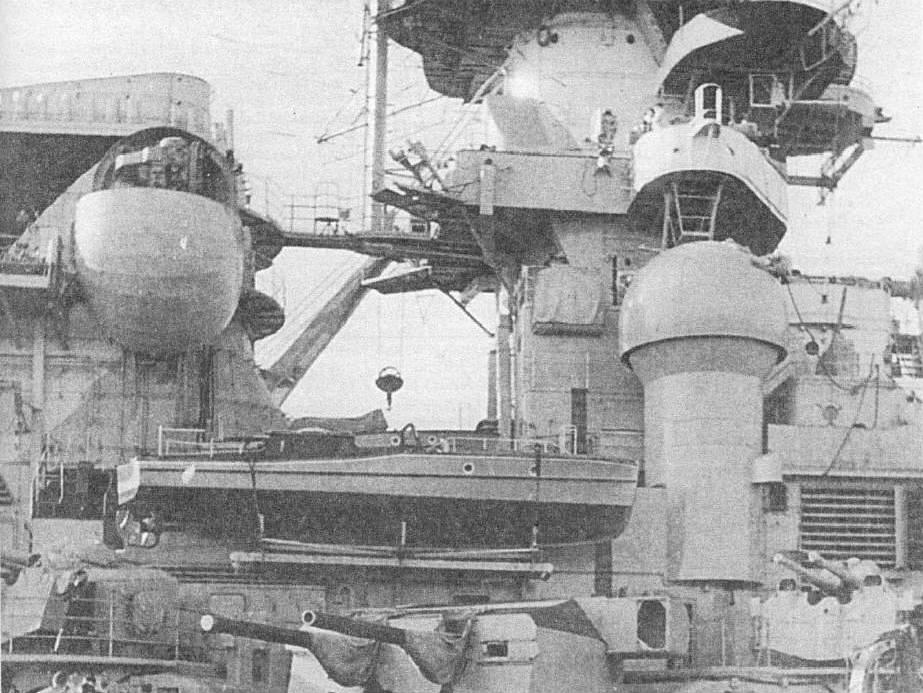
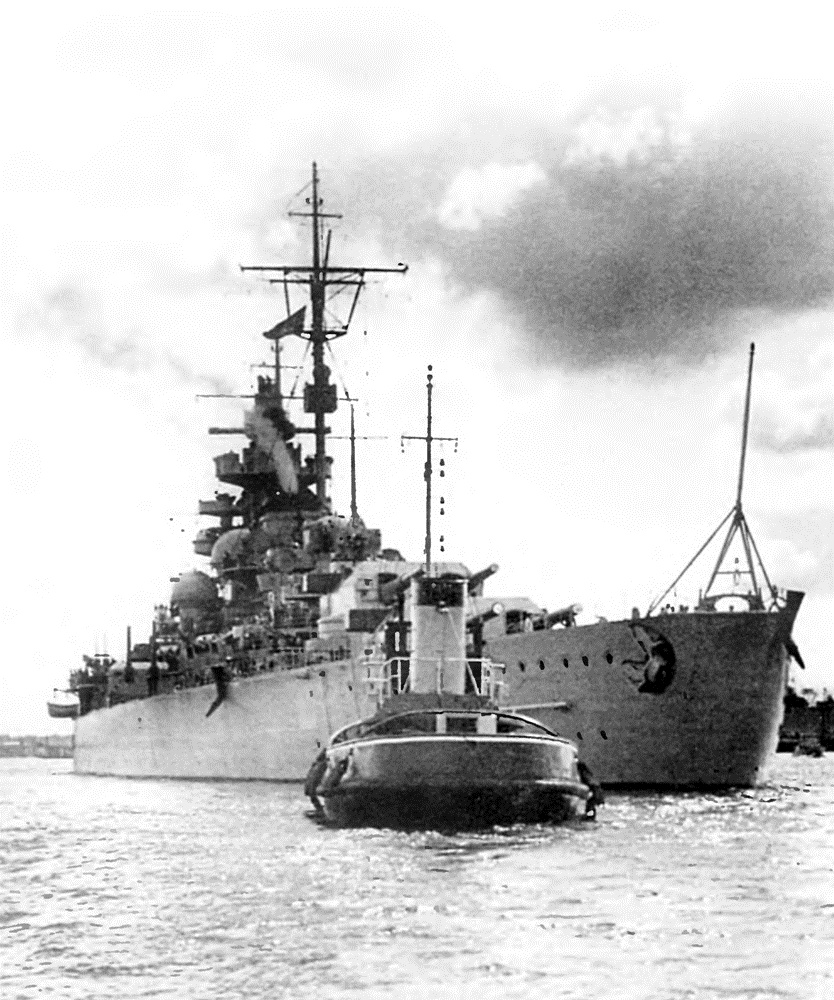
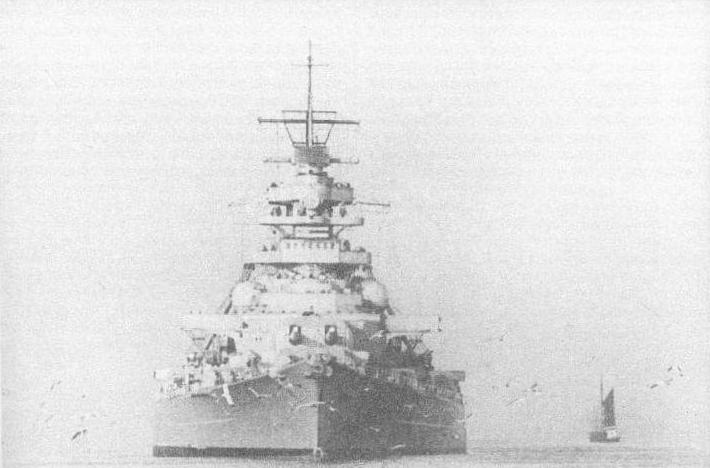


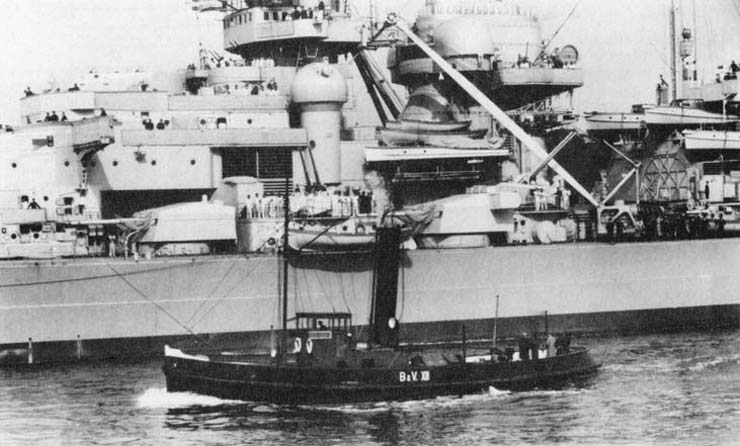


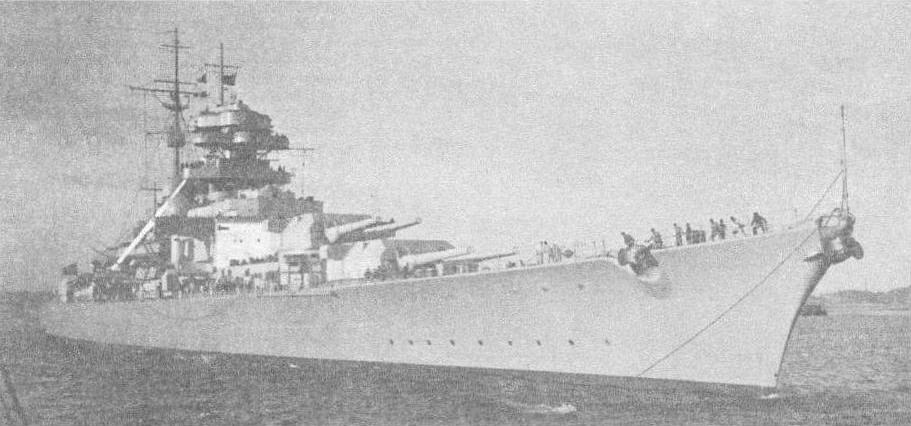
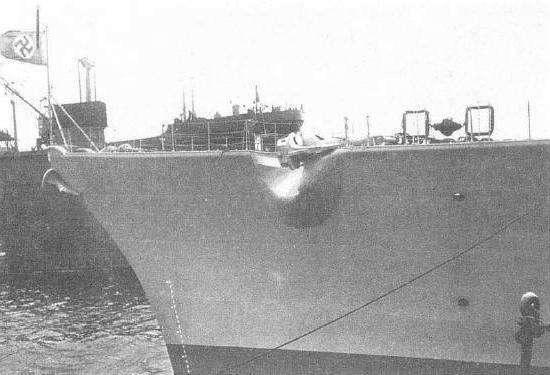

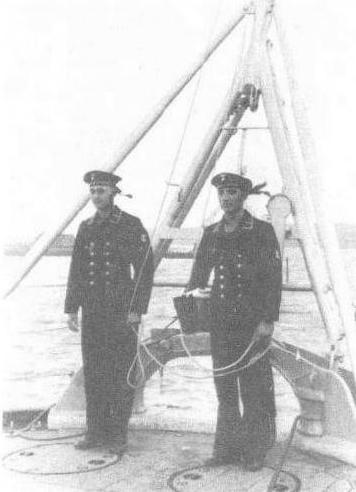

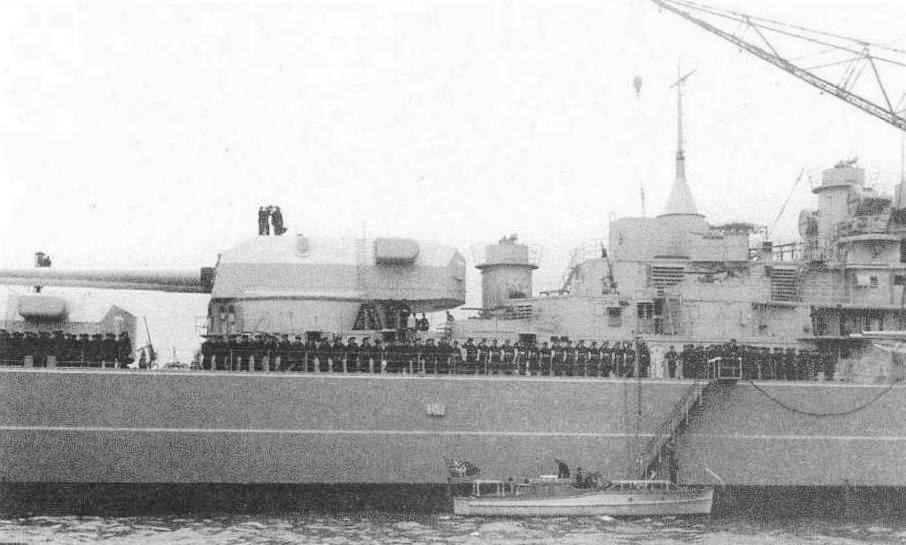
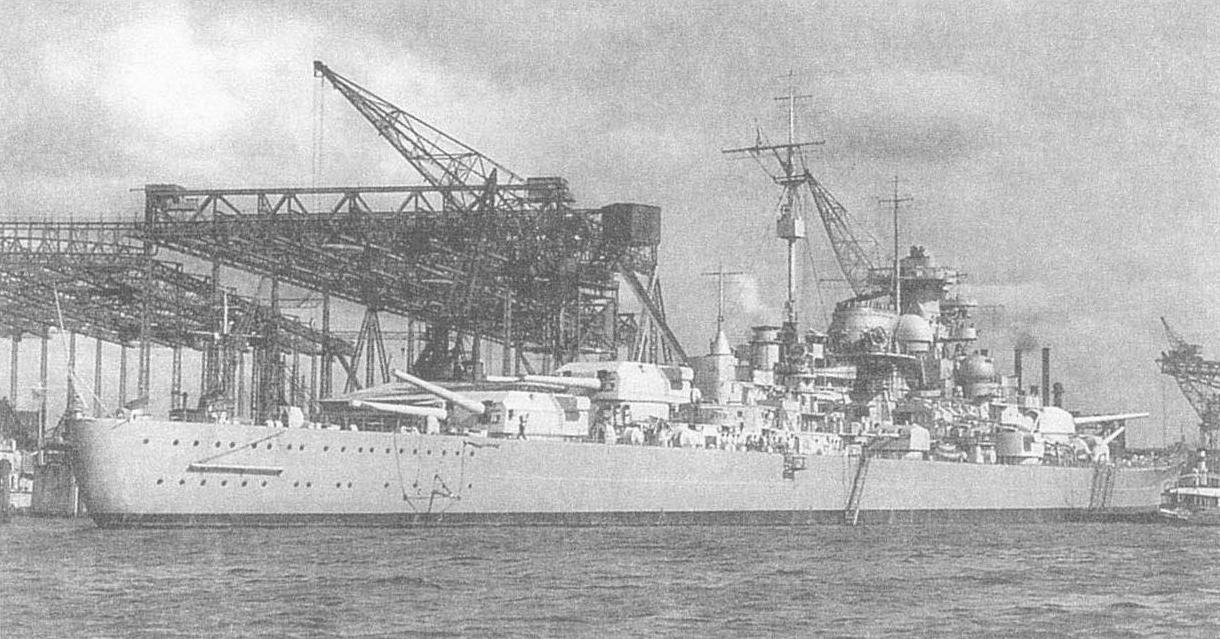
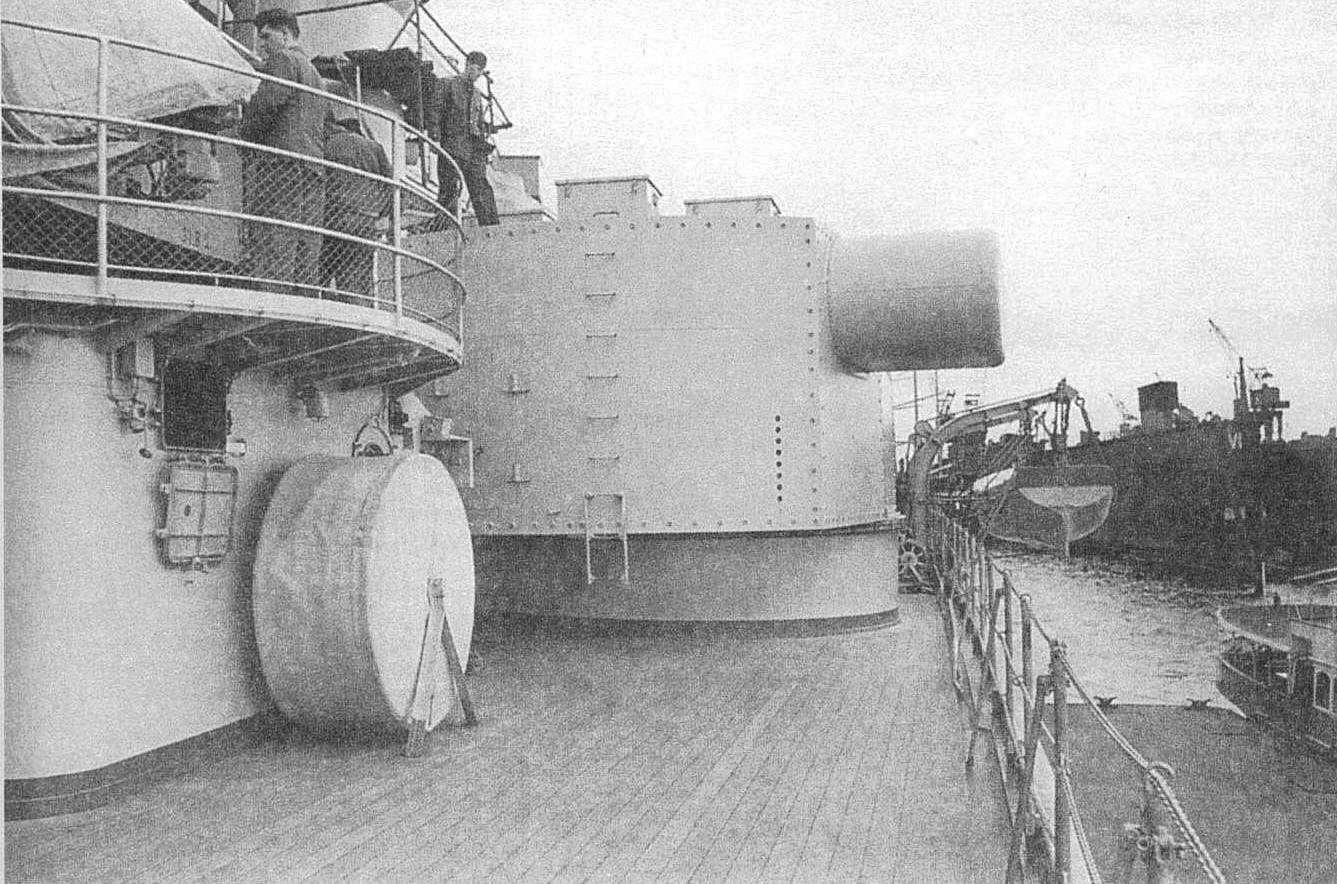
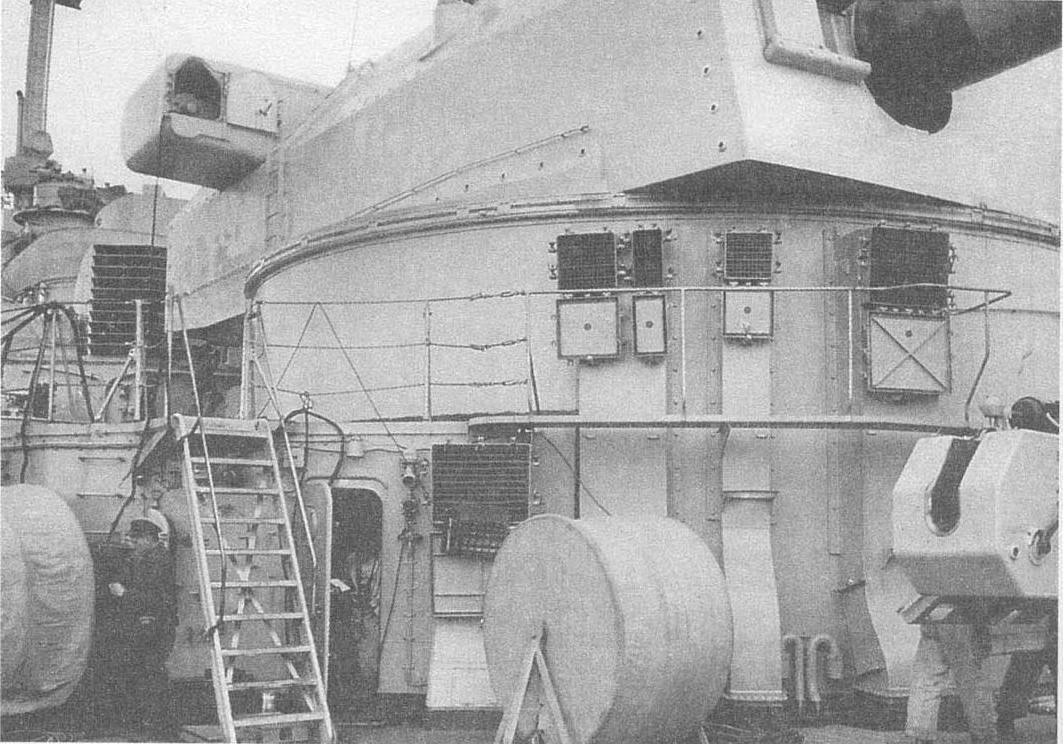
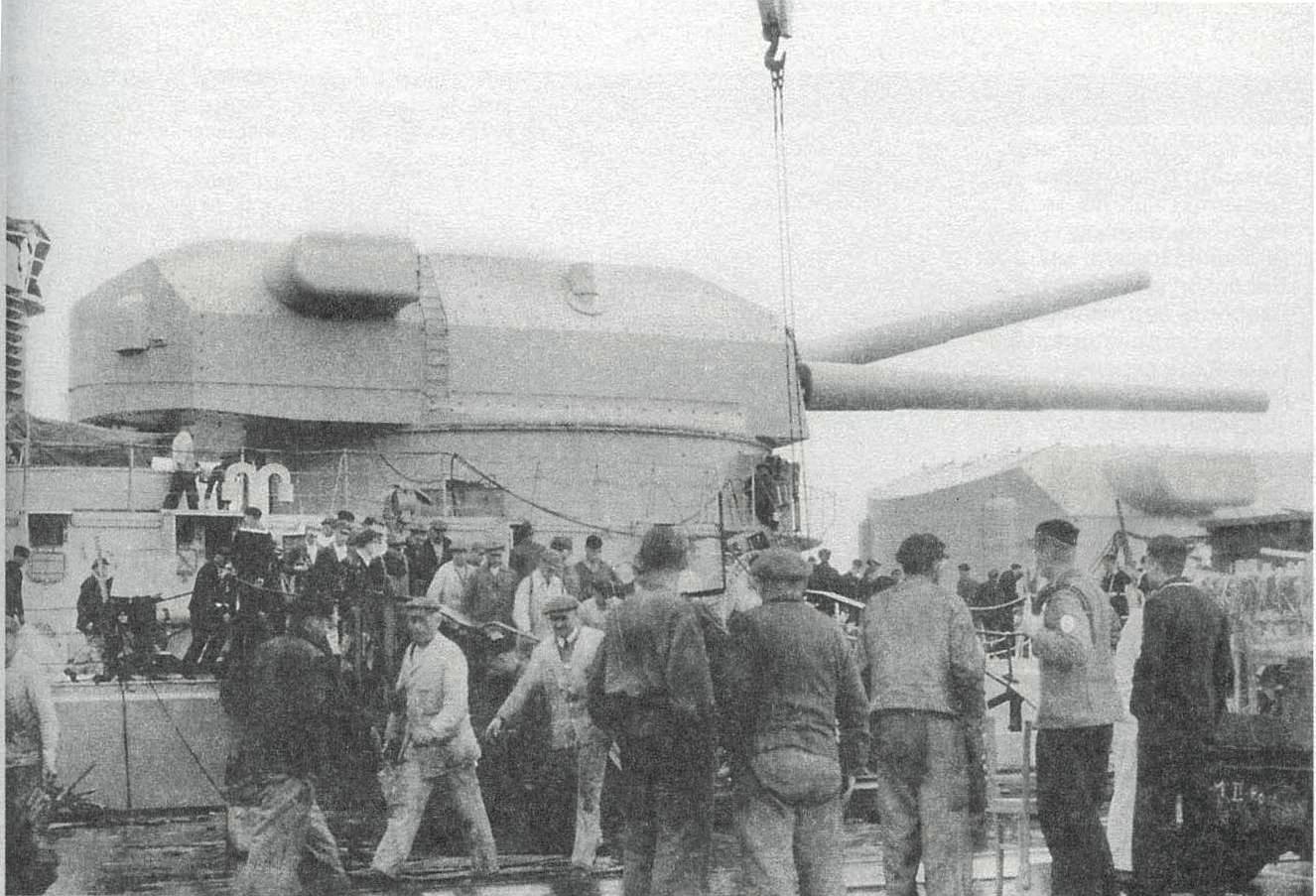


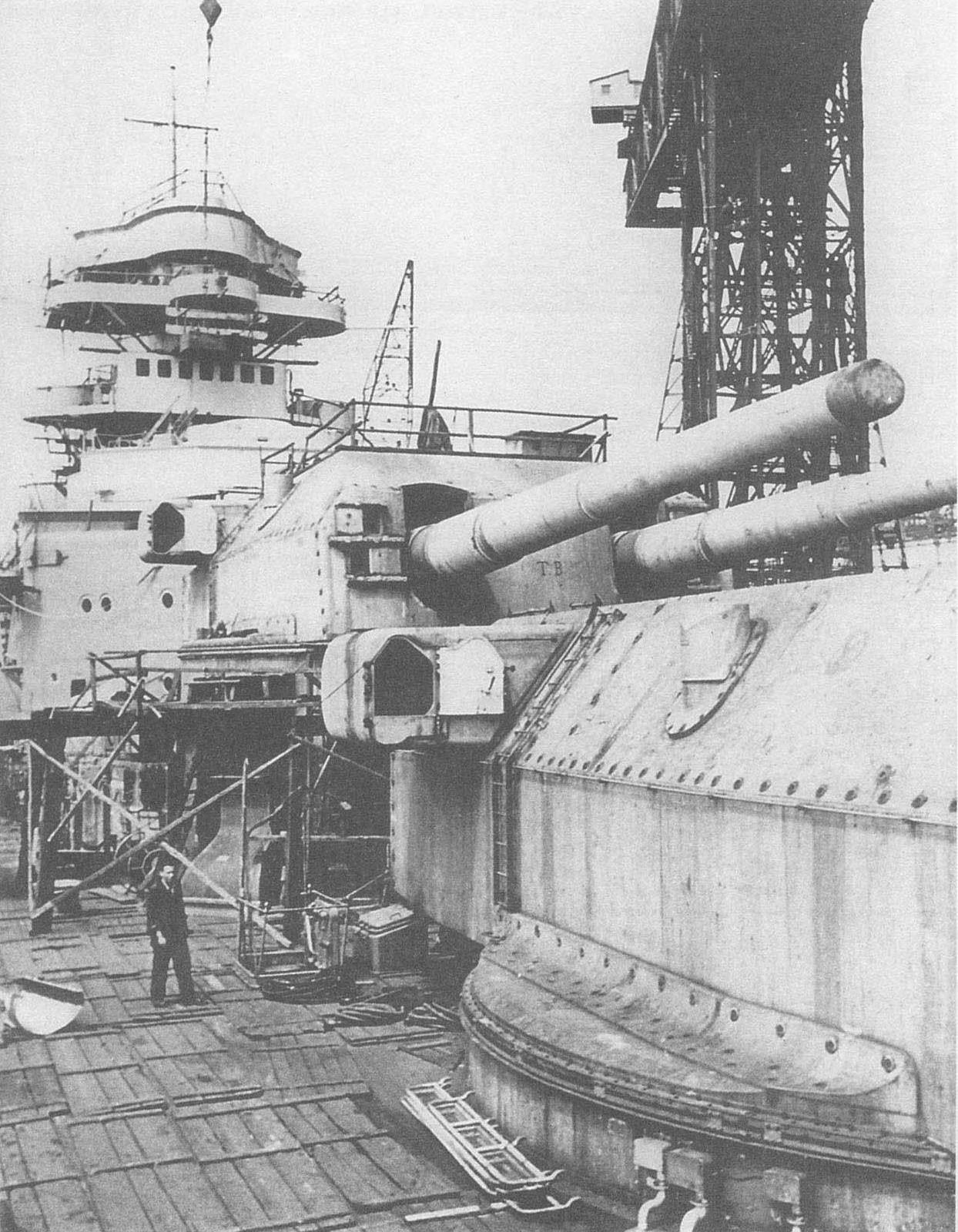
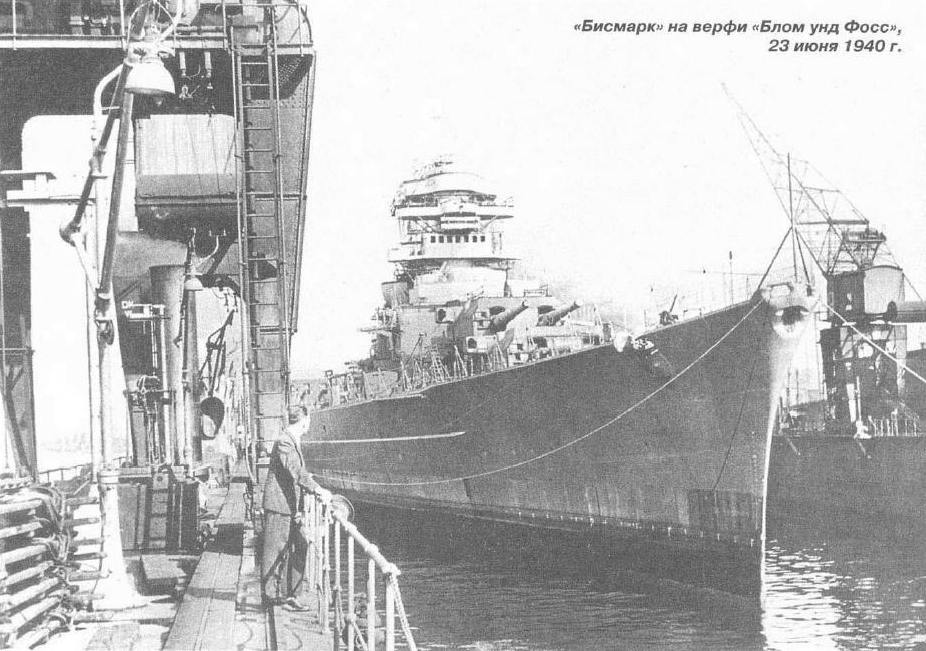
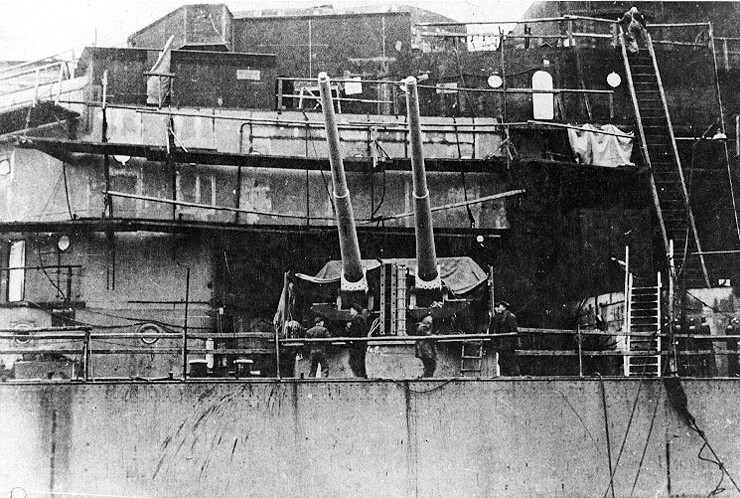
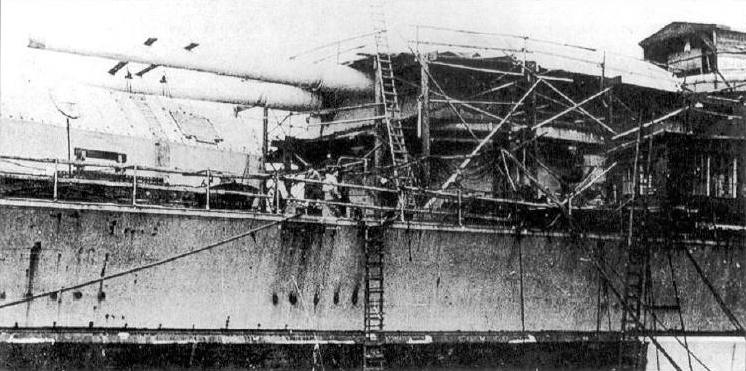
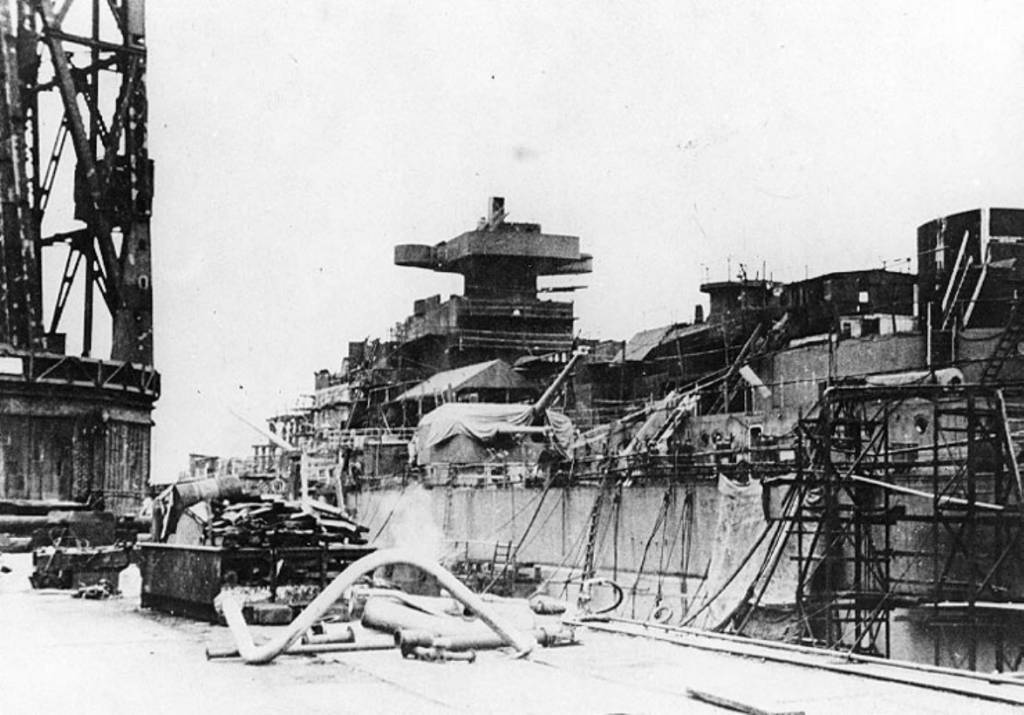
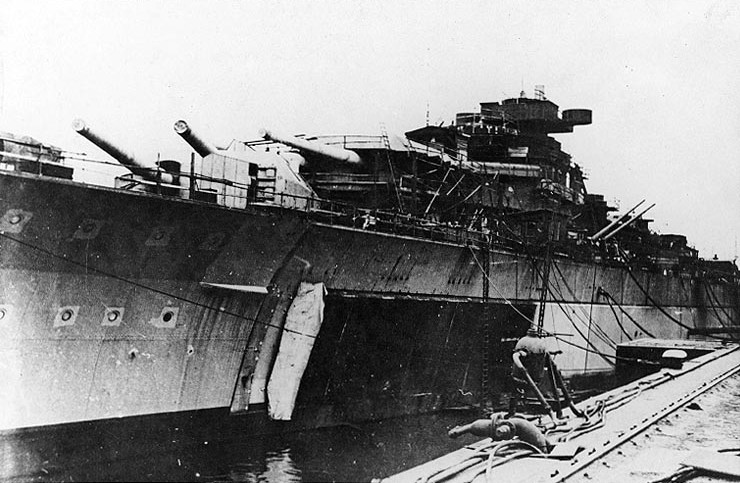
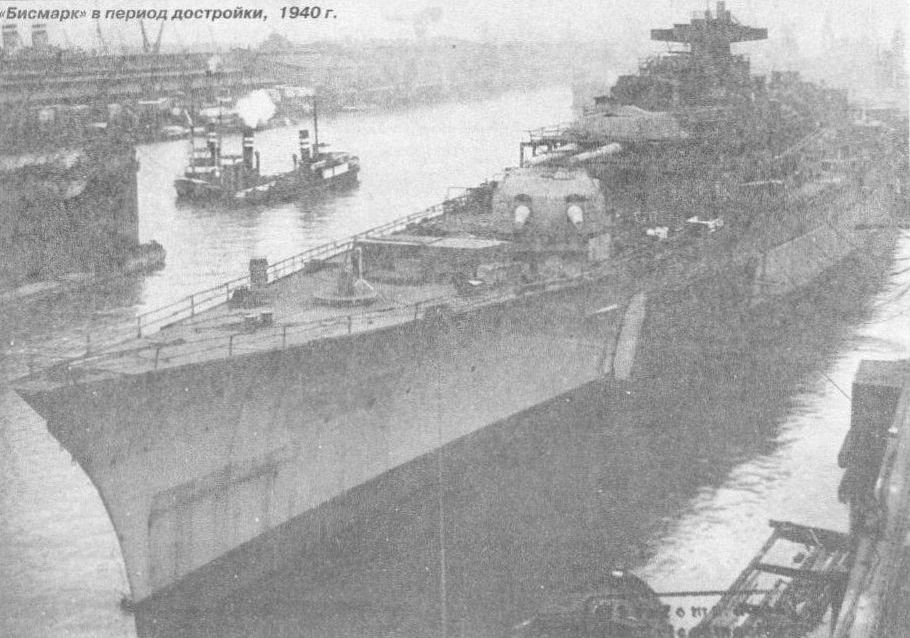

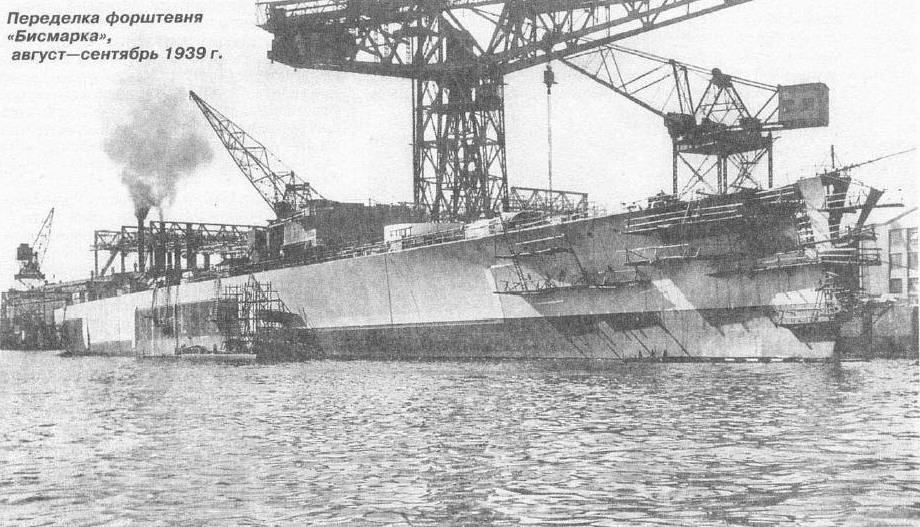
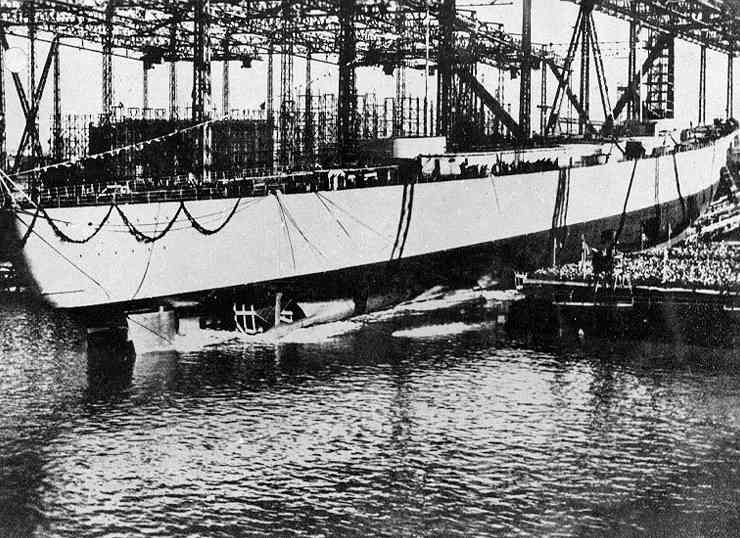
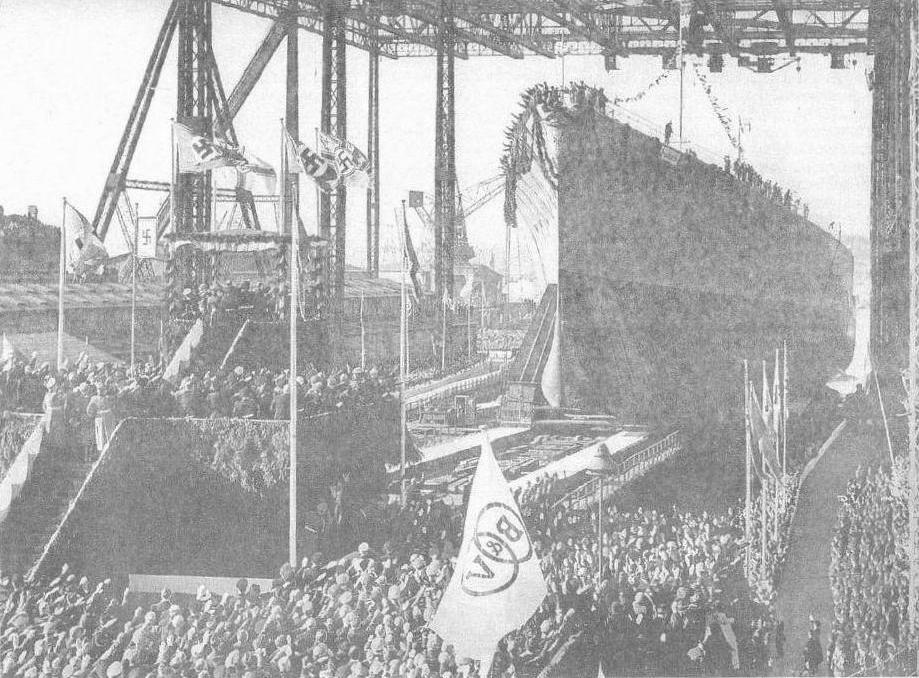

 Отто Эдуард Леопольд Карл-Вильгельм-Фердинанд герцог фон
Лауэнбург князь фон Бисмарк унд Шёнхаузен (нем. Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen; 1815 - 1898) — князь, политик, государственный деятель, первый канцлер
Германской империи (второго рейха), прозванный "железным канцлером". Имел почётный чин (в мирное время) прусского генерал-полковника в ранге генерал-фельдмаршала.
Отто Эдуард Леопольд Карл-Вильгельм-Фердинанд герцог фон
Лауэнбург князь фон Бисмарк унд Шёнхаузен (нем. Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen; 1815 - 1898) — князь, политик, государственный деятель, первый канцлер
Германской империи (второго рейха), прозванный "железным канцлером". Имел почётный чин (в мирное время) прусского генерал-полковника в ранге генерал-фельдмаршала.