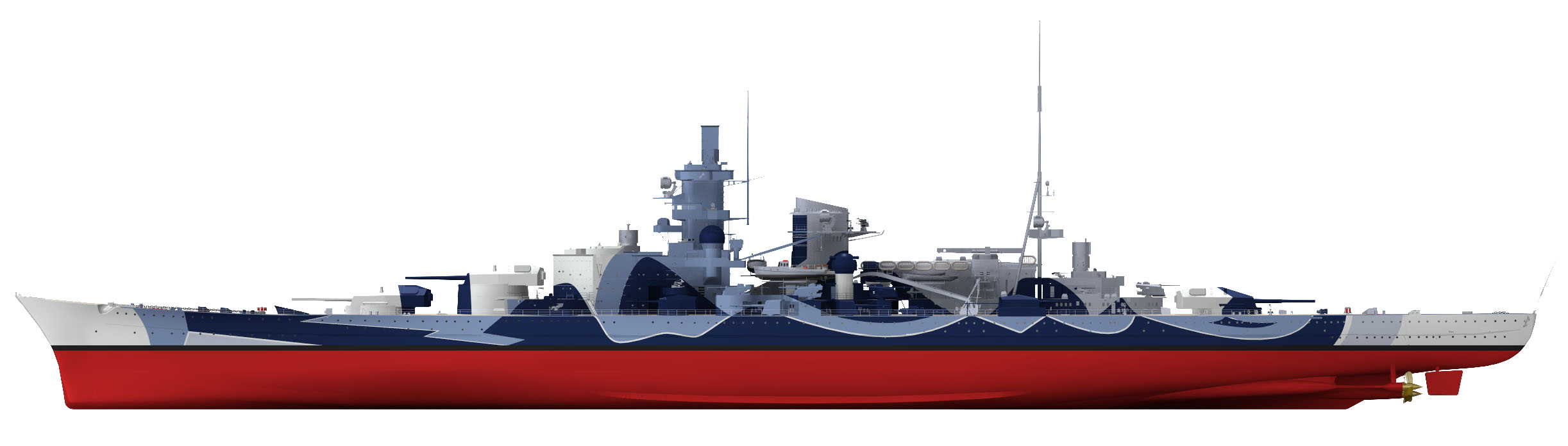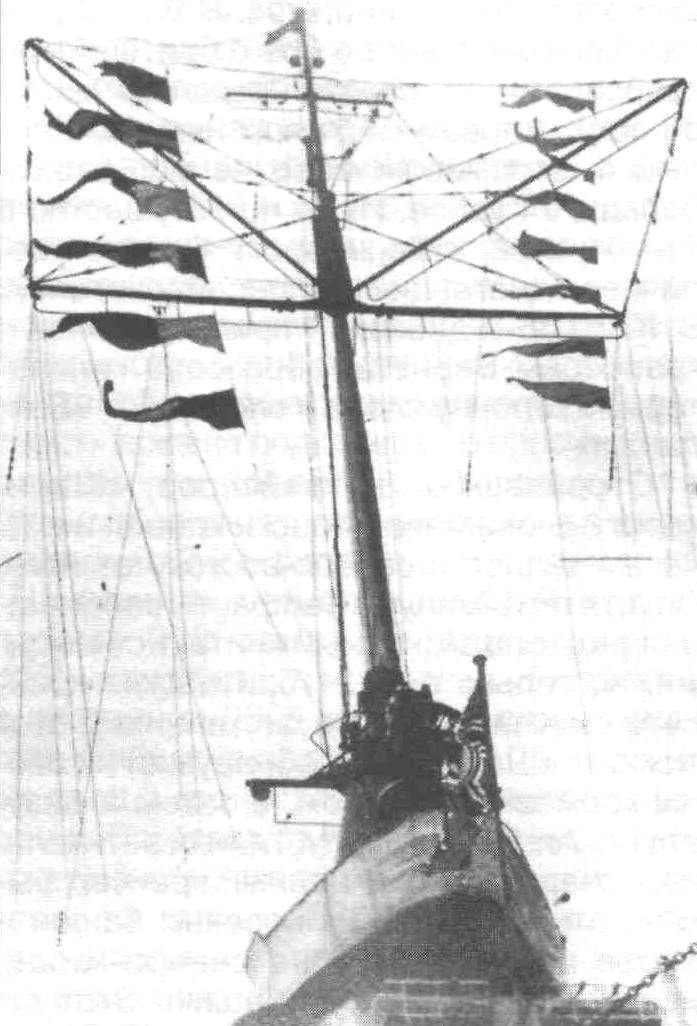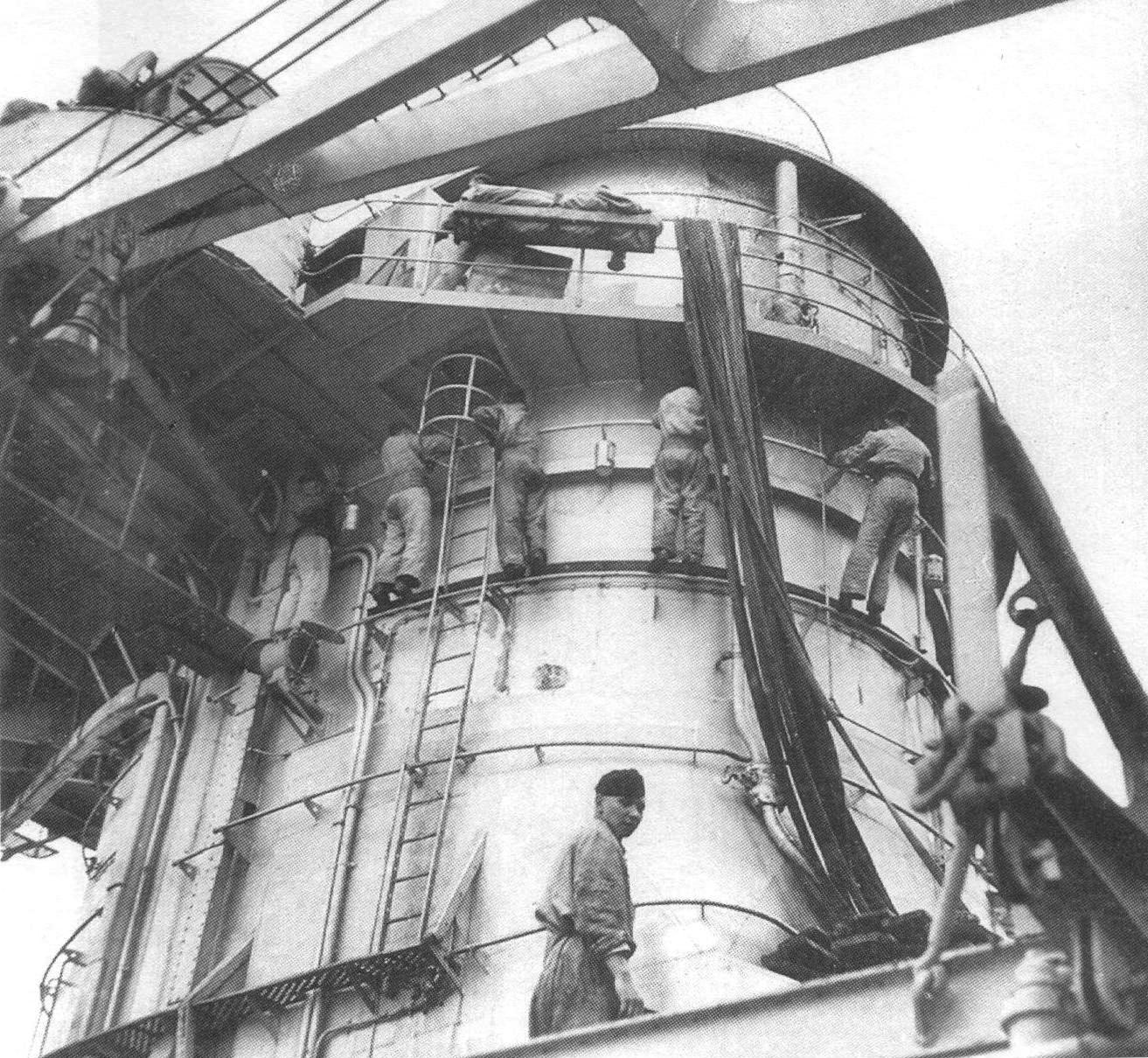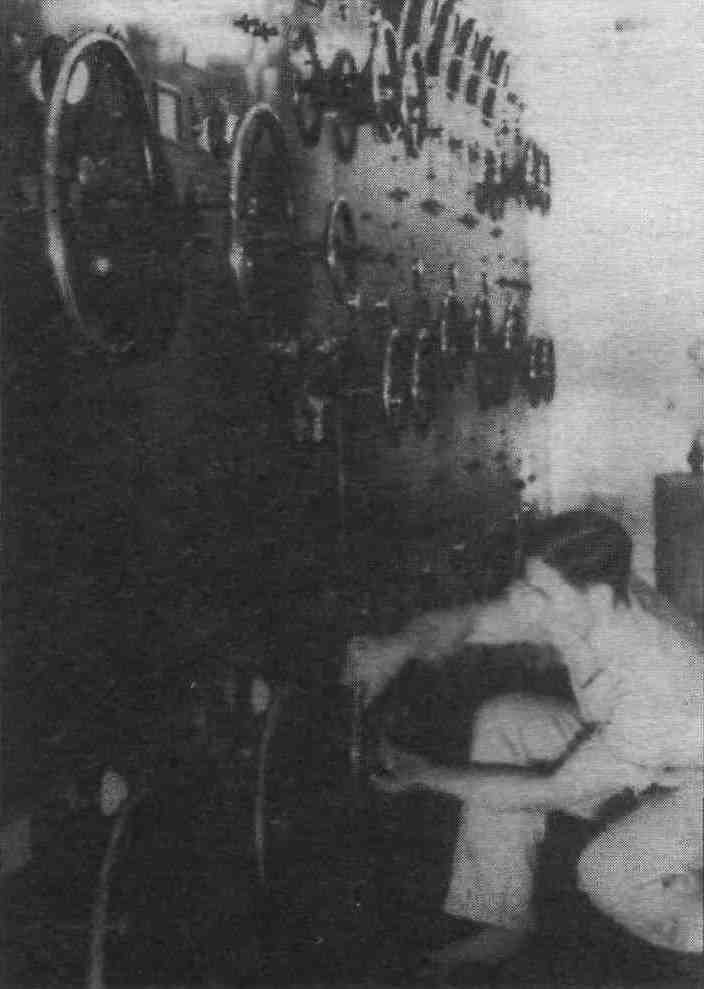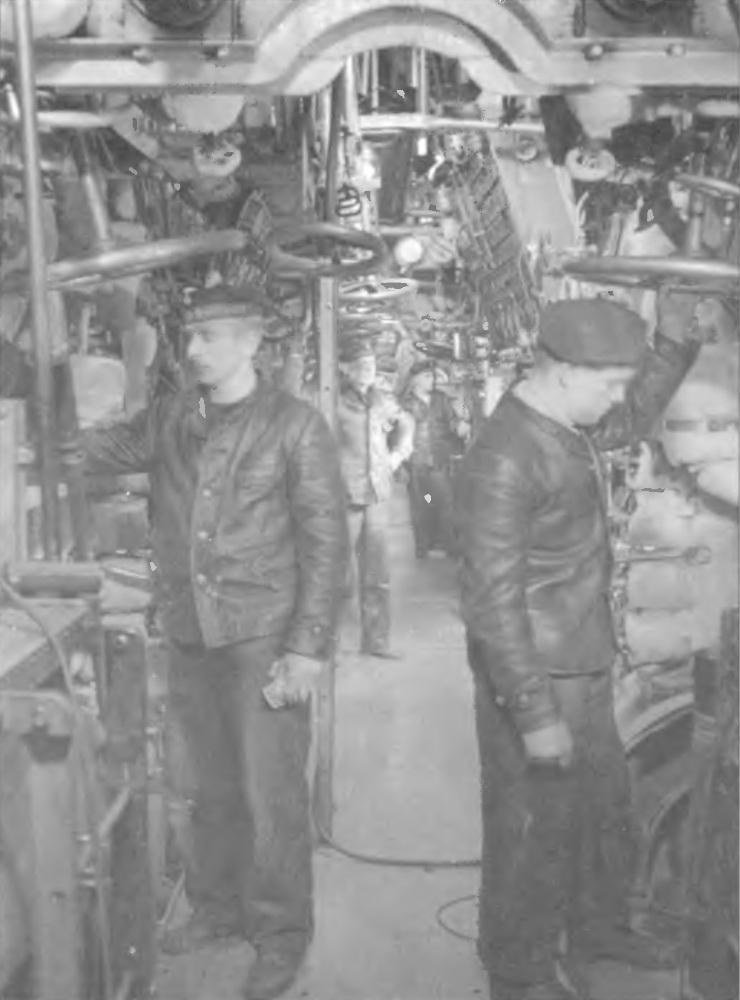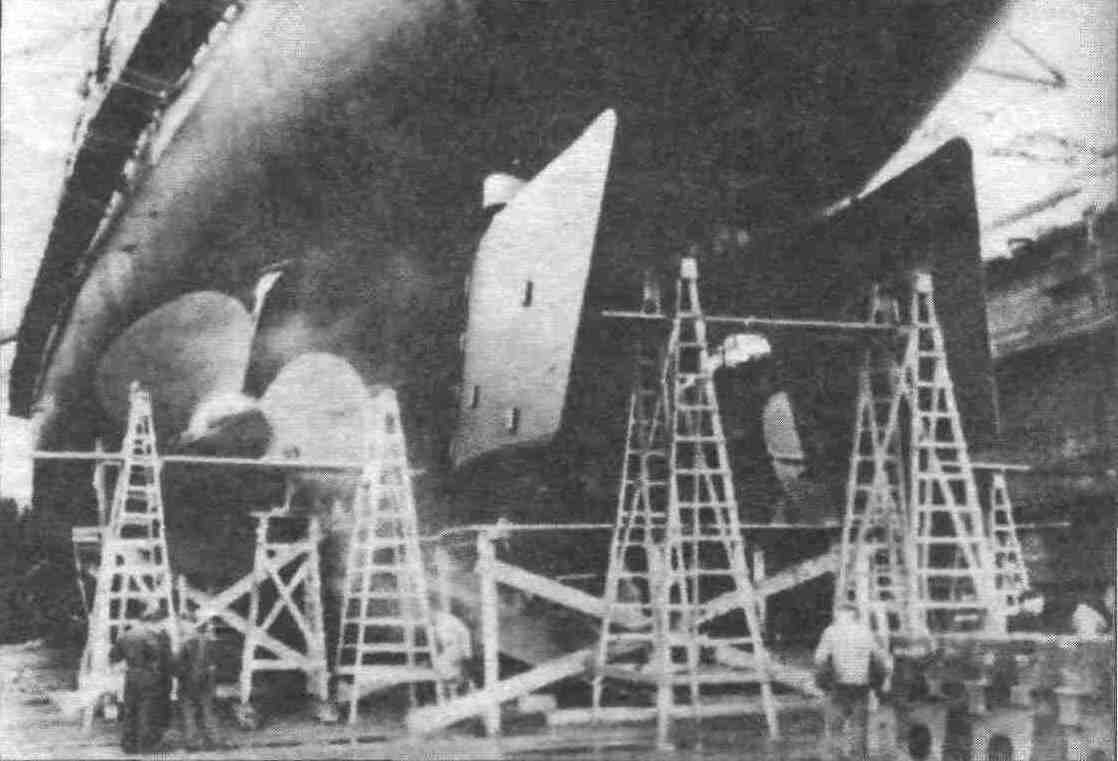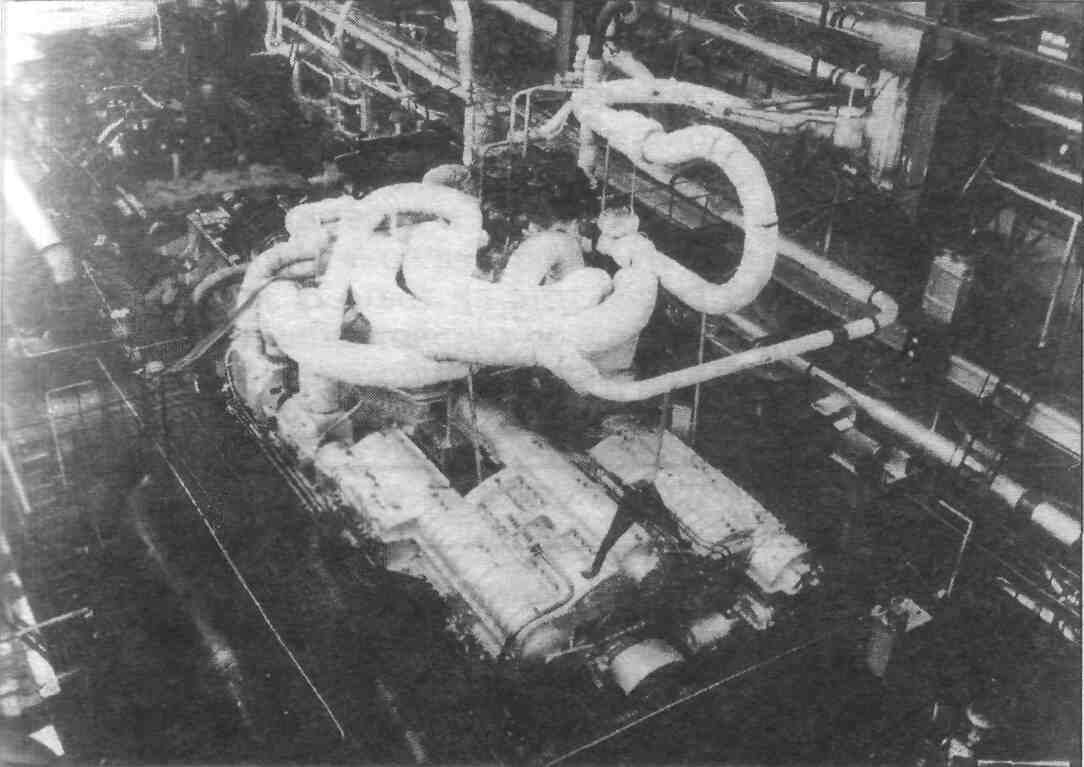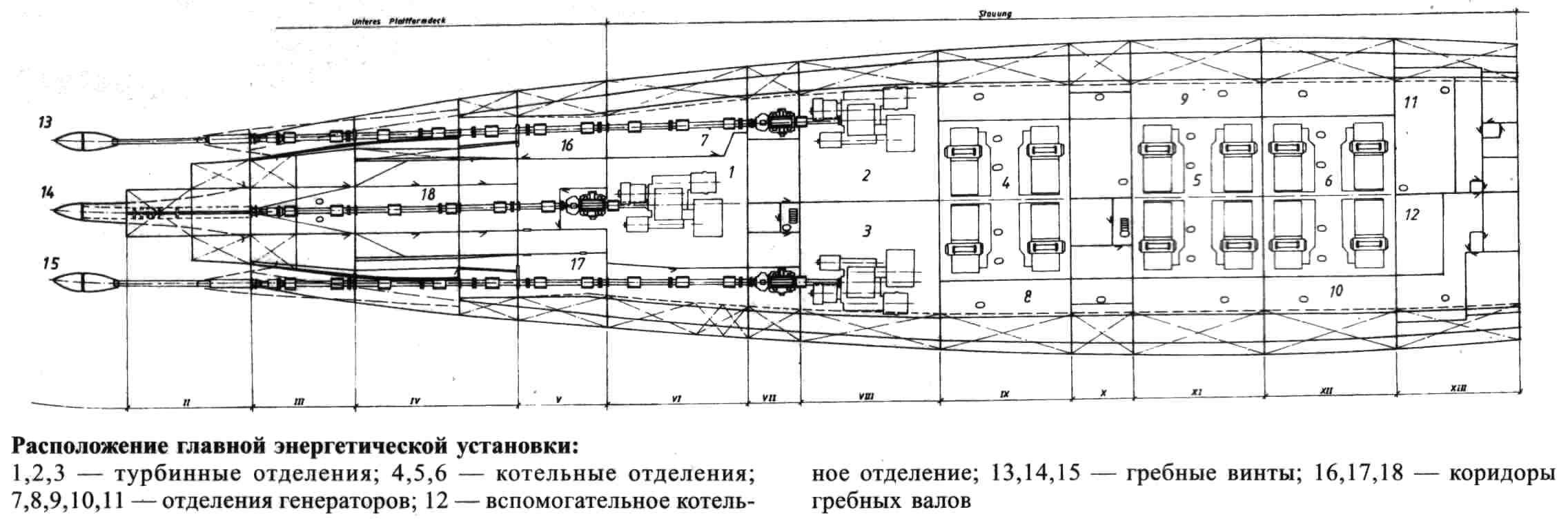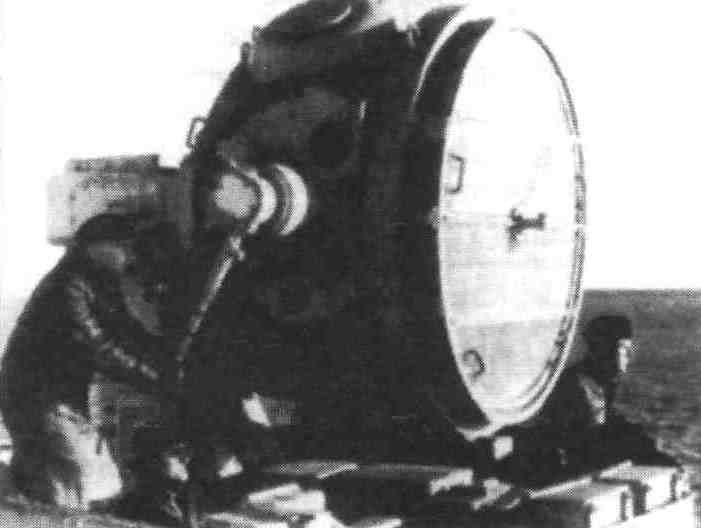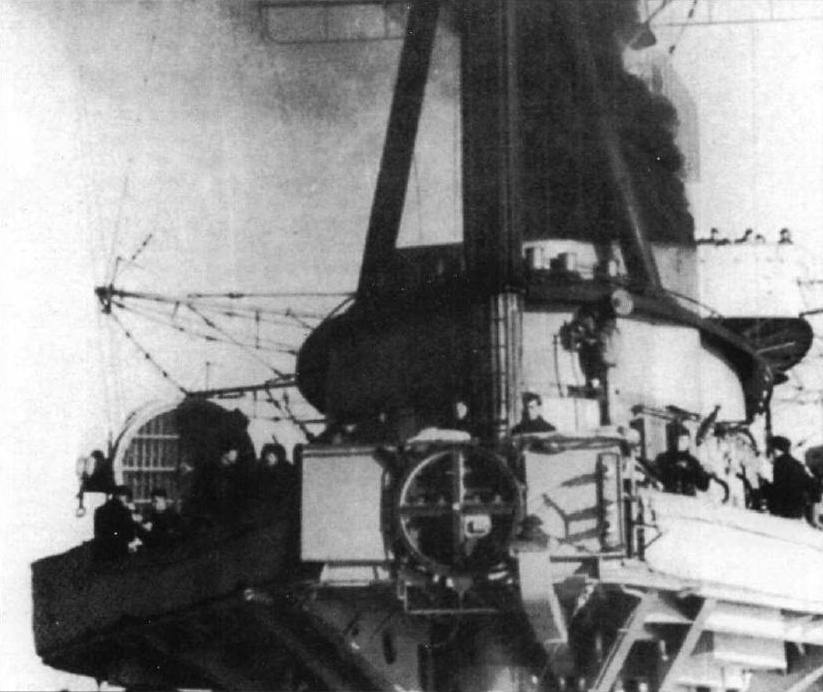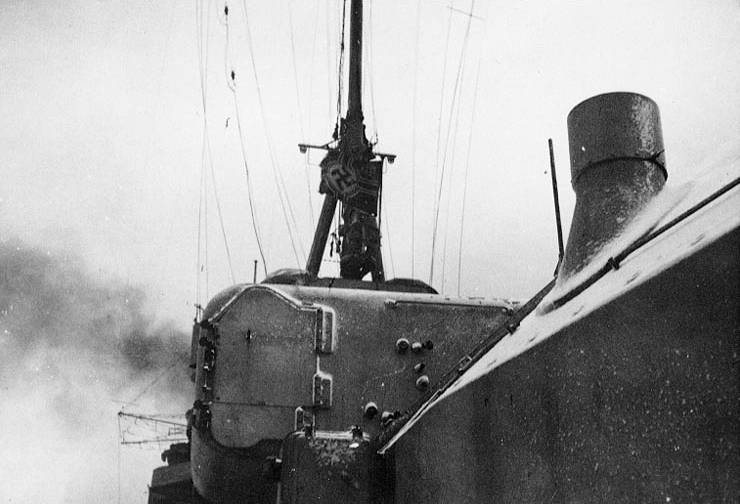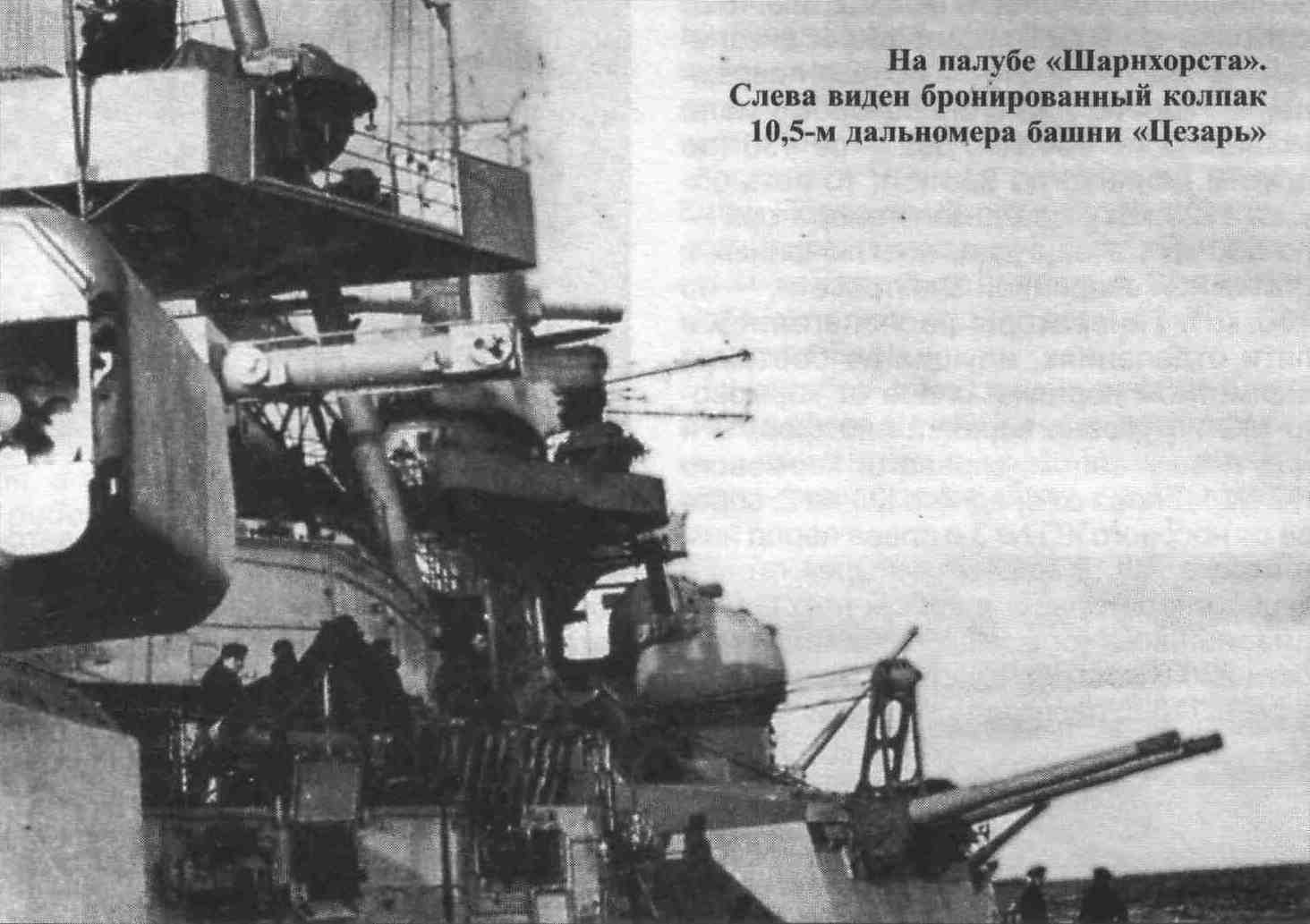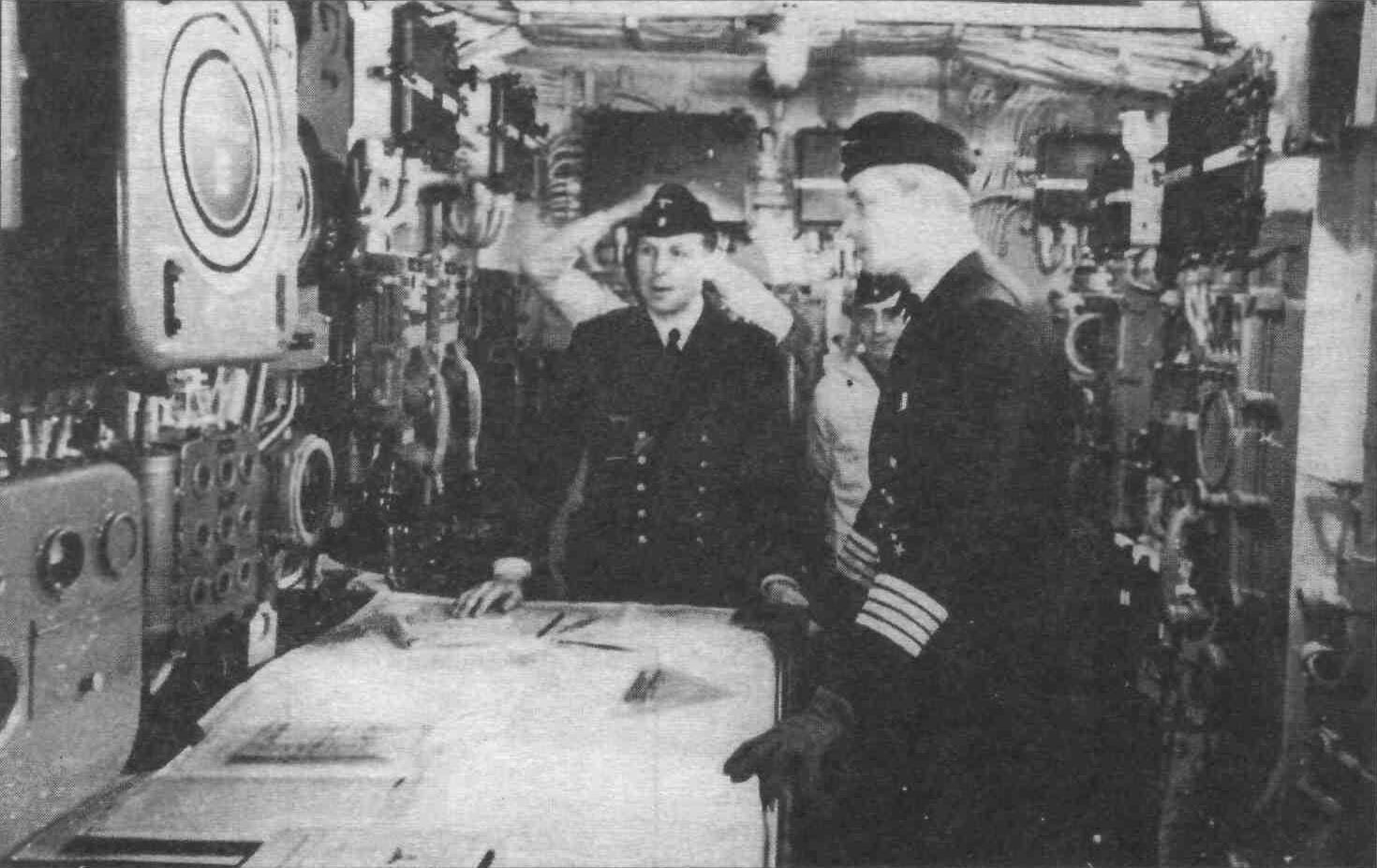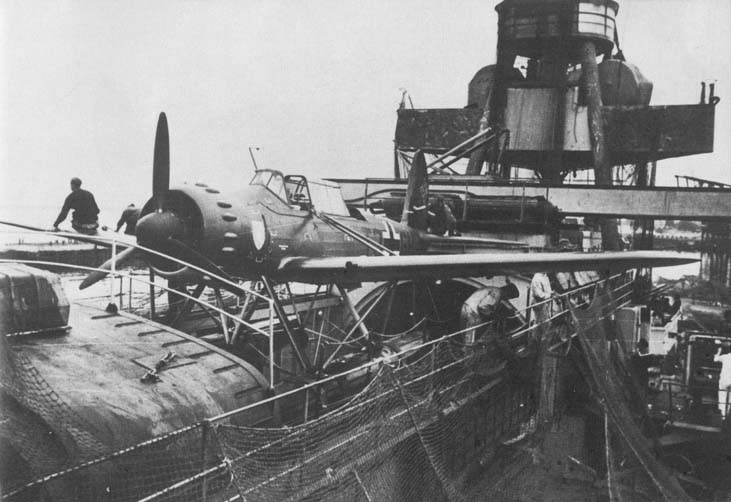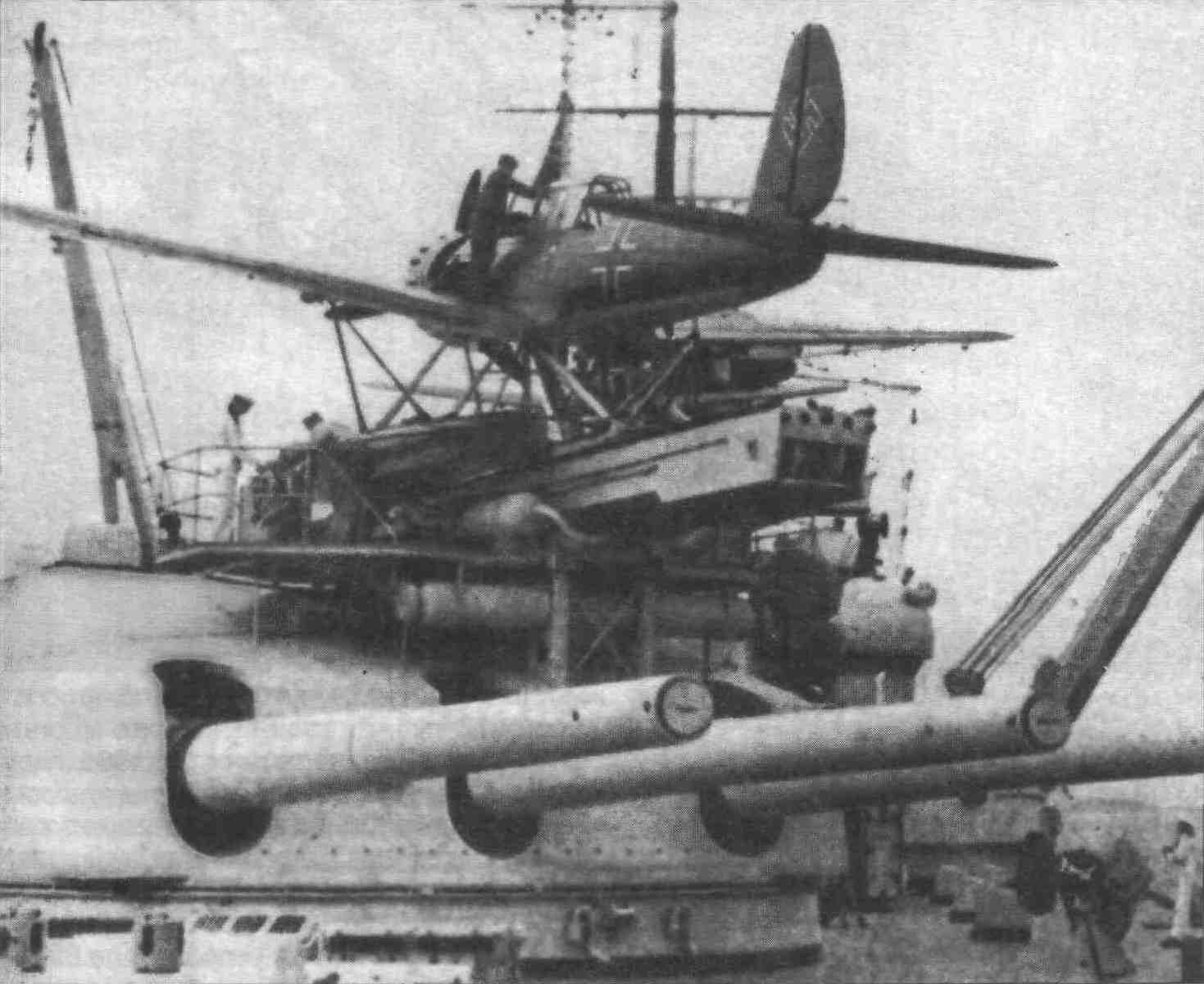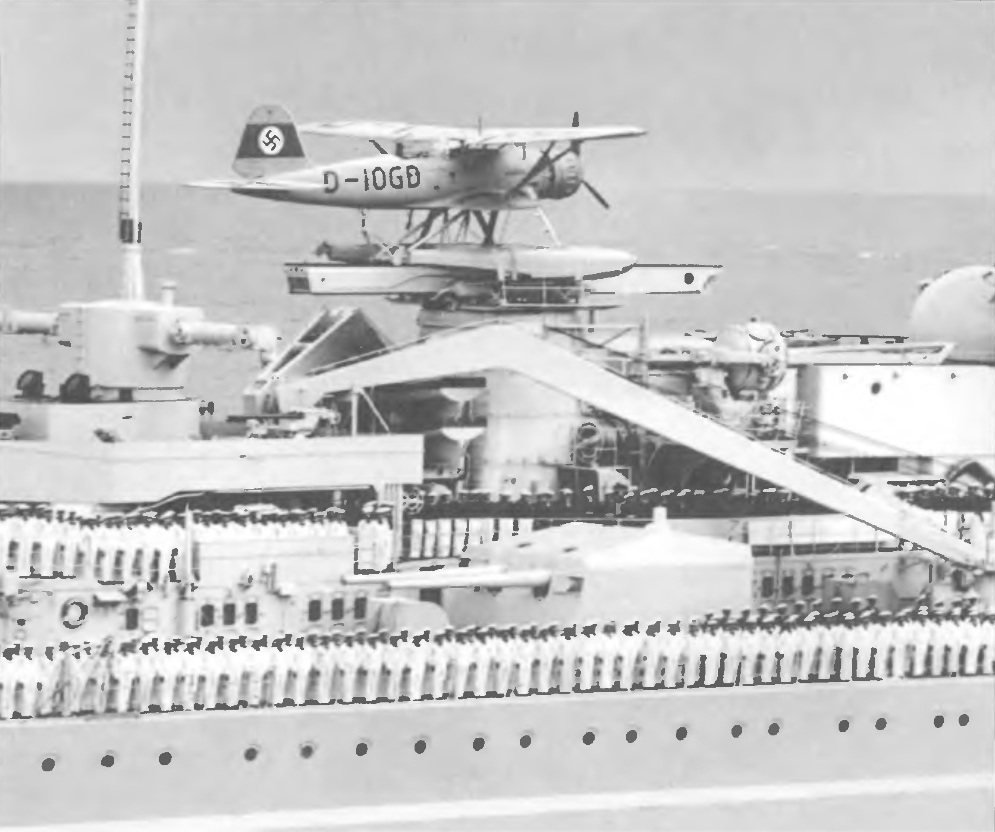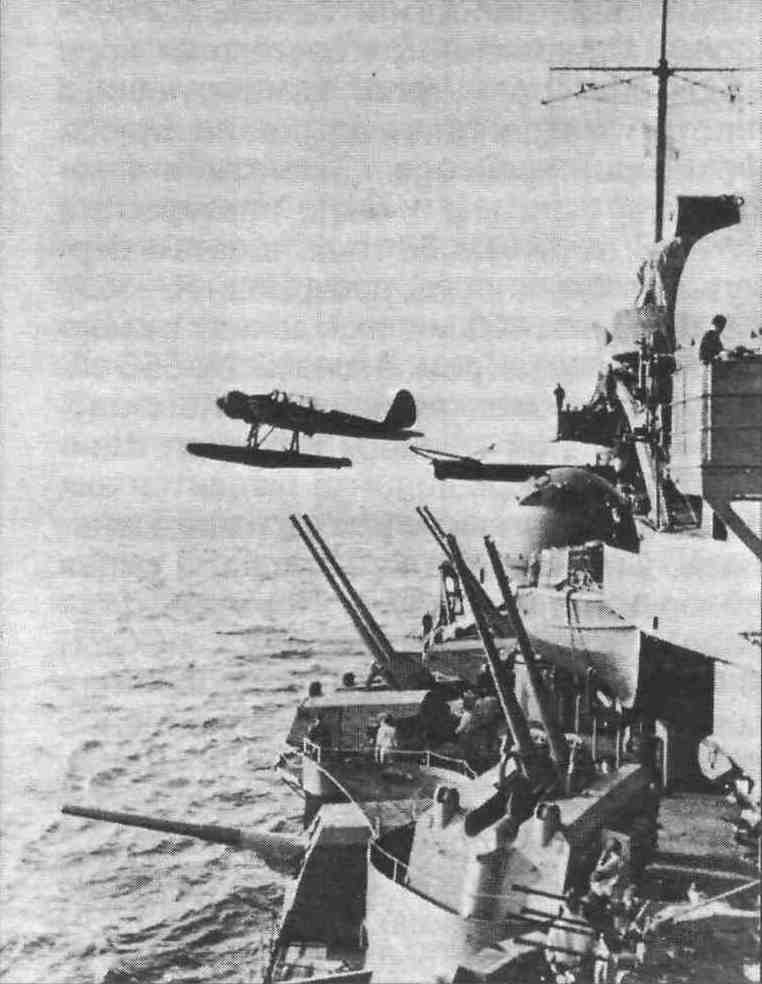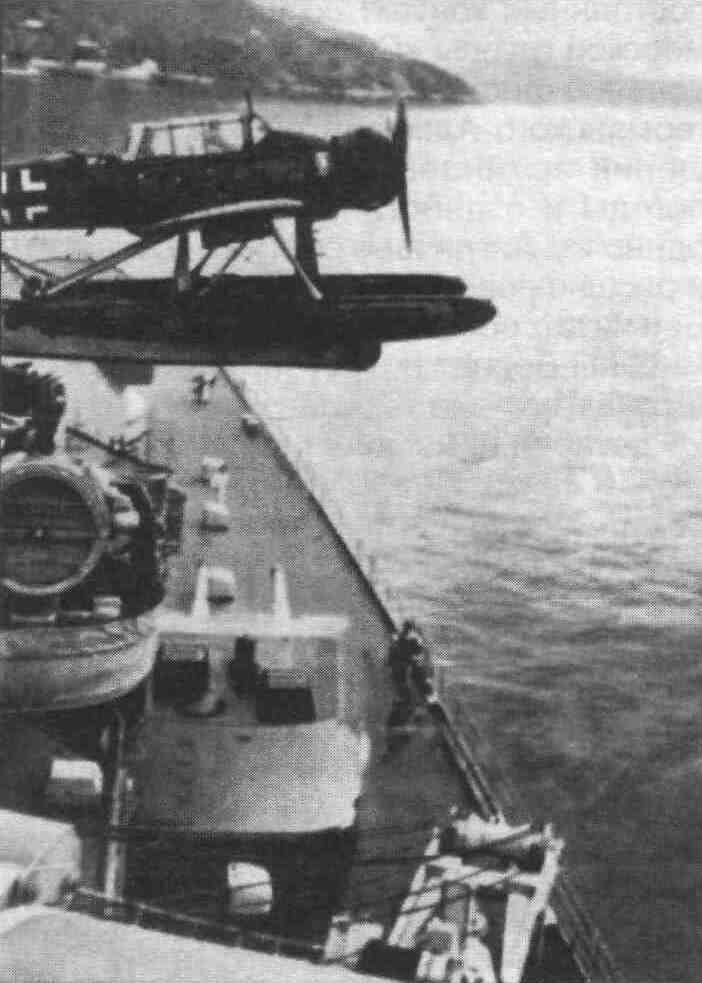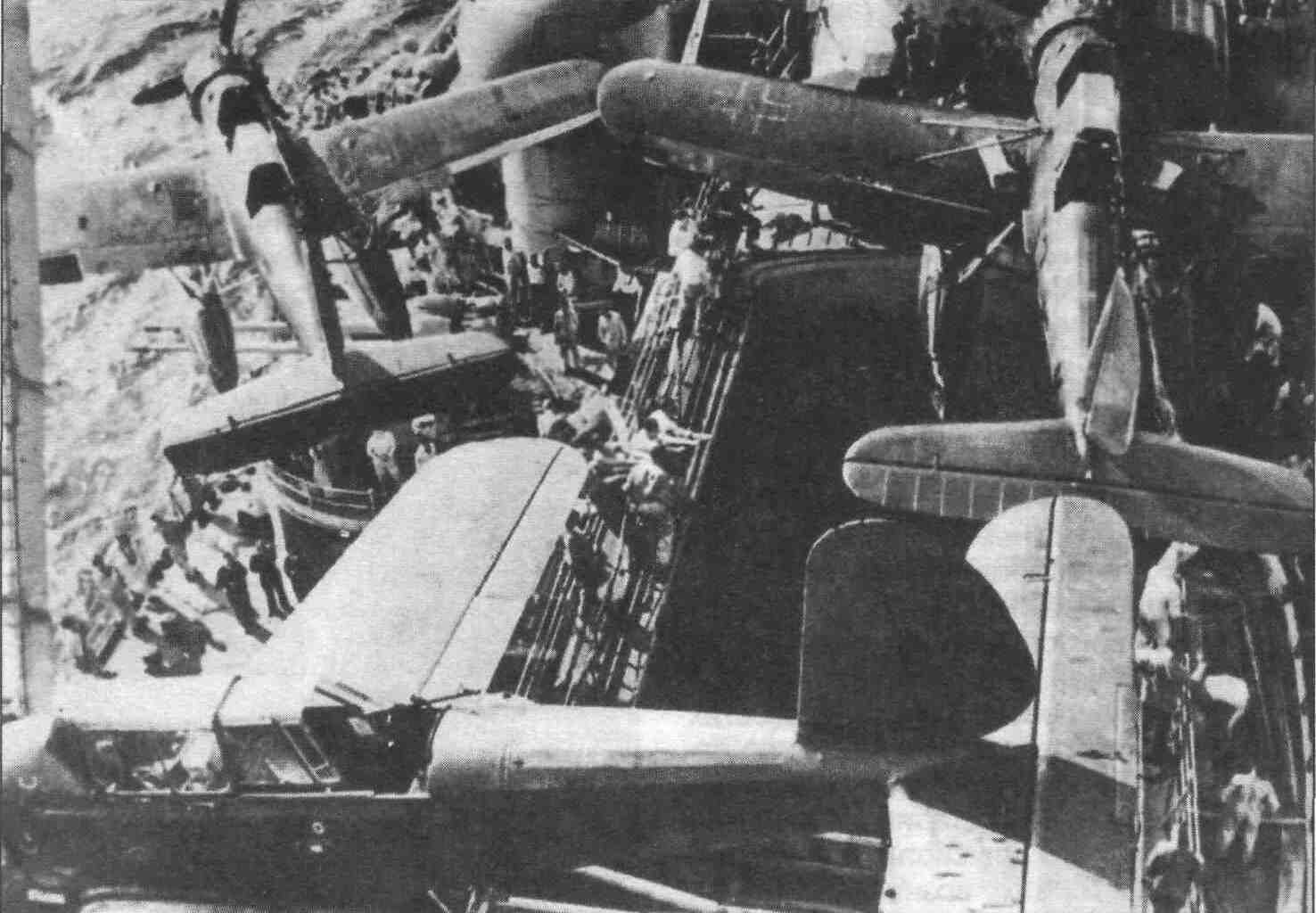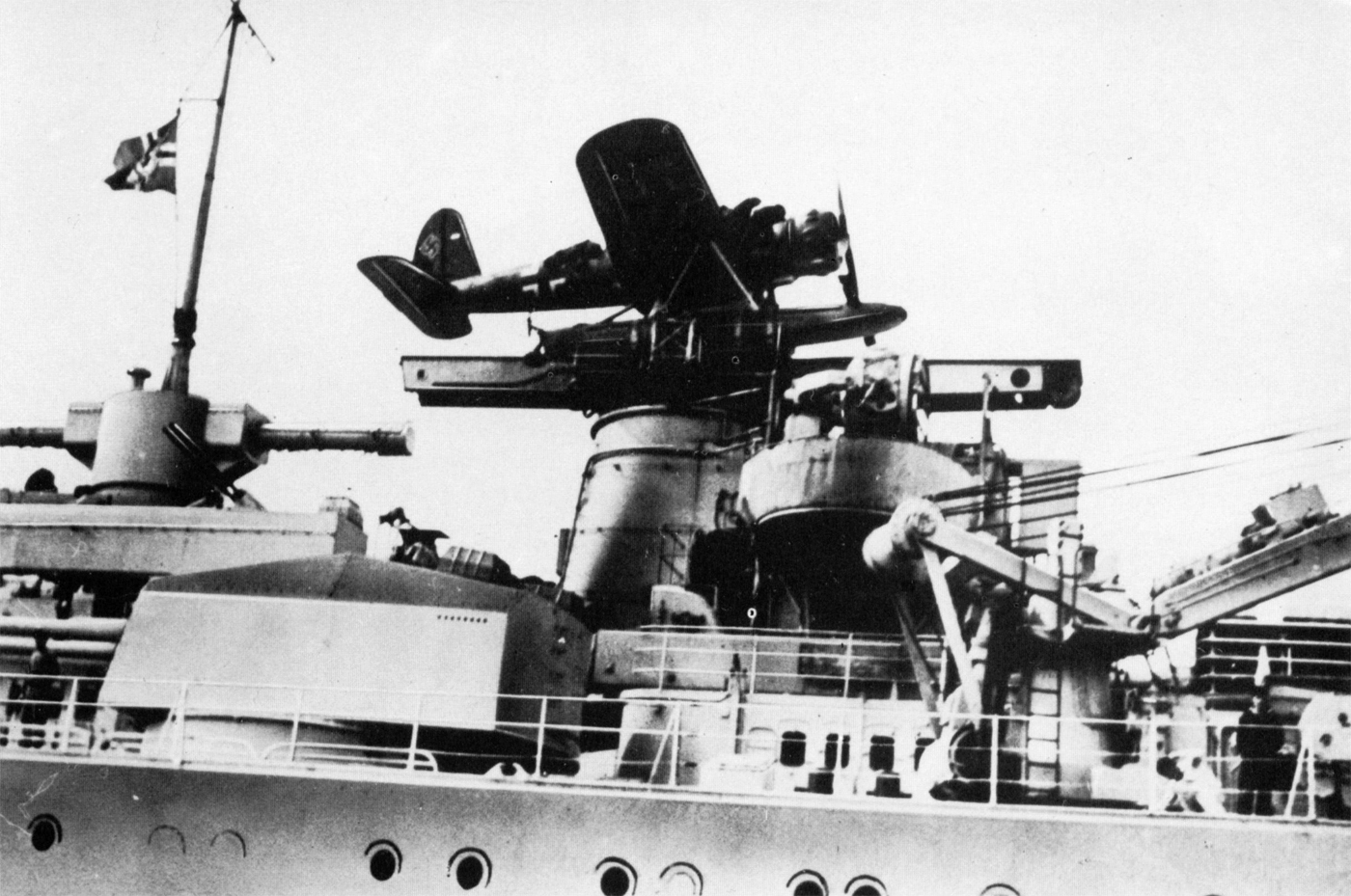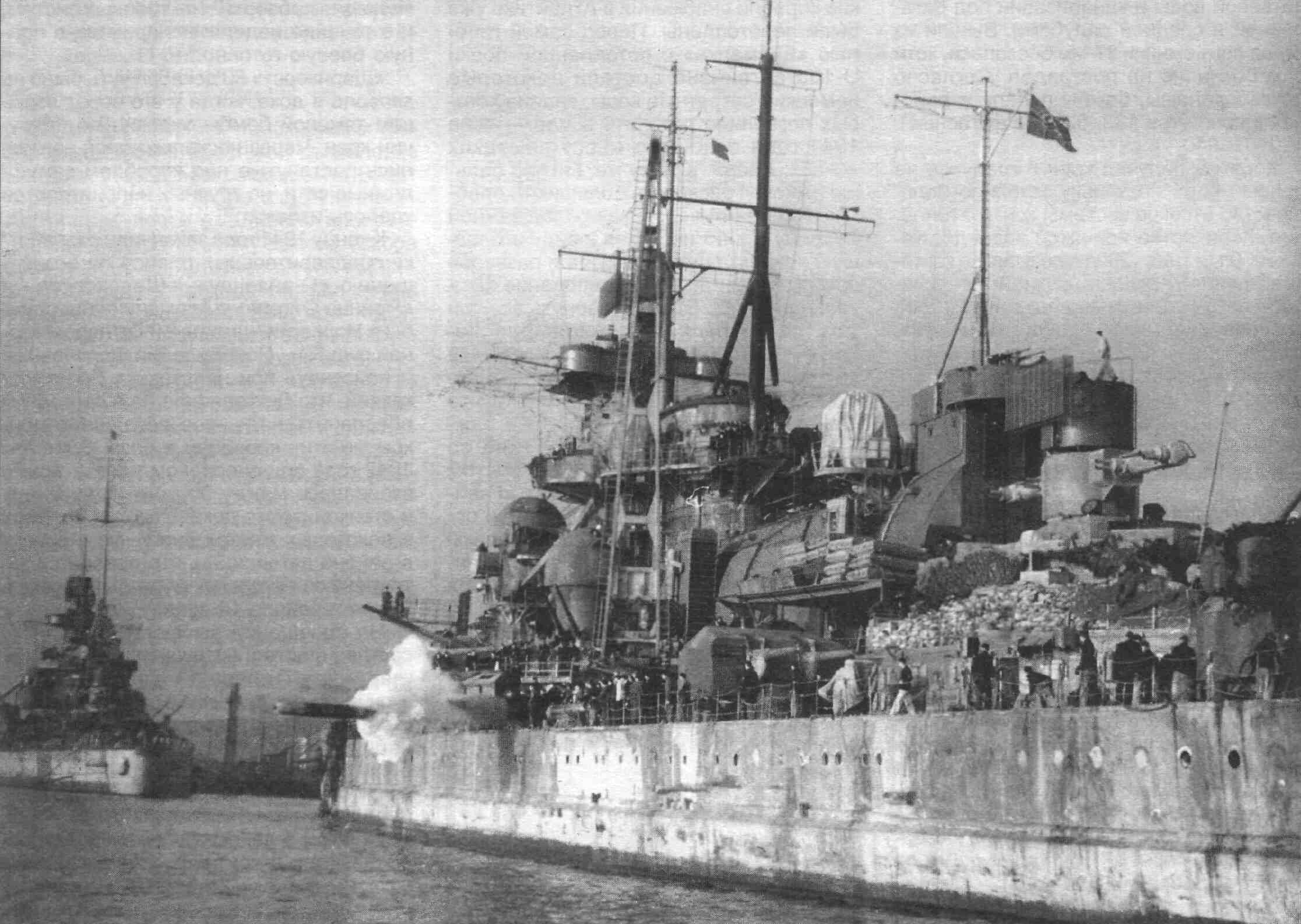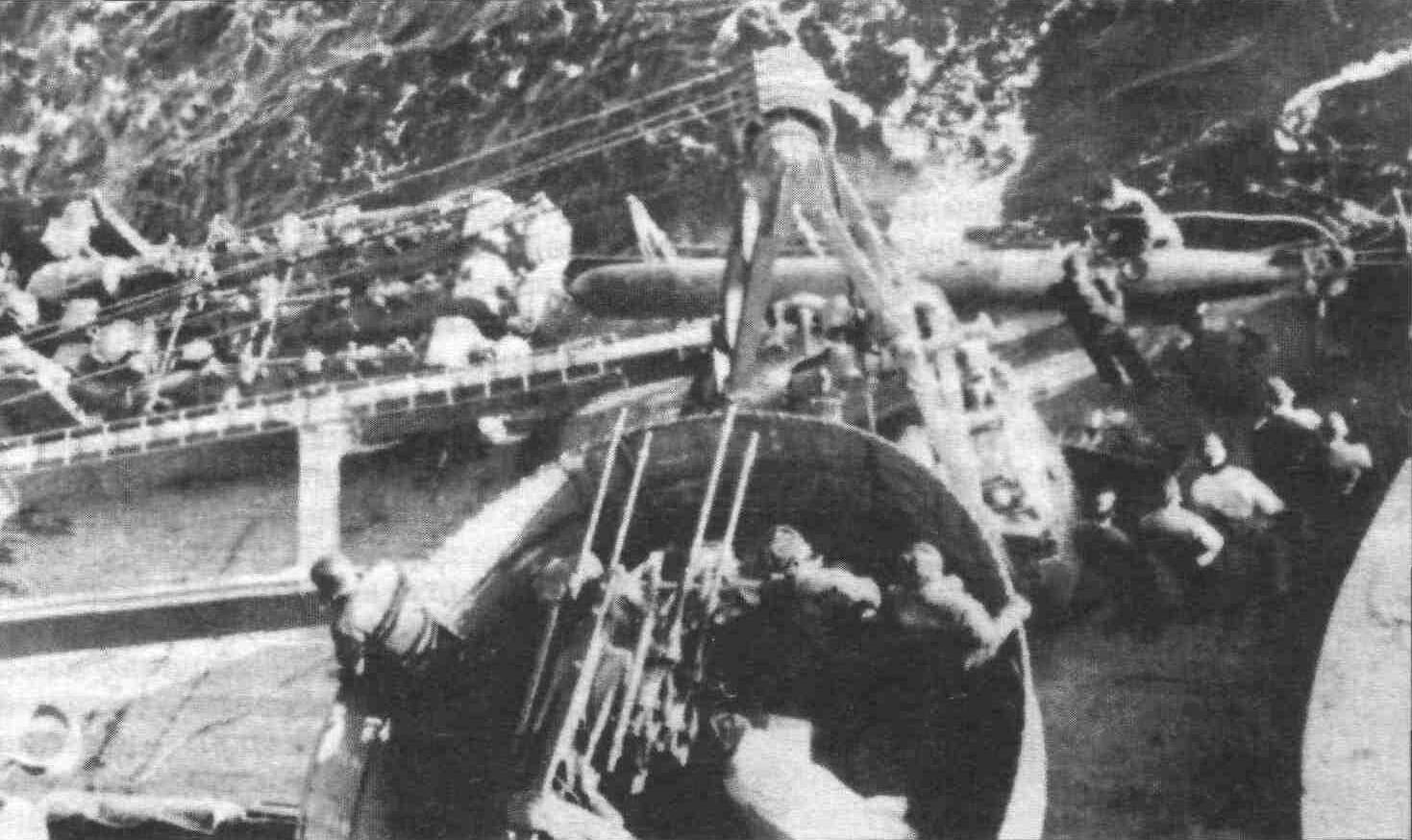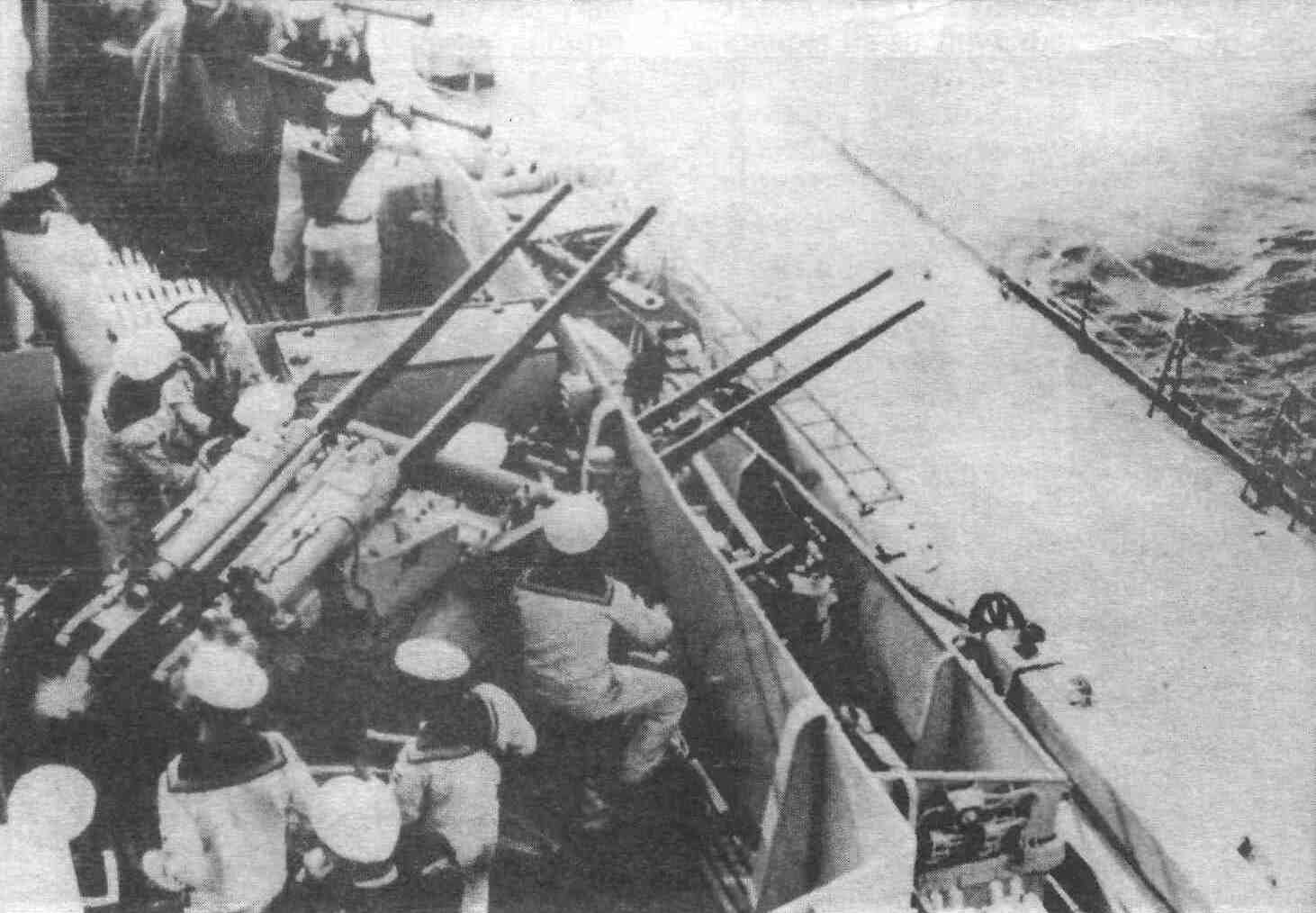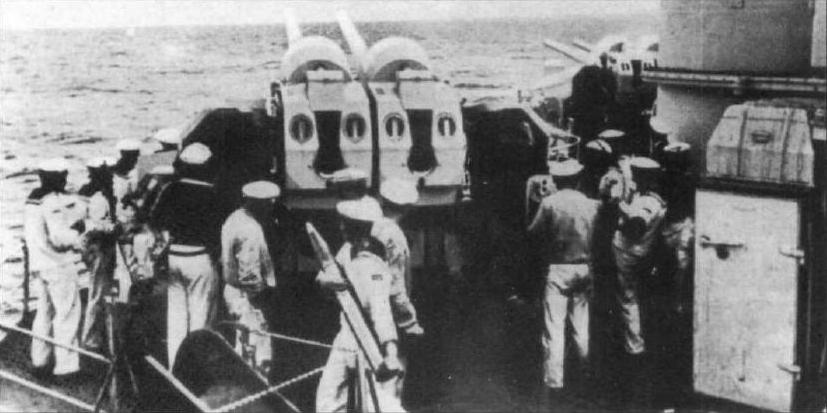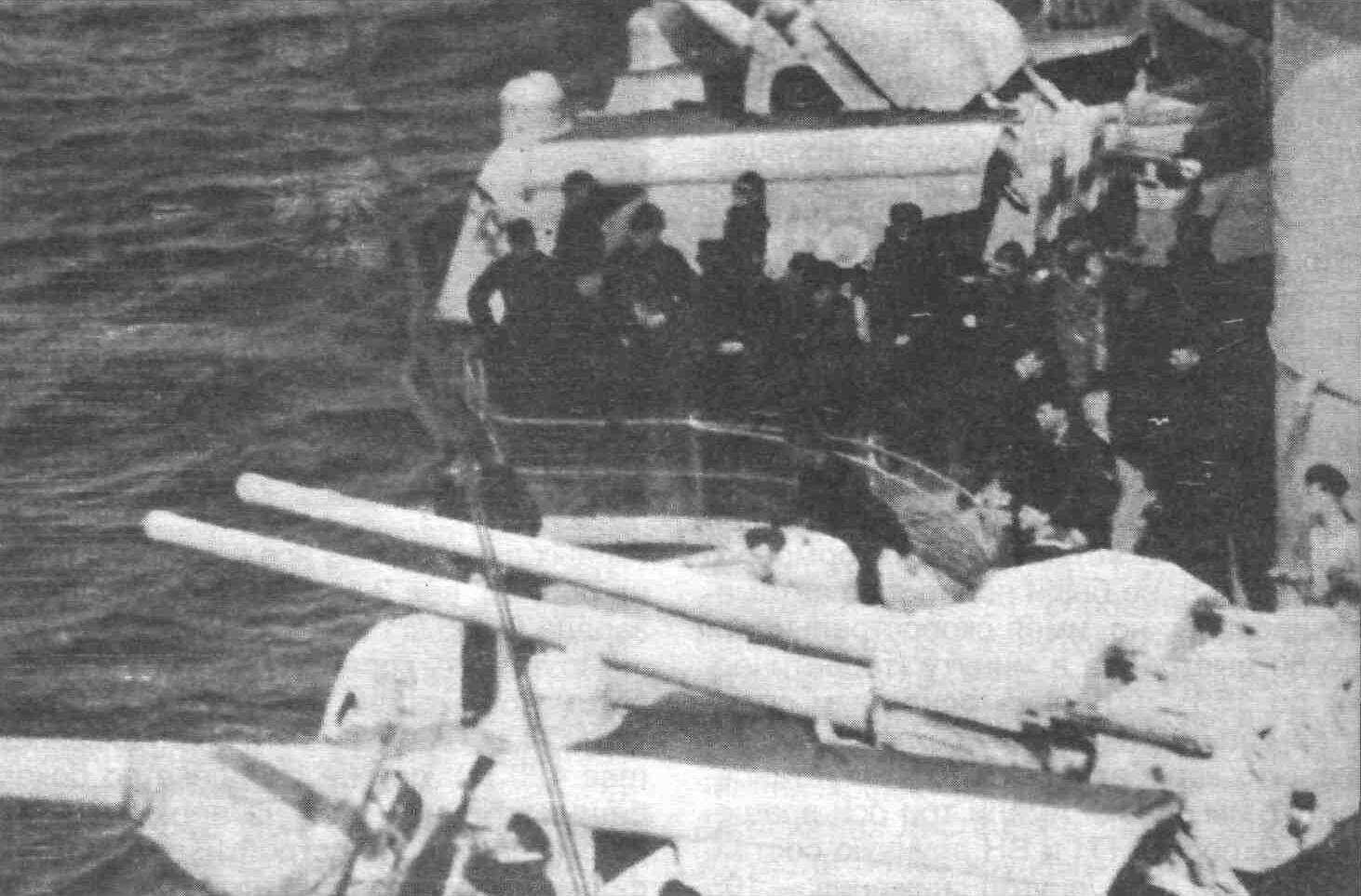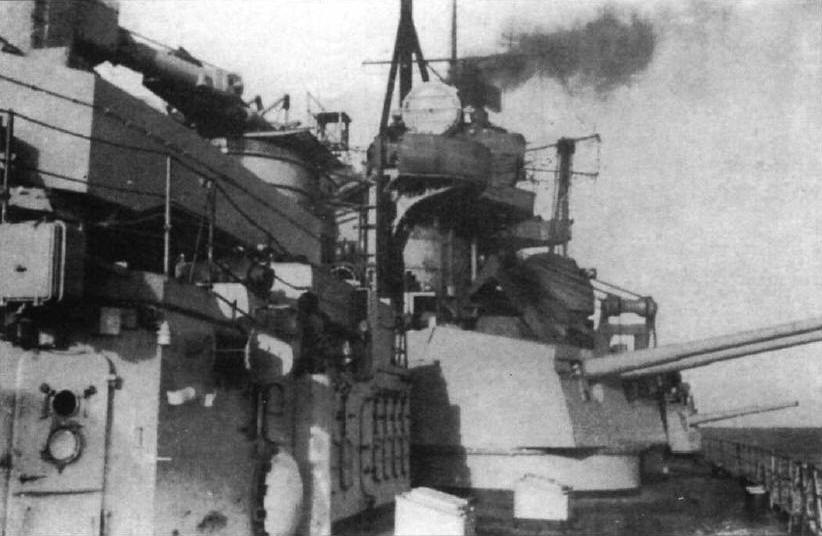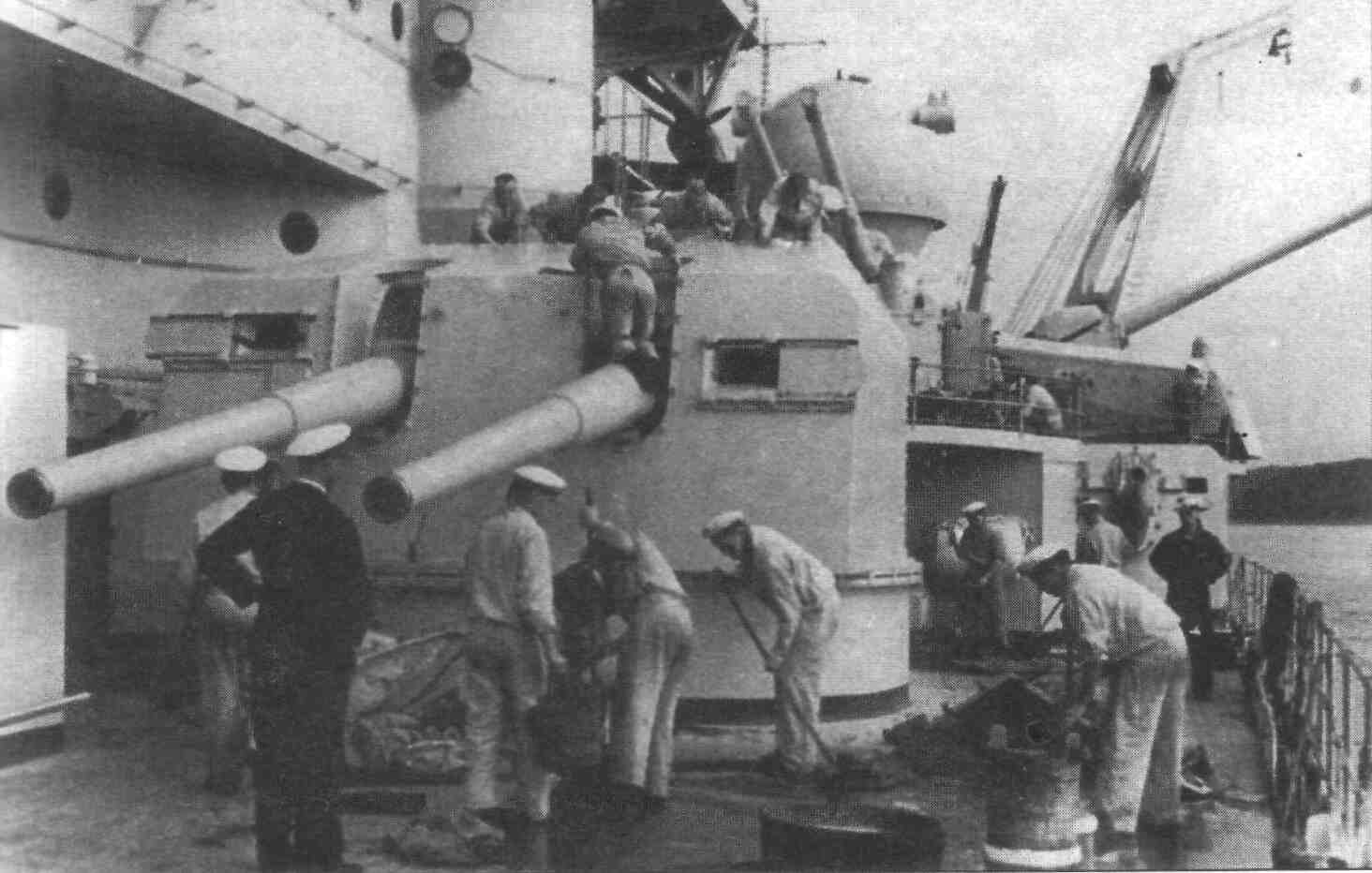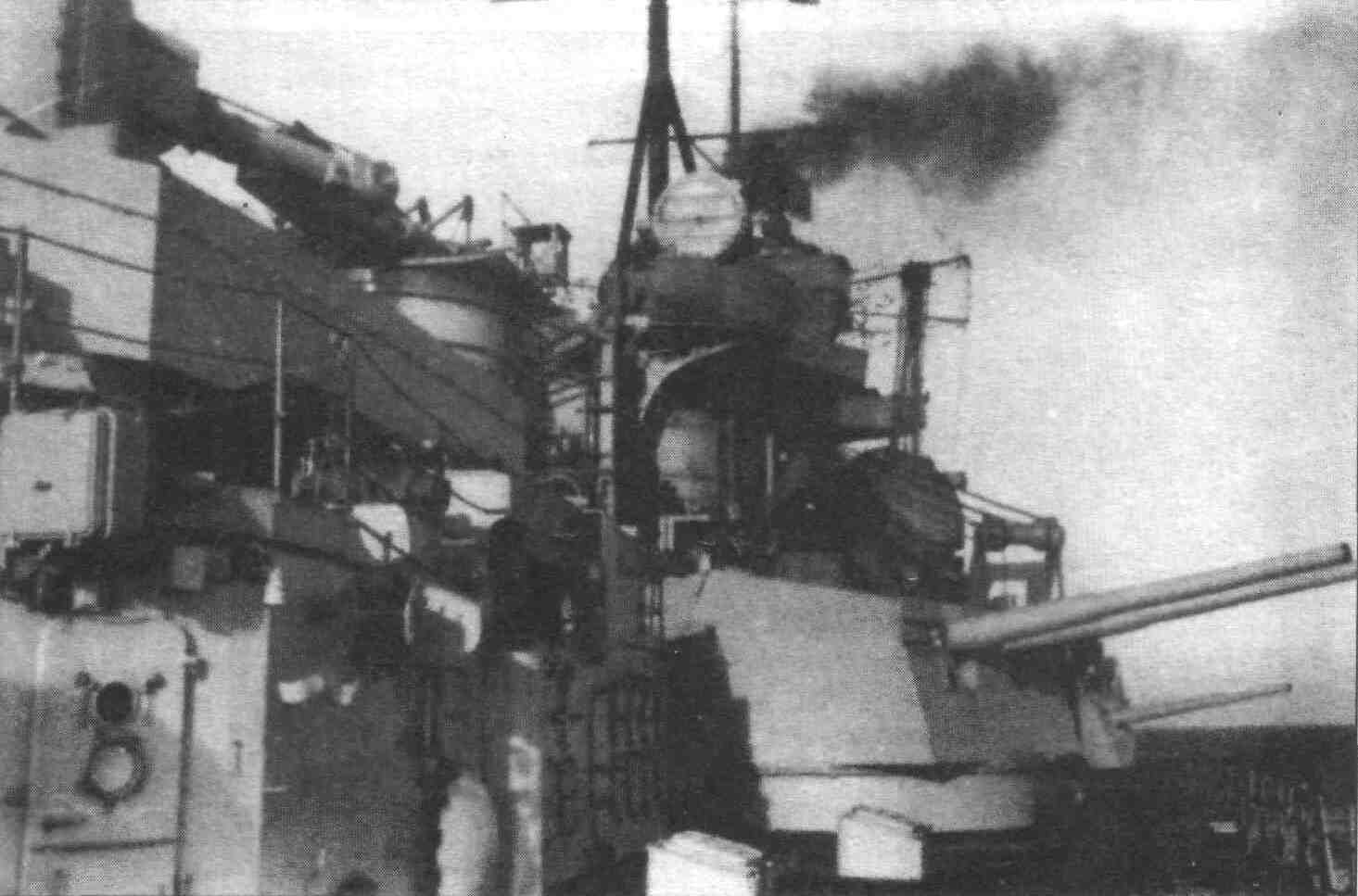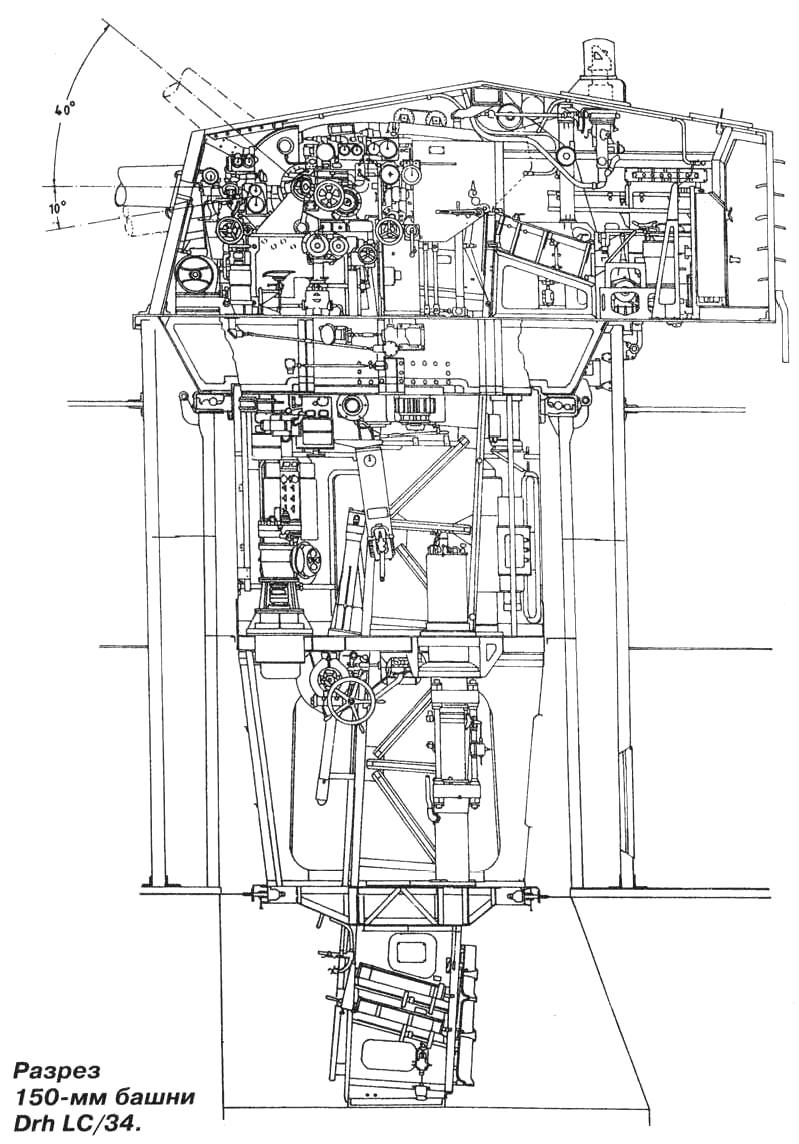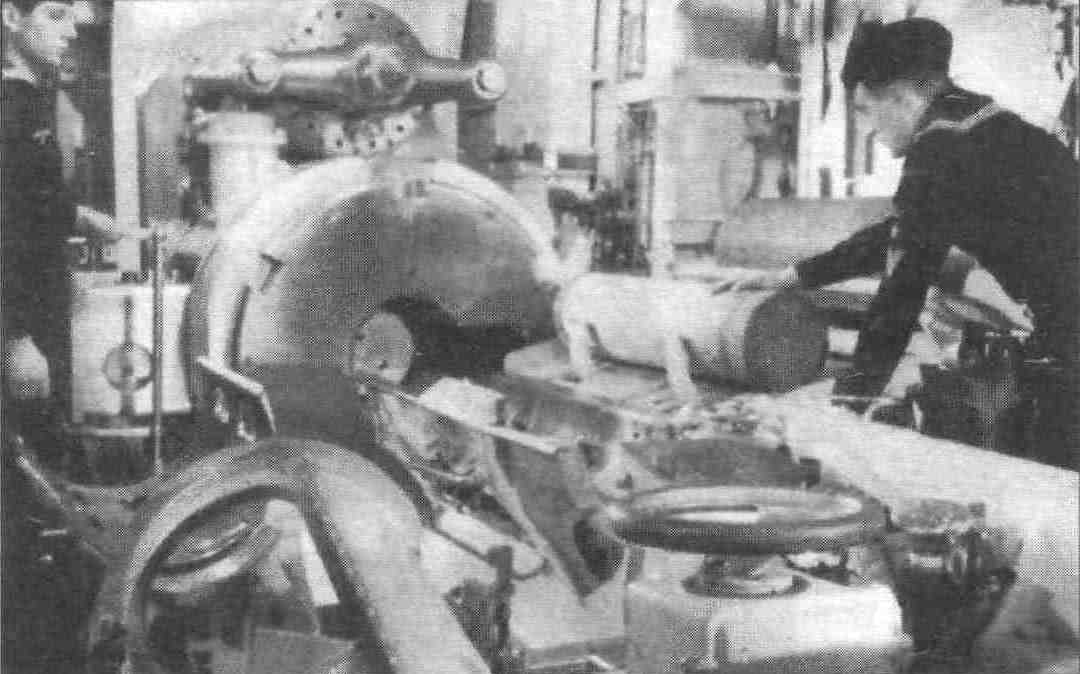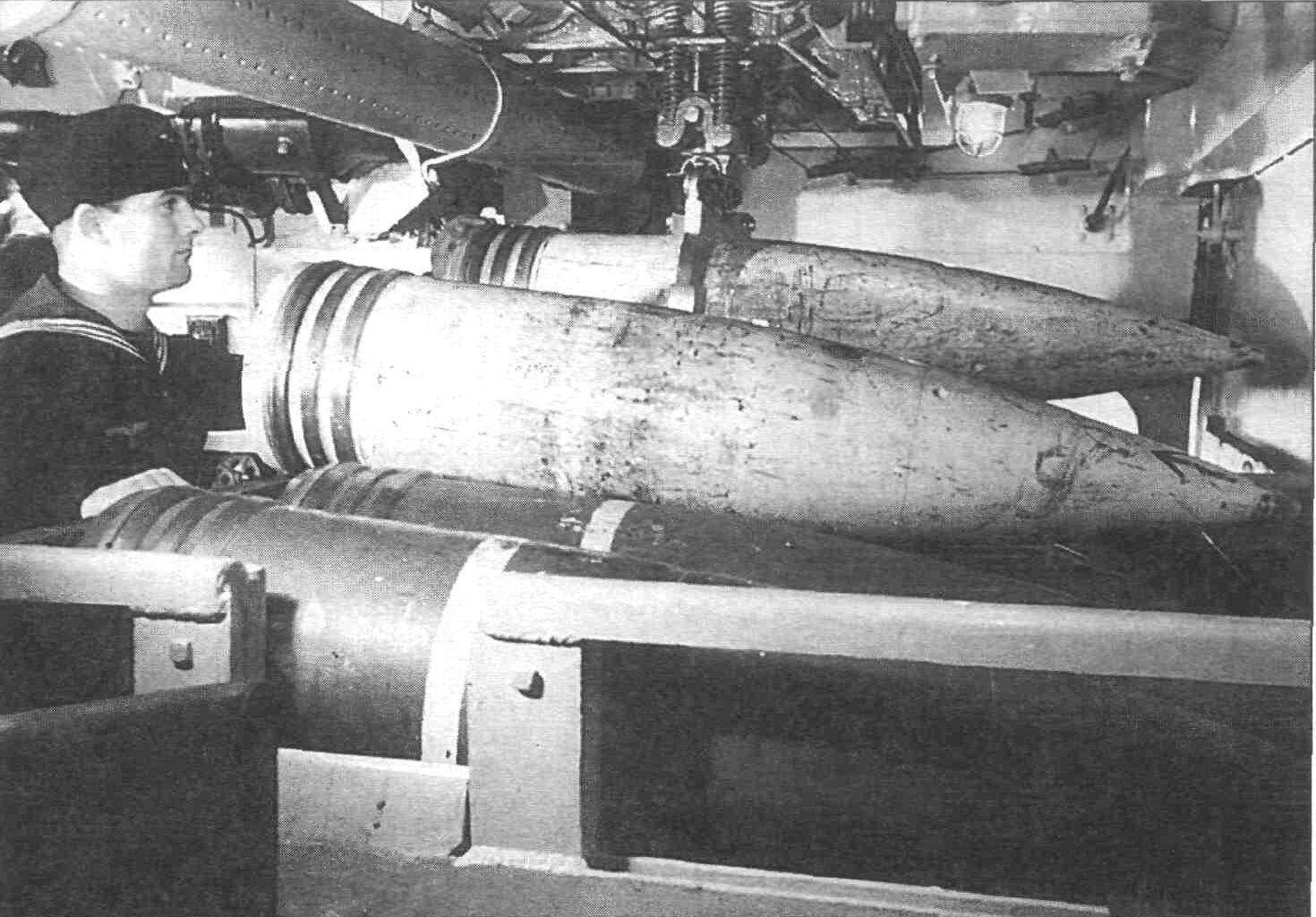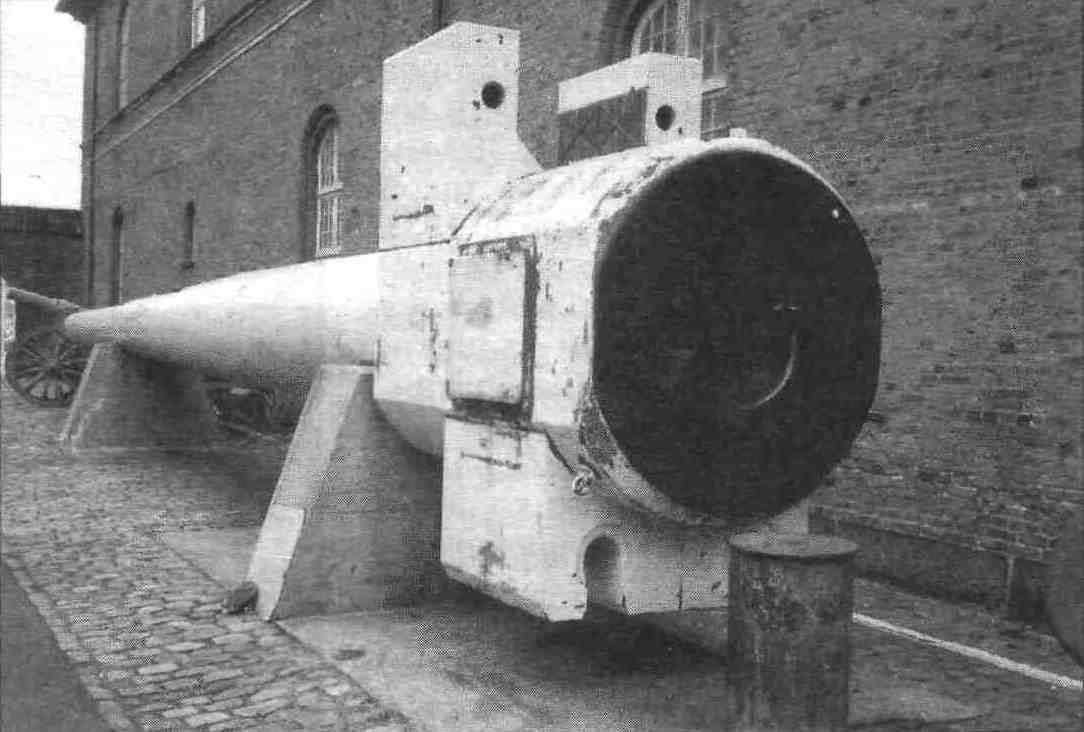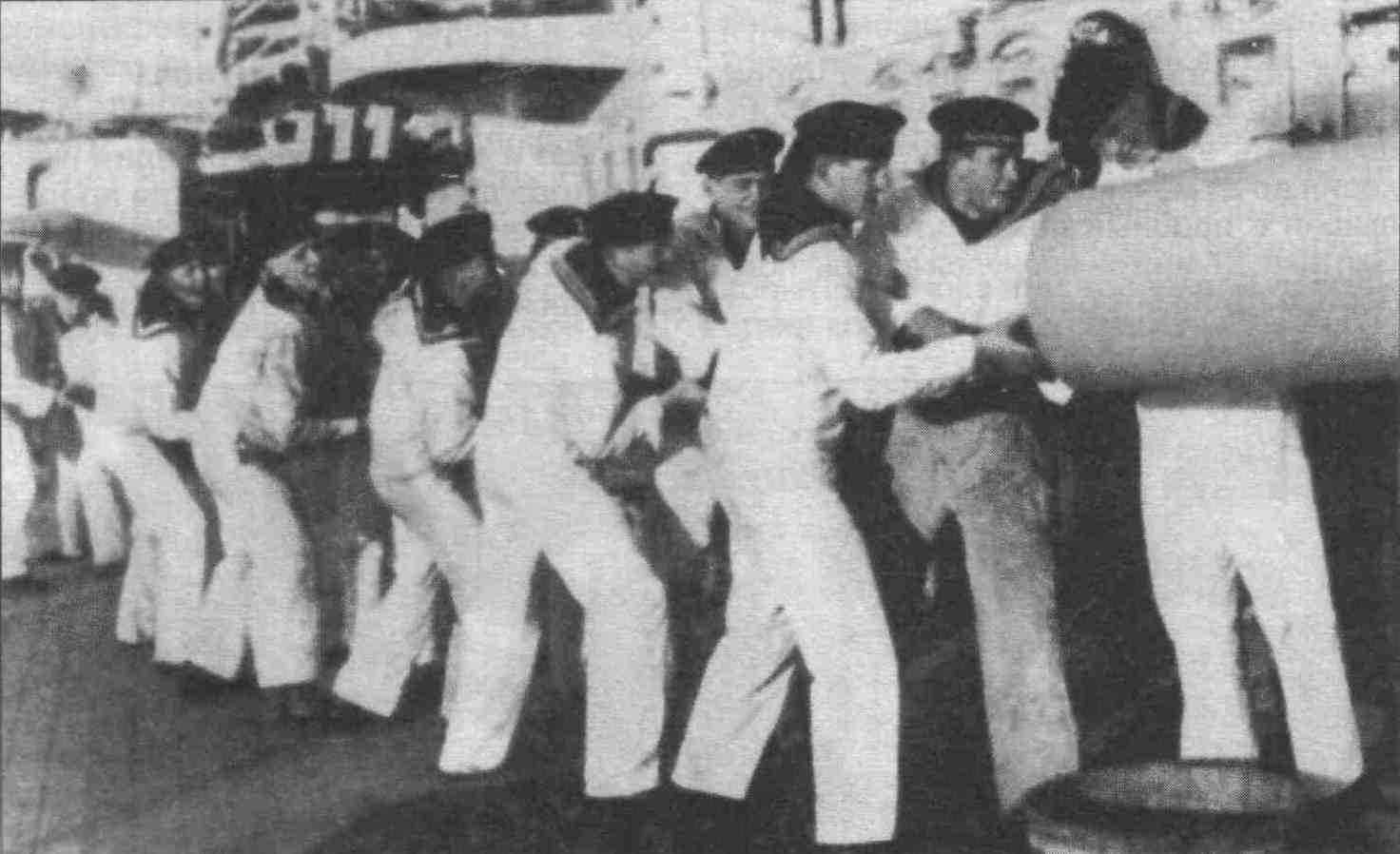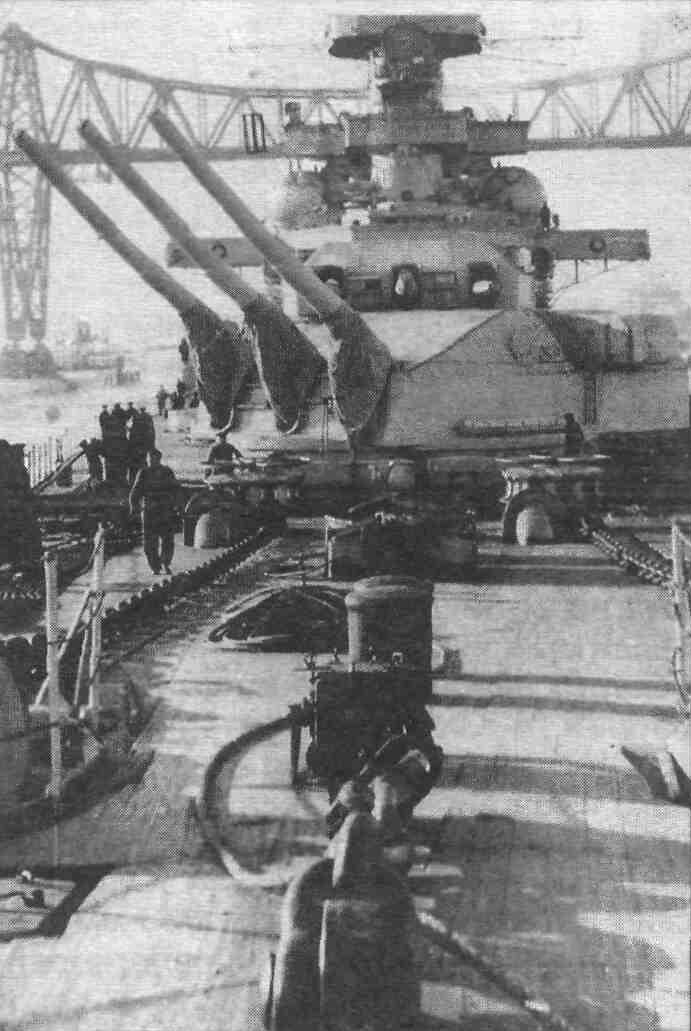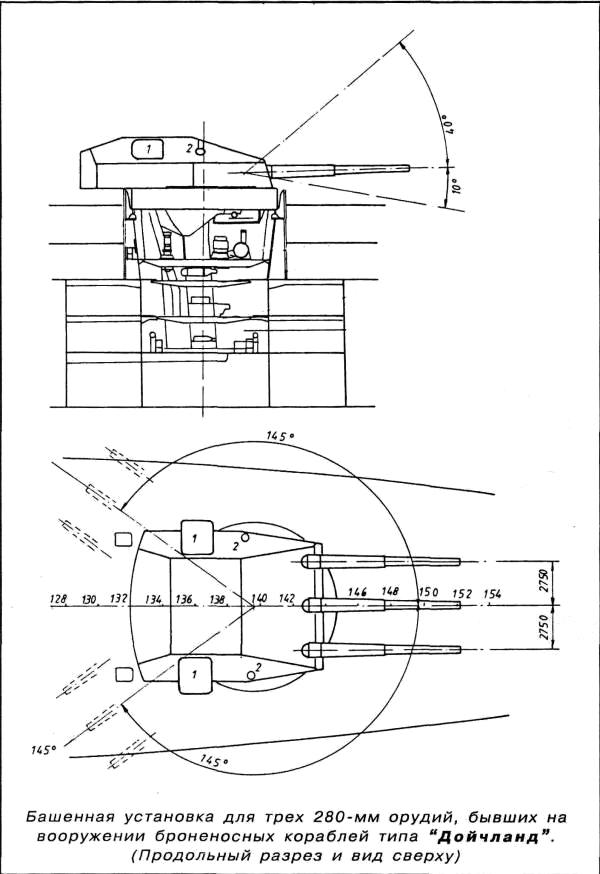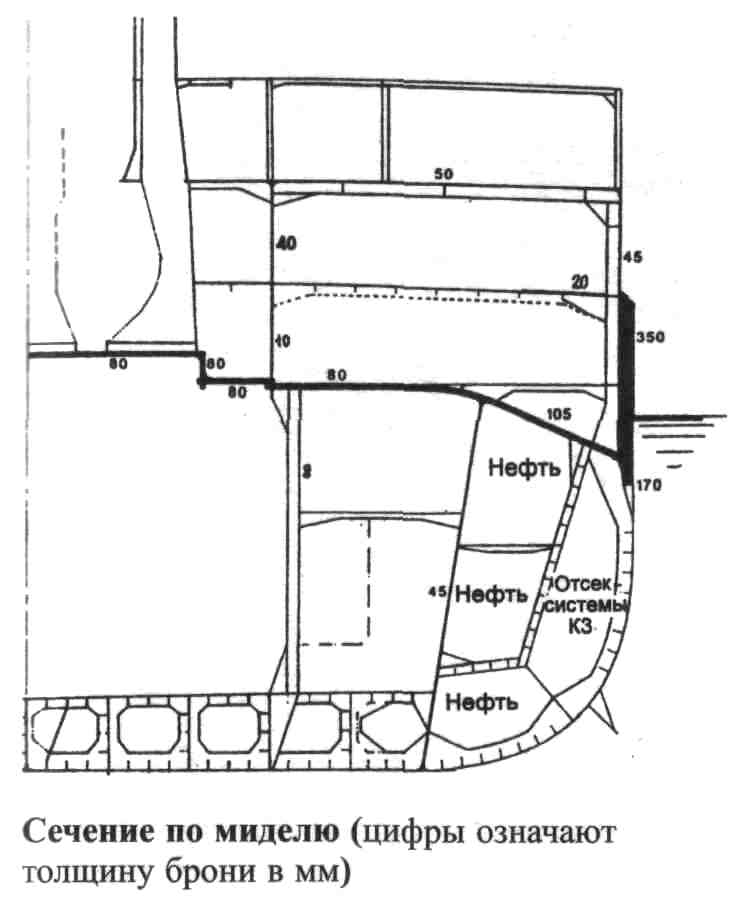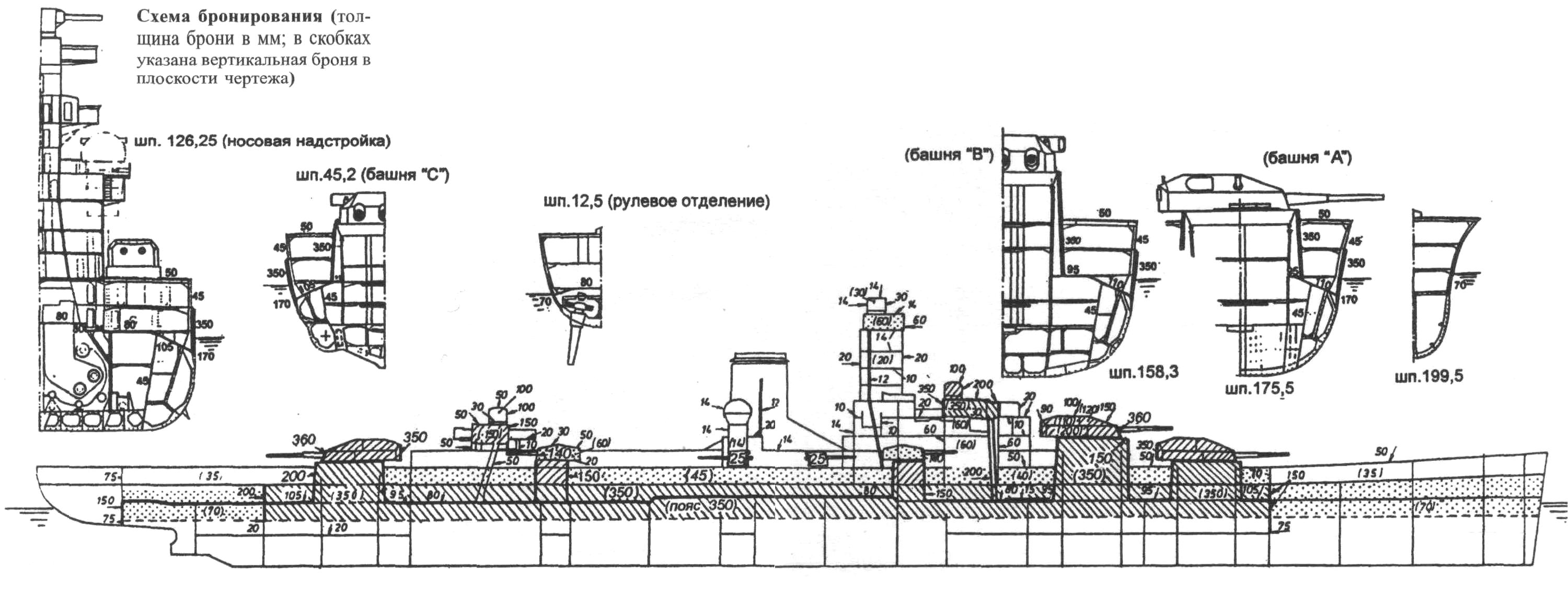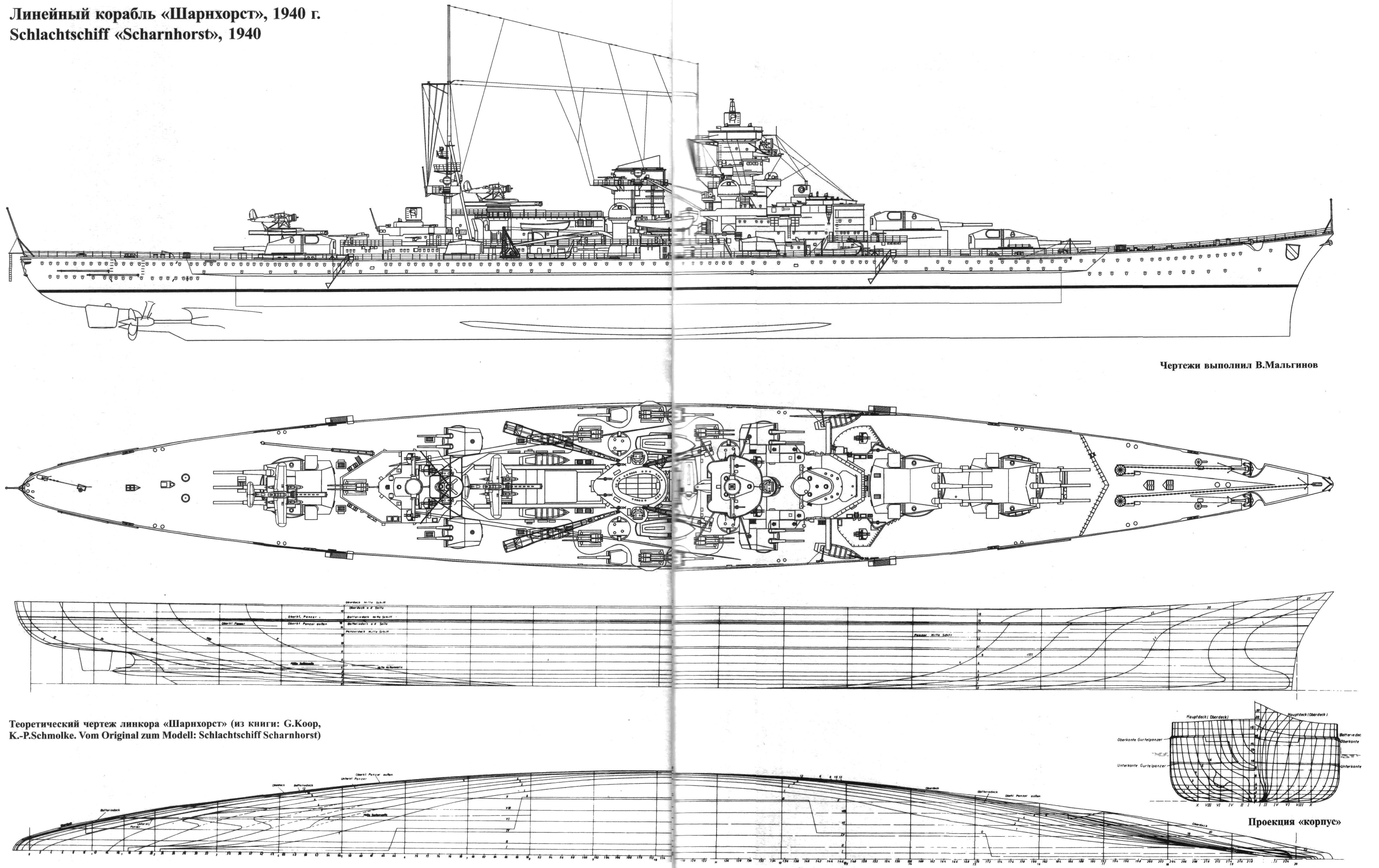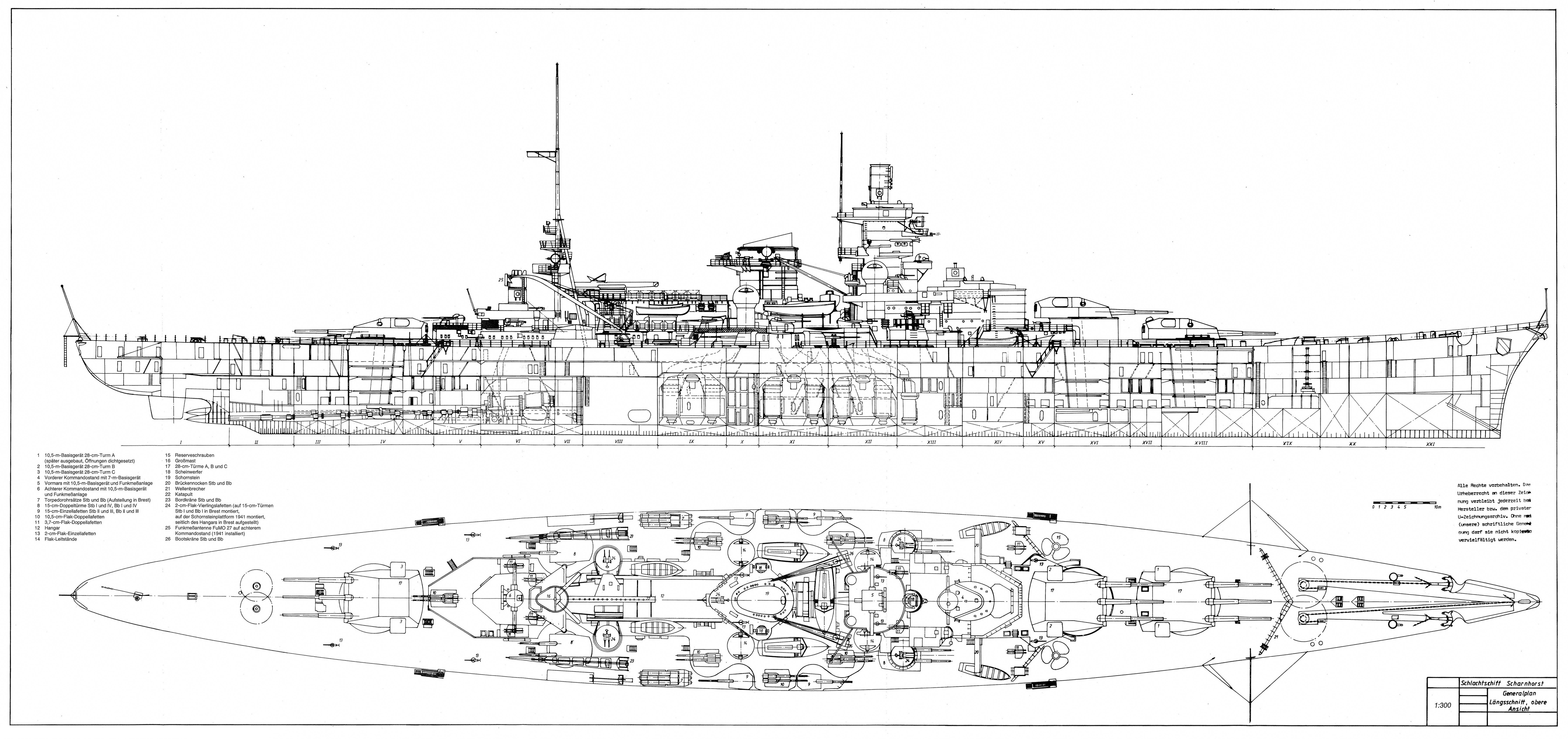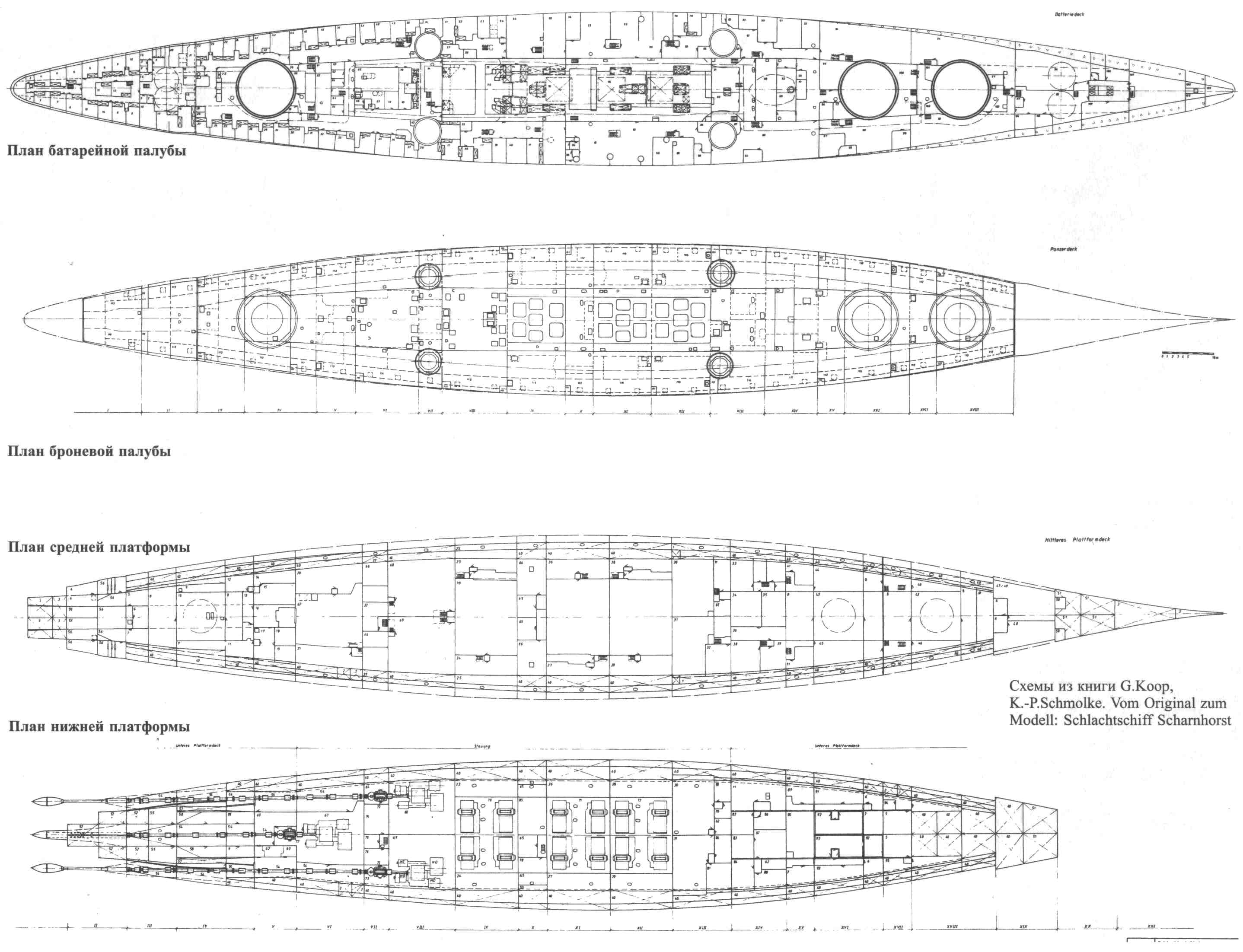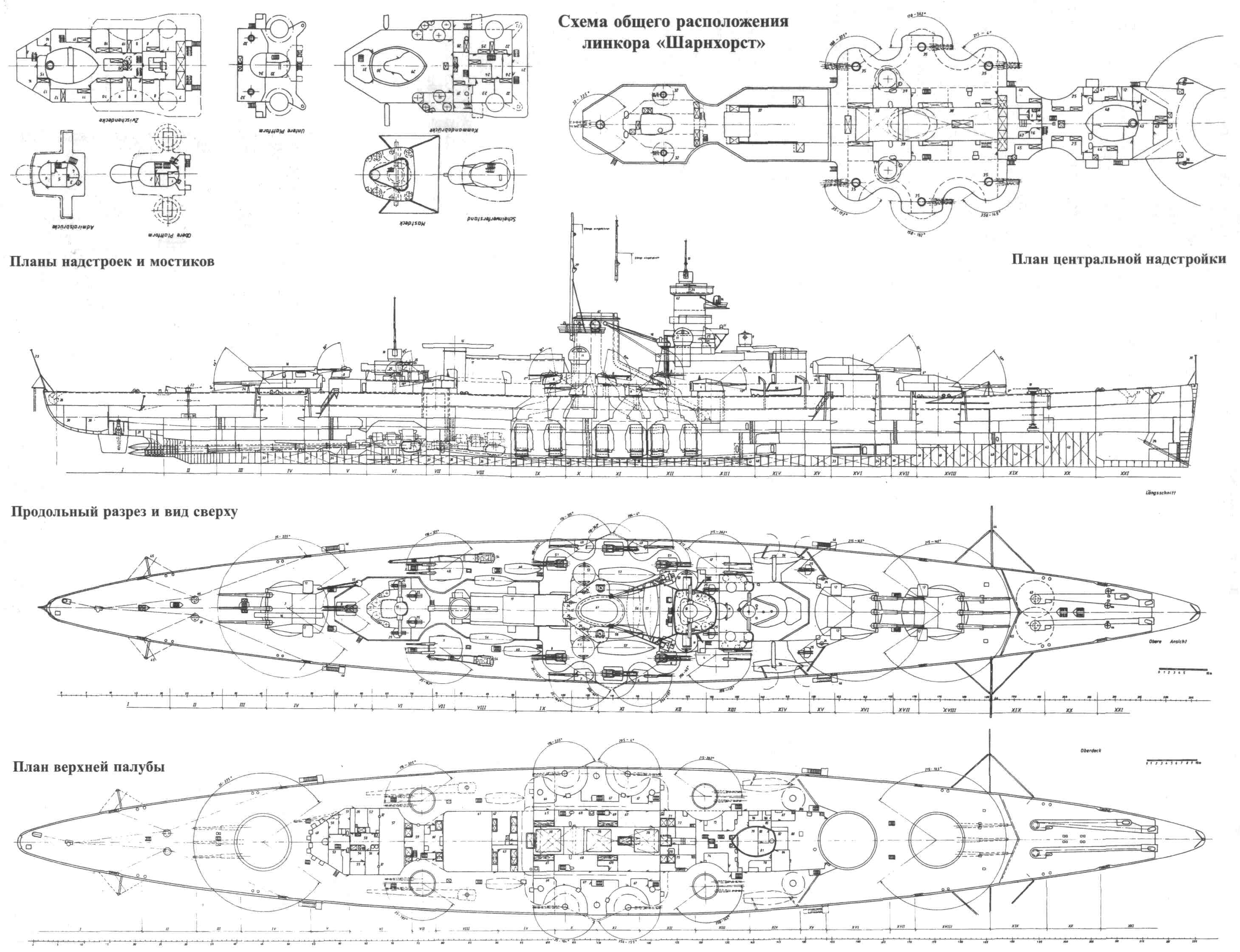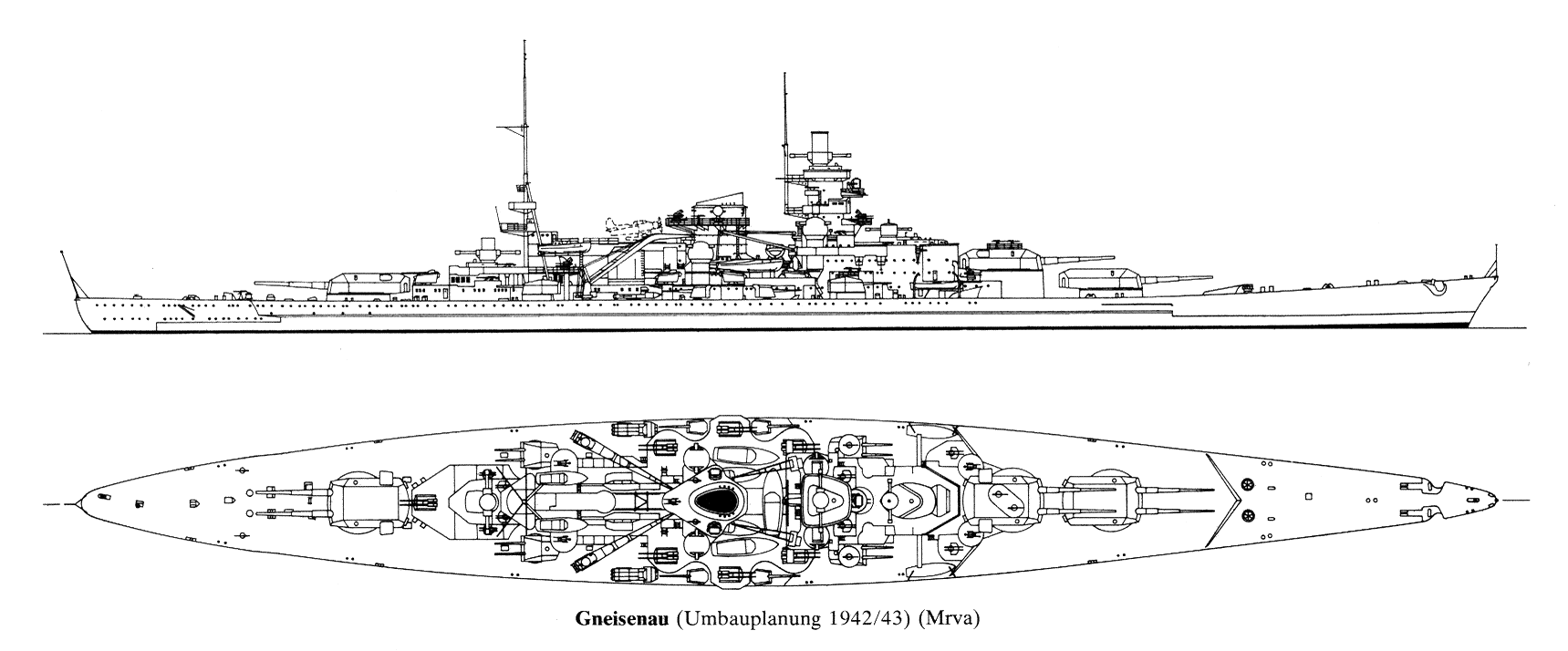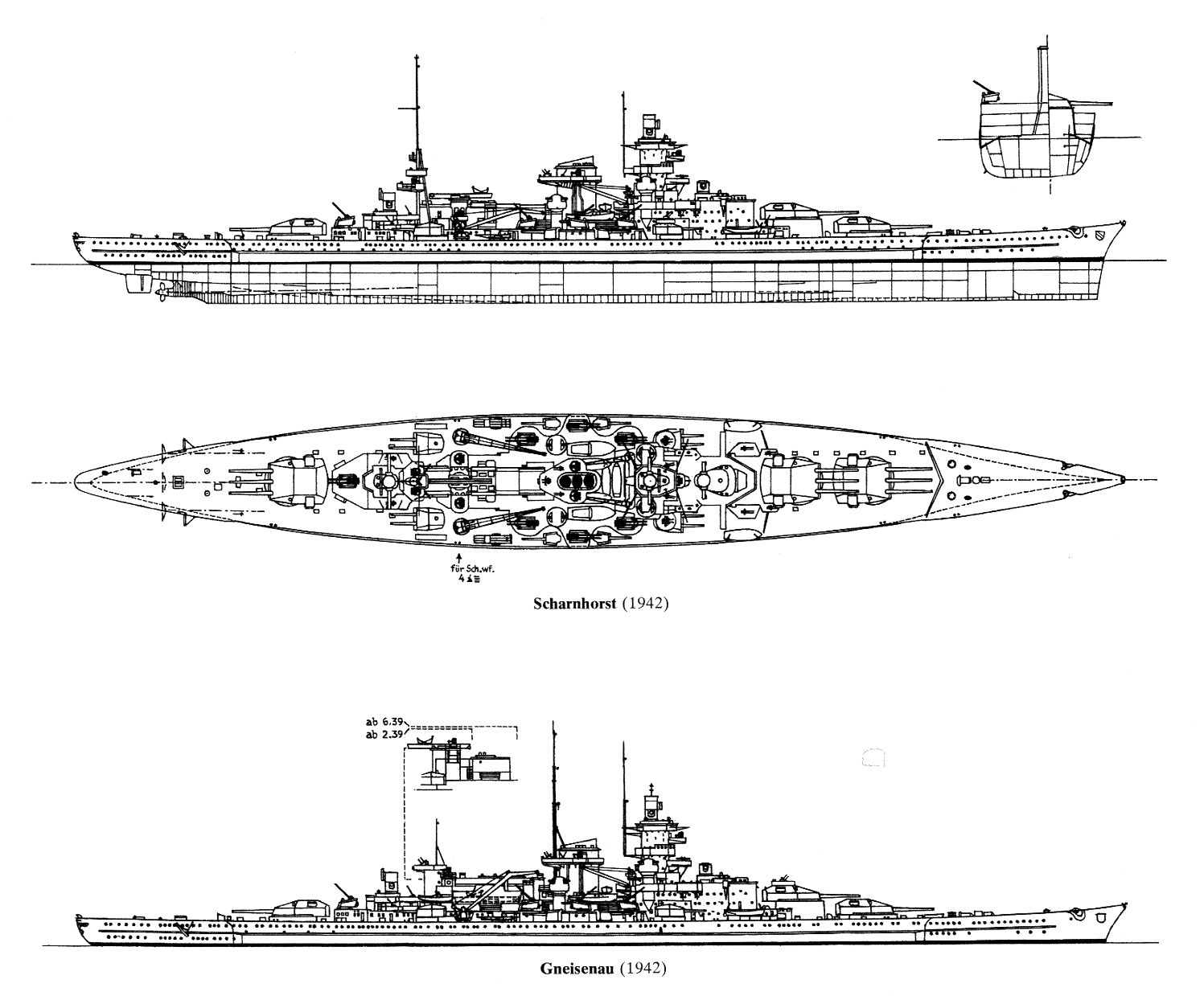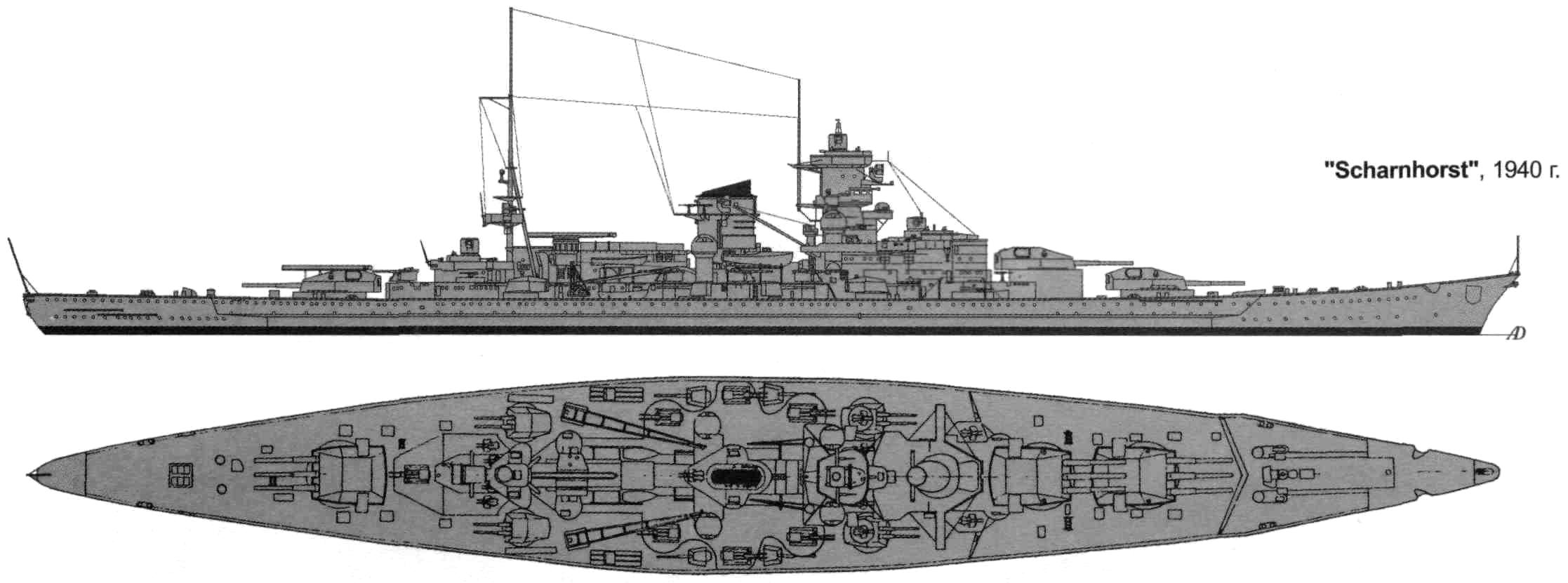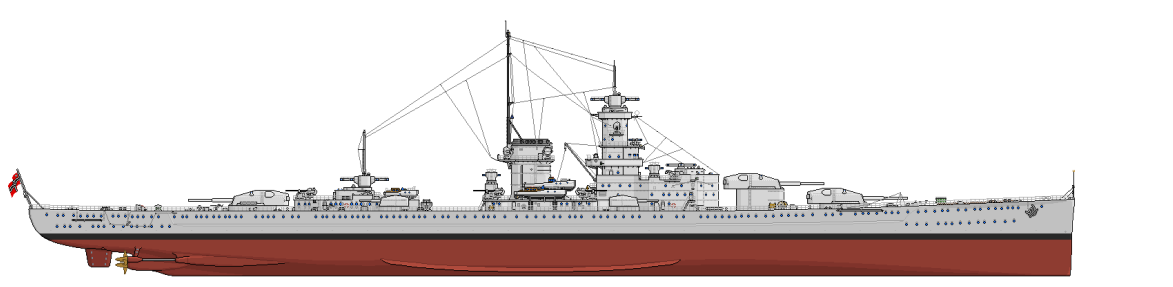
Оглавление → Броненосцы и линкоры → тип "Scharnhorst"

| Броненосцы |
| Классификация |
| По алфавиту |
| По годам |
| Соединения и операции |
| Разное |
Линейные корабли (Schlachtschiffe) типа
Германия, 1938-1939 гг. 2 ед. (проекты "D1-6" 1932-1934 гг.)
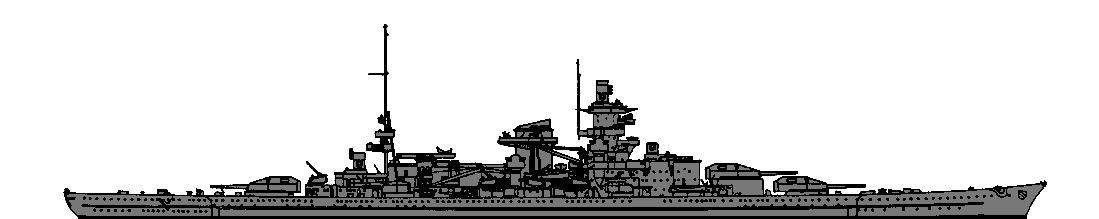
*
|
Германия, 1938-1939 гг. 2 ед. (проекты "D1-6" 1932-1934 гг.)
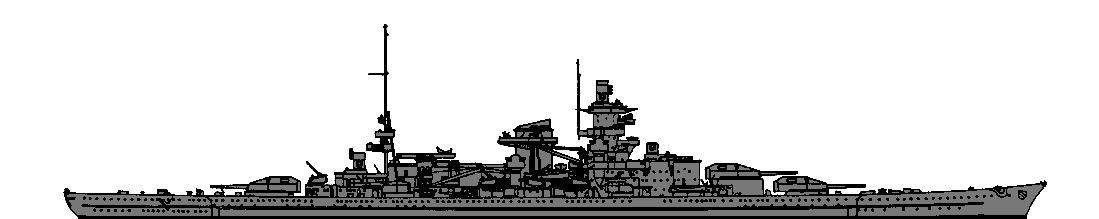
*
Scharnhorst
* Gneisenau
*
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
| № | имя | верфь | закладка /спуск /в строю | примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharnhorst | <Kriegsmarinewerft>, Вильгельмсхафен, зав. №125, "Ersatz Elsass", "Panzerschiff / Schlahtschiff D" | 15.06.1935 | 26 декабря 1943 г. потоплен в Баренцевом море британскими кораблями во главе с ЛК "Duke of York" при попытке атаковать конвой "JW-55B", погибло 1803 человека. |
| 3.10.1936 | ||||
| 7.01.1939 | ||||
| 2 | Gneisenau | <Deutsche Werke> Киль, зав. №235, "Ersatz Hessen", "Panzerschiff / Schlahtschiff E" | 6.05.1935 | 26 февраля 1942 г. выведен из строя авиацией. Ремонт и модернизация, <Deutsche Werke>, Готенхафен. В 1943 г. ремонт прекращен, разоружен, использовался в качестве плашкоута, 27 марта 1945 г. затоплен в Готенхафене. |
| 8.12.1936 | ||||
| 21.05.1938 |
ТТХ
| Scharnhorst | Gneisenau | |||
| Водоизмещение | стандартное | 31053 дл. т (31552 м. т) | 31132 дл. т (31632 м. т) | |
| нормальное | 35540 т |
|||
| полное | 37224 дл. т (37822 м. т) | 37303 дл. т (37902 м. т) | ||
| максимальное боевое | 37902-38100-38900 т |
|||
| регистровое | 19401 брт | ? | ||
| Размерения | длина | КВЛ | 226 м | |
| полная | 229,8 м |
|||
| полная после модернизации | 235,4 м | 234,9 м | ||
| ширина | наибольшая | 30,5 м |
||
| осадка | при проектном водоизмещении | 8,2 м |
||
| при боевом водоизмещении | 9,1-9,9 м |
|||
1 см осадки = 55,1 т. водоизмещения |
||||
| высота борта | 14 м |
|||
| Энергетическая установка | состав и тип | 3 вала | 3х3-лопастных винта Ø 4,8 м |
|
| 3 МО | 3 ТЗА "Brown&Bovery" (4-х ступенчатые) | 3 ТЗА "Germania" (3-х ступенчатые) | ||
| 3 КО | 12 ПК Вагнера (58 атм., 450°, 54,5 т/ч) |
|||
| мощность | 125 000 л.с. (норм.), 160 000 л.с. (макс.) при 265 об/мин |
|||
| Ходовые данные | скорость | проектная | 31 уз |
|
| на испытаниях | 31,5 уз. | 31,3 уз. при 165930 л.с., 280 об/мин. | ||
| запас топлива | штатный | 2800/5080 т нефти |
||
| с дополнительными бункерами | 6108 т нефти | 5360 т нефти | ||
| дальность плавания | проектная на 14 уз. | 10000 миль |
||
| проектная на 19 уз. | 8200 миль |
|||
| фактическая на 19 уз. | 7100 миль | 6200 миль | ||
| Экипаж | в мирное время | как флагман 1340 чел. (66 офицеров) | 1669 чел. (56 офицеров) | |
| в военное время | как флагман 1968 чел. (70 офицеров) (1943 г.) | 1840 чел. (60 офицеров) (1942 г.) | ||
| Дополнительные данные | корпус | стальной сварной, с продольно-поперечным набором, с бульбом. 21 отсек, двойное дно на 79% длины корпуса. | ||
| электроснабжение | 8 турбо-генераторов и 4 дизель-генератора суммарной мощностью 4120 кВт (2 дизель-генератора х150 кВт, 2 дизель-генератора х300 кВт, 6 турбо-генераторов х460 кВт, 2 турбо-генератора х230 кВт), 220 В. | |||
| управление | 2 параллельных руля | |||
| кренящий момент | 42295 мт | 49470 мт | ||
| снабжение | 146 т дизтоплива, 26 т авиабензина, 470 т резервной воды для котлов, 471 т питьевой воды, 154 т смазочного масла | |||
| плавсредства | 2 больших моторных катера, 2 малых моторных катера, 2 баркаса, 2 вельбота, 2 катера, 2 яла, 2 шлюпки | |||
| стоимость (в золотых марках) | 143 млн. 471 тыс. | 146 млн. 174 тыс. | ||
БРОНИРОВАНИЕ
| сталь Круппа (40,2% от водоизмещения) | |
| главный пояс | цитадель - 350-170 мм, в корме - 130 мм, в носу - 20 мм |
| верхний пояс | 45 мм |
| траверсы | 150 мм |
| башни ГК (лоб/бок/углы/крыша) | 360/220-180/150-120/100 мм |
| барбеты ГК | 350-200 мм |
| башни ПМК (лоб/бок/крыша) | 100/40/35 мм |
| барбеты ПМК | 80-20 мм |
| башни УнК | 10 мм |
| главная палуба | 20-95-80-95-20 (скосы 105) мм |
| верхняя палуба | 50 мм |
| рулевое устройство | 110-150 мм |
| рубки | носовая 350/220 мм, кормовая 100 мм |
| суммарная толщина ПТП | 53 (главная ПТП-45) мм, глубина 5,4 м |
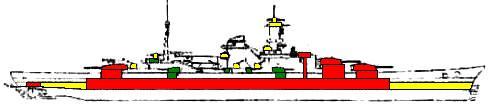 |
|
ВООРУЖЕНИЕ
| главный калибр (бортовой залп - 2970 кг) | |||
| 9 (3x3) — 280 мм/54,5 | 890 м/с, -8°+40°, 42600 м | 945 - 1350 выстрелов | |
| противоминный калибр | |||
| 12 (4x2 + 4x1) — 150 мм/55 | 1600 - 1800 выстрелов | ||
| зенитный калибр дальнего боя | |||
| 14 (7x2) — 105 мм/65 | 5600 выстрелов | ||
| средний зенитный калибр | |||
| 16 (8x2) — 37 мм/83 | 32 000 - 96 000 выстрелов | ||
| малый зенитный калибр | |||
| сперва | 8х1 - 20 мм/65 | 32 000 - 76 000 выстрелов | |
| с 1939 г. | 10х1 - 20 мм/65 | ||
| Scharnhorst с 1941 г. | 28 (4x4 и 12x1) - 20 мм/65 | ||
| Gneisenau с 1941 г. | 24 (3x4 и 12x1) - 20 мм/65 | ||
| Scharnhorst с 1943 г. | 38 (7x4 и 10x1) - 20 мм/65 | ||
| торпедное вооружение | |||
| сперва отсутствовало, с 1941: 2x3-533 мм | 18 торпед | ||
| авиационное вооружение | |||
| 2 катапульты, но в ходе боевых действий одна демонтирована. | 3 гидросамолета "Arado-196" | ||
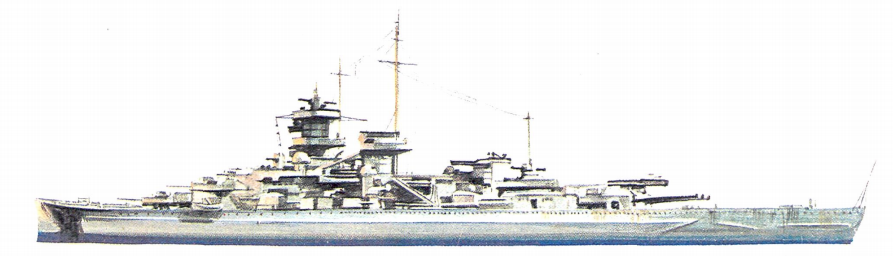
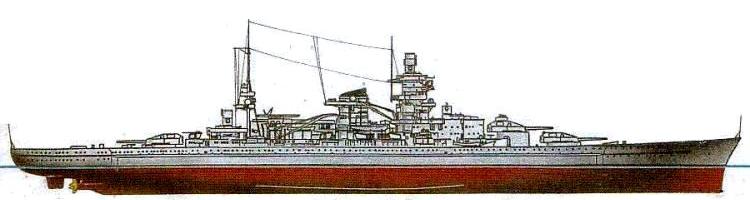

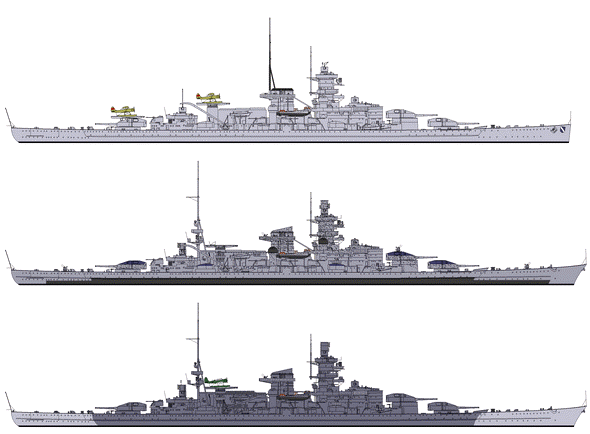 Германские линкоры "Scharnhorst" и "Gneisenau" по праву считаются одними из самых знаменитых боевых кораблей Второй мировой войны. Редко кому из их современников удалось поучаствовать в таком количестве операций в прибрежных европейских водах, Атлантике и Заполярье. Королевский флот Великобритании, которому сильно досаждала эта пара линкоров, не раз устраивал настоящую охоту за "Сэлмоном" и "Галштейном", как называли их английские моряки. На первом этапе войны немцам везло, хотя они не раз испытывали на себе удары снарядов, торпед, бомб и мощных донных мин. По объему полученных повреждений "Scharnhorst" и "Gneisenau" стали настоящими "рекордсменами" среди всех боевых кораблей мира. Но каждый раз высокое качество постройки и великолепная выучка экипажей позволяли им благополучно выходить из самых опасных переделок и после ремонта вступать в строй.
Германские линкоры "Scharnhorst" и "Gneisenau" по праву считаются одними из самых знаменитых боевых кораблей Второй мировой войны. Редко кому из их современников удалось поучаствовать в таком количестве операций в прибрежных европейских водах, Атлантике и Заполярье. Королевский флот Великобритании, которому сильно досаждала эта пара линкоров, не раз устраивал настоящую охоту за "Сэлмоном" и "Галштейном", как называли их английские моряки. На первом этапе войны немцам везло, хотя они не раз испытывали на себе удары снарядов, торпед, бомб и мощных донных мин. По объему полученных повреждений "Scharnhorst" и "Gneisenau" стали настоящими "рекордсменами" среди всех боевых кораблей мира. Но каждый раз высокое качество постройки и великолепная выучка экипажей позволяли им благополучно выходить из самых опасных переделок и после ремонта вступать в строй.
Став первыми линейными кораблями германского флота, построенными после Первой мировой войны, "Scharnhorst" и "Gneisenau" унаследовали имена прославившихся в 1914 году броненосных крейсеров эскадры адмирала Шпее.
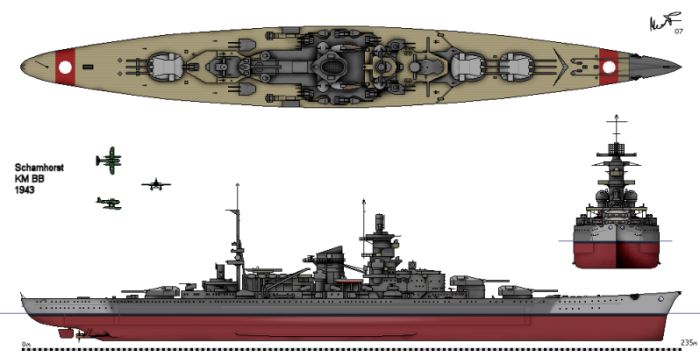 Этим как бы подчеркивалось, что на ниве рейдерства от них ожидают не менее громких успехов — ведь числено слабейший немецкий флот не мог рассчитывать на другой способ ведения войны на море. И, думается, они превзошли своих предшественников, хотя и не потопили ни одного крупного артиллерийского корабля в честной дуэли.
Этим как бы подчеркивалось, что на ниве рейдерства от них ожидают не менее громких успехов — ведь числено слабейший немецкий флот не мог рассчитывать на другой способ ведения войны на море. И, думается, они превзошли своих предшественников, хотя и не потопили ни одного крупного артиллерийского корабля в честной дуэли.
Строительство броненосцев "D" и "Е" — 4-го и 5-го кораблей типа "Deutschland" — было санкционировано в 1933 г. В начале 1934 г. приняли решение об установке на них третьей башни ГК и увеличении водоизмещения до 26 000 т. От увеличения калибра артиллерии отказались по политическим мотивам. По сути "Scharnhorst" и "Gneisenau" являлись линейными крейсерами с хорошей защитой, высокой скоростью и умеренной огневой мощью.
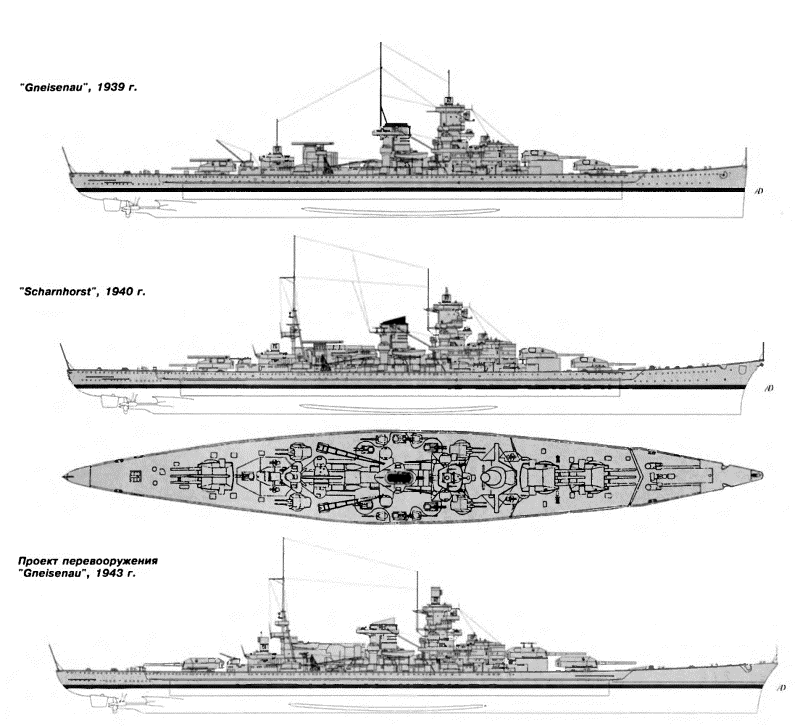 Корпус имел традиционную конструкцию — гладкопалубный, с наружным вертикальным броневым поясом, защищавшим цитадель от носовой до кормовой башни ГК. Пояс толщиной 350 мм утончался к нижней кромке до 170 мм и замыкался 150-мм траверсами. Далее к оконечностям его толщина уменьшалась до 70 мм при той же высоте. Выше находился 45-мм верхний пояс, доходивший до верхней палубы. Броневых палуб было две: 50-мм верхняя и 80-мм (95-мм над погребами) главная со 105-мм скосами, не доходившими до нижней кромки пояса; в районе КО имелся 80-мм гласис. Бронирование башен ГК: лоб 360 мм, стенки 220 — 180 мм, наклонные плиты 150 — 120 мм, крыша 100 мм. Толщина барбетов уменьшалась с 350 мм по бортам до 200 мм у диаметральной плоскости. ПТЗ имела глубину до 5,4 м и отделялась от жизненно важных частей корабля 45-мм переборкой. Общий вес бронирования составлял 14 245 т, или 44% водоизмещения.
Корпус имел традиционную конструкцию — гладкопалубный, с наружным вертикальным броневым поясом, защищавшим цитадель от носовой до кормовой башни ГК. Пояс толщиной 350 мм утончался к нижней кромке до 170 мм и замыкался 150-мм траверсами. Далее к оконечностям его толщина уменьшалась до 70 мм при той же высоте. Выше находился 45-мм верхний пояс, доходивший до верхней палубы. Броневых палуб было две: 50-мм верхняя и 80-мм (95-мм над погребами) главная со 105-мм скосами, не доходившими до нижней кромки пояса; в районе КО имелся 80-мм гласис. Бронирование башен ГК: лоб 360 мм, стенки 220 — 180 мм, наклонные плиты 150 — 120 мм, крыша 100 мм. Толщина барбетов уменьшалась с 350 мм по бортам до 200 мм у диаметральной плоскости. ПТЗ имела глубину до 5,4 м и отделялась от жизненно важных частей корабля 45-мм переборкой. Общий вес бронирования составлял 14 245 т, или 44% водоизмещения.
Орудия ГК модели С/34 представляли собой улучшенную версию устанавливавшихся на типе "Deutschland" и стреляли более тяжелыми снарядами (бронебойный — 330 кг, фугасный — 315 кг), дальность стрельбы превысила 40 км, но конструкция башен осталась прежней. В 1935 г. трехорудийные 283-мм башни предложили заменить на двухорудийные 380-мм, но во избежание задержки готовности кораблей от них отказались. Аналогичную замену планировалось осуществить на "Gneisenau" в 1942 — 1944 гг., однако работы начаты не были. Состав артиллерии СК диктовался наличием одинарных установок, изготовленных для 4-го и 5-го "карманных" линкоров. 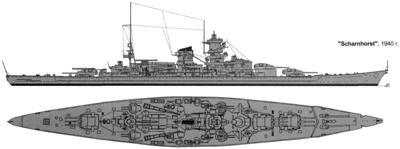 Они оказались не слишком удачным дополнением к двухорудийным башням (хотя все орудия относились к одной модели С/28). Корабли имели весьма мощное зенитное вооружение, причем спаренные 105-мм/65 и 37-мм/33 были стабилизированы в трех плоскостях. Управление огнем осуществлялось тремя постами ГК и СК и четырьмя — зенитной артиллерии.
Они оказались не слишком удачным дополнением к двухорудийным башням (хотя все орудия относились к одной модели С/28). Корабли имели весьма мощное зенитное вооружение, причем спаренные 105-мм/65 и 37-мм/33 были стабилизированы в трех плоскостях. Управление огнем осуществлялось тремя постами ГК и СК и четырьмя — зенитной артиллерии.
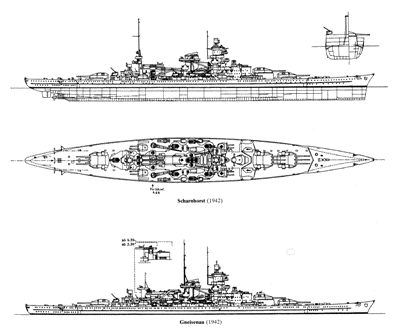 При проектировании ЛК от дизельной силовой установки отказались в пользу турбинной, на паре высоких параметров. Она состояла из 12 ПК Вагнера (58 атм, 450°С) и трех ТЗА ("Brown-Boveri" на "Scharnhorst", "Deschimag" на "Gneisenau"). Дальность плавания оказалась ниже проектных 8200 (19) миль.
При проектировании ЛК от дизельной силовой установки отказались в пользу турбинной, на паре высоких параметров. Она состояла из 12 ПК Вагнера (58 атм, 450°С) и трех ТЗА ("Brown-Boveri" на "Scharnhorst", "Deschimag" на "Gneisenau"). Дальность плавания оказалась ниже проектных 8200 (19) миль.
Первоначально оба ЛК имели почти вертикальные форштевни (наибольшая длина 229,8 м) с малым развалом носовых шпангоутов, но во время испытаний выявилась сильная заливаемость носовой части, после чего корабли получили клиперный (так называемый "атлантический") форштевень. Между собой "Scharnhorst" и "Gneisenau" несколько различались, в первую очередь расположением грот-мачты.
В 1939 г. на оба ЛК добавили по 2x1 20-мм автомата. В 1941 г. на "Scharnhorst" установлено 4x4 и 2x1 20-мм; на "Gneisenau" — 3x4 и 2x1; на оба корабля — по 2x3 533-мм ТА, снятых с КРЛ "Nürnberg" и "Leipzig". В 1943 г. на "Scharnhorst" появились еще 3x4 20-мм, одновременно 2x1 автомата сняли.
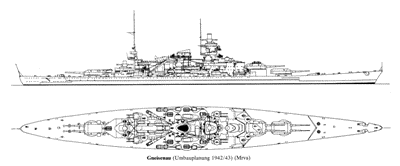 Однако участь гитлеровских сверхрейдеров все же была предрешена. "Gneisenau", поврежденный авиацией в Киле и полностью выведенный из строя, так и простоял в тыловой базе до конца войны, постепенно — по мере ухудшения обстановки на сухопутных фронтах и роста неприязни фюрера к своим линкорам и крейсерам — превращаясь в беспомощный блокшив. "Scharnhorst" "повезло" больше — он погиб в последнем классическом морском сражении германского флота. Не имея никаких шансов на успех, он сражался до последней возможности, чем заслужил искреннее уважение противника. Подводя итог боя, командующий британским Флотом метрополии адмирал Брюс Фрэйзер сказал офицерам своего флагманского линкора "Duke of York": "Джентльмены, битва с "Scharnhorst" закончилась для нас победой. Я надеюсь, что любой из вас, кому когда-либо придется вести свой корабль в бой с намного сильнейшим противником, будет командовать своим кораблем так же доблестно, как сегодня командовали "Scharnhorst". Пожалуй, столь высокой оценки, прозвучавшей из уст неприятеля, не удостоился больше ни один линкор в мире...
Однако участь гитлеровских сверхрейдеров все же была предрешена. "Gneisenau", поврежденный авиацией в Киле и полностью выведенный из строя, так и простоял в тыловой базе до конца войны, постепенно — по мере ухудшения обстановки на сухопутных фронтах и роста неприязни фюрера к своим линкорам и крейсерам — превращаясь в беспомощный блокшив. "Scharnhorst" "повезло" больше — он погиб в последнем классическом морском сражении германского флота. Не имея никаких шансов на успех, он сражался до последней возможности, чем заслужил искреннее уважение противника. Подводя итог боя, командующий британским Флотом метрополии адмирал Брюс Фрэйзер сказал офицерам своего флагманского линкора "Duke of York": "Джентльмены, битва с "Scharnhorst" закончилась для нас победой. Я надеюсь, что любой из вас, кому когда-либо придется вести свой корабль в бой с намного сильнейшим противником, будет командовать своим кораблем так же доблестно, как сегодня командовали "Scharnhorst". Пожалуй, столь высокой оценки, прозвучавшей из уст неприятеля, не удостоился больше ни один линкор в мире...
| ИСТОРИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |
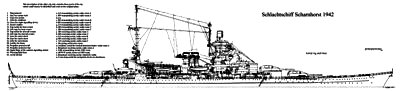 После окончания Первой мировой войны Версальский договор запрещал Германии строить боевые корабли водоизмещением свыше 10000 т (3десь и далее имеются в виду английские "длинные" тонны — по 1016 кг), а личный состав флота ограничивался полутора тысячами офицеров и 15 тысячами прочих чинов.
После окончания Первой мировой войны Версальский договор запрещал Германии строить боевые корабли водоизмещением свыше 10000 т (3десь и далее имеются в виду английские "длинные" тонны — по 1016 кг), а личный состав флота ограничивался полутора тысячами офицеров и 15 тысячами прочих чинов.
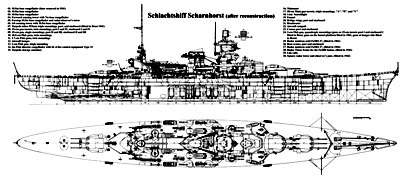 Германский морской штаб хотел заменить некоторые из старых преддредноутов, составлявших после войны основу флота, и в Рейхстаге молодой Веймарской республики начались жаркие дебаты по поводу того, как лучше использовать разрешенный Версальским договором тоннаж. Выявились серьезные разногласия между различными политическими фракциями — многие не желали возврата к мощному флоту времен Тирпица и не хотели слышать даже об ограниченной кораблестроительной программе по замене старых кораблей. После нескольких лет обсуждения флоту, наконец, разрешили построить первые броненосцы, но с полным соблюдением версальских ограничений.
Германский морской штаб хотел заменить некоторые из старых преддредноутов, составлявших после войны основу флота, и в Рейхстаге молодой Веймарской республики начались жаркие дебаты по поводу того, как лучше использовать разрешенный Версальским договором тоннаж. Выявились серьезные разногласия между различными политическими фракциями — многие не желали возврата к мощному флоту времен Тирпица и не хотели слышать даже об ограниченной кораблестроительной программе по замене старых кораблей. После нескольких лет обсуждения флоту, наконец, разрешили построить первые броненосцы, но с полным соблюдением версальских ограничений. 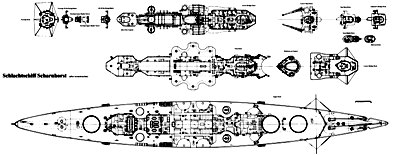 Это были дизельные корабли стандартным водоизмещением, как всех заверяли немцы, в 10 000 т (головной "Deutschland"), достаточно мощные (шесть 283-мм орудий в двух башнях и 8 одиночных 150-мм), чтобы иметь дело с любыми крейсерами, кроме линейных, и достаточно быстроходные (26 узлов), чтобы уйти от любого линкора того времени. Они произвели должное впечатление на военно-морские круги, где их тут же окрестили "карманными линкорами". Однако, после закладки третьего корабля появились сведения о новом французском проекте с более высокой скоростью и мощным вооружением из восьми 330-мм орудий (будущий "Dunkerque"), который делал все "карманные линкоры" морально устаревшими. Первая реакция главнокомандующего флотом адмирала Эриха Редера заключалась в попытке увеличить водоизмещение 4-го и 5-го кораблей до 15 000 — 18 000 т и добавить на них третью башню ГК.
Это были дизельные корабли стандартным водоизмещением, как всех заверяли немцы, в 10 000 т (головной "Deutschland"), достаточно мощные (шесть 283-мм орудий в двух башнях и 8 одиночных 150-мм), чтобы иметь дело с любыми крейсерами, кроме линейных, и достаточно быстроходные (26 узлов), чтобы уйти от любого линкора того времени. Они произвели должное впечатление на военно-морские круги, где их тут же окрестили "карманными линкорами". Однако, после закладки третьего корабля появились сведения о новом французском проекте с более высокой скоростью и мощным вооружением из восьми 330-мм орудий (будущий "Dunkerque"), который делал все "карманные линкоры" морально устаревшими. Первая реакция главнокомандующего флотом адмирала Эриха Редера заключалась в попытке увеличить водоизмещение 4-го и 5-го кораблей до 15 000 — 18 000 т и добавить на них третью башню ГК.
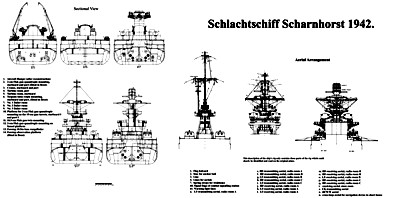 В ноябре 1932 года Редер и министр обороны генерал Тренер пришли к соглашению относительно будущего состава флота. В три этапа до 1938 года флот должен был полностью обновиться, получив 6 линкоров, 6 крейсеров, по одной полуфлотилии эсминцев и миноносцев 6-корабельного состава, 3 полуфлотилии торпедных катеров и если, дай Бог, сменится политическая ситуация, 16 подводных лодок. Но главная проблема, которую нужно было срочно решить, заключалась в том, какими должны стать следующие линкоры. В 1933 году сфера германского военно-морского планирования ограничивалась защитой побережья и судоходства в Балтийском море от польского флота, который мог поддерживаться французским, защитой своих торговых путей и действиями на торговых путях Франции. Советский флот был слишком слаб, чтобы занимать место в германских планах, хотя уже появились слухи о его большой кораблестроительной программе.
В ноябре 1932 года Редер и министр обороны генерал Тренер пришли к соглашению относительно будущего состава флота. В три этапа до 1938 года флот должен был полностью обновиться, получив 6 линкоров, 6 крейсеров, по одной полуфлотилии эсминцев и миноносцев 6-корабельного состава, 3 полуфлотилии торпедных катеров и если, дай Бог, сменится политическая ситуация, 16 подводных лодок. Но главная проблема, которую нужно было срочно решить, заключалась в том, какими должны стать следующие линкоры. В 1933 году сфера германского военно-морского планирования ограничивалась защитой побережья и судоходства в Балтийском море от польского флота, который мог поддерживаться французским, защитой своих торговых путей и действиями на торговых путях Франции. Советский флот был слишком слаб, чтобы занимать место в германских планах, хотя уже появились слухи о его большой кораблестроительной программе.
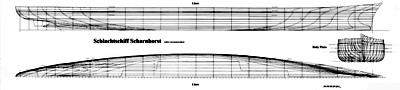 На конференции в Берлине 9 марта 1933 года было решено, что новые капитальные корабли должны противостоять "Dunkerque". Первые же расчеты показали необходимость в 320-мм броневом поясе, который мог выдерживать попадания 330-мм бронебойных снарядов с дистанции свыше 18 000 м, и в толстой бронепалубе, которая должна была останавливать эти снаряды на дистанциях свыше 25 000 м. Такая защита в мыслимые пределы водоизмещения не укладывалась, и требования снизили: корабль должен выдерживать попадания 330-мм фугасных и 203-мм бронебойных снарядов. Для этого хватало 220-мм пояса и 80-мм палубы (со скосами, по старой привычке). В связи с ростом опасности атак с воздуха высказывалось желание забронировать еще и верхнюю палубу — хотя бы до 50 мм. Дискуссии по главному калибру в основном сводились к поиску компромисса между лучшей бронепробиваемостью и разрушительным воздействием, с одной стороны, и скорострельностью, с другой. Тогда посчитали, что девять 283-мм орудий лучше, чем шесть 330-мм, а переход на больший калибр обоснован, если удастся разместить не менее восьми стволов. Нельзя было забывать и о самих башнях. В наличии имелись только 283-мм 3-орудийные, а все другие нужно было еще спроектировать, испытать и запустить в производство. На разработку новой установки ГК требовался год, на остальное еще 3,5. Всего рассматривалось три базовых проекта: 18 000-тонный, 22 000-тонный (оба с 283-мм орудиями) и 26 000-тонный с 330-мм орудиями, стоимость которых составляла 120, 150 и 180 млн. марок соответственно. Наиболее радикально настроенные адмиралы, вроде начальника морской артиллерии Гросса, горячо высказывались в пользу 26 000-тонного проекта с 330-мм орудиями, подчеркивая, что паритет с Францией главнее всего. Однако этот проект "тянул" за собой новые проблемы. Построить такой корабль можно было только на слипе №2 в Вильгельмсхафене, а доковать только в Бременхафене и Гамбурге. То есть при постройке нескольких таких кораблей следовало также раскошелиться на новые доки. В конце концов, Редер приказал более подробно проработать проект в 26 500 т со следующими вариантами расположения 330-мм орудий: 4x2, 2x4 и 3x3. В крайнем случае разрешалось применить 305-мм калибр. Работы следовало закончить к концу 1934 года и тогда же планировалось заложить головной корабль.
На конференции в Берлине 9 марта 1933 года было решено, что новые капитальные корабли должны противостоять "Dunkerque". Первые же расчеты показали необходимость в 320-мм броневом поясе, который мог выдерживать попадания 330-мм бронебойных снарядов с дистанции свыше 18 000 м, и в толстой бронепалубе, которая должна была останавливать эти снаряды на дистанциях свыше 25 000 м. Такая защита в мыслимые пределы водоизмещения не укладывалась, и требования снизили: корабль должен выдерживать попадания 330-мм фугасных и 203-мм бронебойных снарядов. Для этого хватало 220-мм пояса и 80-мм палубы (со скосами, по старой привычке). В связи с ростом опасности атак с воздуха высказывалось желание забронировать еще и верхнюю палубу — хотя бы до 50 мм. Дискуссии по главному калибру в основном сводились к поиску компромисса между лучшей бронепробиваемостью и разрушительным воздействием, с одной стороны, и скорострельностью, с другой. Тогда посчитали, что девять 283-мм орудий лучше, чем шесть 330-мм, а переход на больший калибр обоснован, если удастся разместить не менее восьми стволов. Нельзя было забывать и о самих башнях. В наличии имелись только 283-мм 3-орудийные, а все другие нужно было еще спроектировать, испытать и запустить в производство. На разработку новой установки ГК требовался год, на остальное еще 3,5. Всего рассматривалось три базовых проекта: 18 000-тонный, 22 000-тонный (оба с 283-мм орудиями) и 26 000-тонный с 330-мм орудиями, стоимость которых составляла 120, 150 и 180 млн. марок соответственно. Наиболее радикально настроенные адмиралы, вроде начальника морской артиллерии Гросса, горячо высказывались в пользу 26 000-тонного проекта с 330-мм орудиями, подчеркивая, что паритет с Францией главнее всего. Однако этот проект "тянул" за собой новые проблемы. Построить такой корабль можно было только на слипе №2 в Вильгельмсхафене, а доковать только в Бременхафене и Гамбурге. То есть при постройке нескольких таких кораблей следовало также раскошелиться на новые доки. В конце концов, Редер приказал более подробно проработать проект в 26 500 т со следующими вариантами расположения 330-мм орудий: 4x2, 2x4 и 3x3. В крайнем случае разрешалось применить 305-мм калибр. Работы следовало закончить к концу 1934 года и тогда же планировалось заложить головной корабль.
Когда в 1933 году к власти в Германии пришел Адольф Гитлер, он дал ясно понять адмиралу Редеру, что не намеревается, подобно адмиралу фон Тирпицу, строить свою морскую политику на прямом вызове британской морской мощи, а считает более важным противостоять кораблестроительным программам Франции. Он разрешал построить 4-й и 5-й броненосные корабли типа "Deutschland", обозначенные "D" и "Е", но только с усиленной защитой при сохранении лимита водоизмещения 19 000 т и вооружения из двух трехорудийных 283-мм башен. На конференции в июне такой проект с 220-мм поясом, 70 — 80-мм главной и 35 — 50-мм верхней бронепалубами стал предметом детального обсуждения. В частности, предлагалось повысить боезапас ГК до 150 — 160 снарядов на орудие, вспомогательную 150-мм батарею расположить в четырех спаренных башнях для лучшей подачи боезапаса и защиты прислуги, а тяжелую зенитную усилить с трех 88-мм стволов на "Deutschland" до четырех или до трех спарок при росте боезапаса до 200 выстрелов на ствол. Торпедные аппараты сохранялись. Новые корабли получались на 5 метров длиннее "Deutschland", осадка возрастала до 7 — 8м. Один из них следовало оснастить в качестве флагмана флота, а вопрос выбора ЭУ оставался открытым, поскольку испытания "Deutschland" уже показали недостатки дизелей (шум и вибрация).
Осенью 1933 года дискуссии по проекту продолжились. Теперь критиковалось расположение 150-мм орудий в башнях, барбеты которых не доходили до главной бронепалубы, что делало башни очень уязвимыми. Тем более, что при удачном попадании из строя выходило сразу два орудия. Разработка проекта таких башен заканчивалась, и их можно было заказывать уже в январе 1934 года. Зенитное вооружение хотелось усилить до 4 или 5 спарок при четырех директорах, расположенных как на крейсере "Nürnberg". Зато целесообразность наличия торпедных аппаратов теперь подверглась сомнению. Защита усиливалась за счет увеличения брони барбетов башен ГК до 220 мм, но с ЭУ и, следовательно, дальностью плавания еще не определились. Спустя неделю после этого совещания, 18 октября, было решено выдать заказы на постройку двух 19 000-тонных броненосных кораблей, официально выдавая их за 10 000-тонных последователей "Deutschland". Позже в протоколе совещания цифра "19 000" была зачеркнута и от руки исправлена на 17 000, очевидно, чтобы быть поближе к Версальским лимитам. Вооружение состояло из 6 (2x3) 283-мм, 8 (4x2) 150-мм и 8 (4x2) 88-мм орудий.
В декабре снова вернулись к вопросу главного калибра. В бюджет заложили 1,4 млн. марок на разработку нового 330-мм орудия, но затем в попытке завоевать расположение англичан Редер снова решил вернуться к 305-мм калибру. Спустя месяц столь долгое ожидание вооружения ГК (примерно до мая 1939 года) сочли неразумным, и 25 января 1934 года военная верфь в Вильгельмсхафене и фирма Дойче Верке в Киле получили заказы на постройку теперь уже 18 000-тонных броненосных кораблей "D" и "Е", которые заложили 14 февраля под строительными номерами 135 и 235.
В 1934 году Франция объявила о закладке второго линейного крейсера типа "Dunkerque" — "Straßburg", и нужно было срочно принимать ответные меры. Гитлер дал добро на добавление третьей башни и увеличение водоизмещения до 26 000 т. Постройку броненосцев прекратили 5 июля, а конструкторы приступили к перепроектированию, которое, по самым оптимистичным оценкам, не могло быть закончено ранее октября 1935 года. Новые требования включали 28-узловую продолжительную скорость и 30-узловую полную, защиту цитадели от 330-мм орудий в диапазоне дистанций 15 000 — 20 000 м, противоосколочную защиту оконечностей, три башни ГК (одна в носу и две в корме), четыре 2-орудийных 150-мм при отсутствии торпедных аппаратов. Тогда же впервые высказали предложение предусмотреть в проекте возможность после достройки замены 3-орудийных 283-мм башен на спаренные 330-мм или 380-мм калибра. Вскоре от оборонительного расположения башен ГК отказались, предпочтя более привычную схему с двумя башнями в носу. Что касается механизмов, то симпатии склонились в пользу турбин и высокотемпературных котлов, поскольку только такая ЭУ могла обеспечить скорость 30 узлов.
Так и родилась проектная концепция для "Scharnhorst" и "Gneisenau". Новые корабли не были последователями прекрасных немецких линейных крейсеров Первой мировой войны, а являлись просто увеличенными "броненосными кораблями" 1920-х годов, порожденными ограничениями Версальского договора. Даже состав батареи среднего калибра диктовался орудиями, уже изготовленными для 4-го и 5-го кораблей типа "Deutschland". Всего имелось восемь одноорудийных 150-мм палубных установок со щитами (по 4 на корабль), ставших не самым удачным дополнением к бронированным двухорудийным башням, число которых из-за этого пришлось ограничить (также по 4). Корабли получили мощную броневую защиту, но без традиционной для германских линейных крейсеров и линкоров Первой мировой войны верхней цитадели. Предусматривалось использование не только готовых 150-мм орудий, но и части оборудования, предназначавшегося для 4-го и 5-го броненосных кораблей. Хотя немцы чаще называли "Scharnhorst" и "Gneisenau" линкорами, они, по сути, являлись линейными крейсерами с мощной защитой, высокой скоростью и умеренным, по тогдашним меркам, калибром главных орудий. Проект этих, фактически переходных, кораблей стал развитием броненосца "Deutschland" и нес на себе следы технических ограничений и политических соображений, хотя при перепроектировании немцы, естественно, использовали свой опыт в создании крупных быстроходных и мощно защищенных линейных крейсеров времен Первой мировой войны.
До начала постройки Гитлер захотел по этому поводу успокоить Британию. Желая иметь достаточное количество таких кораблей для противодействия французскому флоту, он решил заключить с "владычицей морей" военно-морское соглашение, дающее последней гарантированное тройное превосходство по линкорам над флотом Германии — 474 400 т против 166 000. Это позволяло легально убрать версальские ограничения. Англо-германский морской договор, разрешавший Гитлеру начать строительство современного флота, был подписан в Лондоне 18 июня 1935 года, когда оба новых линкора уже были заложены. Договор гарантировал, что германская политика на морях не будет направлена против Великобритании, но связывал Германию обязательством соблюдать все существующие международные морские соглашения и те, которые могут быть заключены в будущем.
Новая дискуссия по главному калибру развернулась в марте 1935 года, когда чертежи и спецификации были почти готовы. Рассматривалось пять вариантов: девять 305- или 330-мм орудий или шесть 380-, 350- или 330-мм, причем первые три требовали водоизмещения от 34 000 до 37 000 тонн, дополнительной 18-месячной задержки и повышения стоимости до 30 — 40 млн. марок. Флот отдавал предпочтение 350- или 380-мм орудиям в трех спаренных башнях, несмотря на потерю 11 млн. марок, уже инвестированных в производство 283-мм орудий и башен, но Гитлер возражал против повышения ГК из-за возможных значительных политических осложнений с Британией. Калибр 350-мм решили применить на следующем корабле "F".
Поскольку "Scharnhorst" и "Gneisenau" строились в противовес французским кораблям типа "Dunkerque", их наступательные и оборонительные элементы проверялись на противостоянии именно "Dunkerque". Новые 283-мм крупповские орудия, превосходившие аналогичные пушки кораблей типа "Deutschland", для своего калибра имели огромную мощь и дальность стрельбы. Проблема, с которой столкнулись немецкие конструкторы при проектировании броневой защиты новых кораблей, станет понятней, если сравнить размеры французского и немецкого бронебойных снарядов: первый (330-мм) весил 572 кг, а второй всего 330 кг. Зато 283-мм калибр обеспечивал высокую скорострельность и мог пробивать пояс "француза" с дистанции до 20 500 м. К тому же, корпус "Dunkerque" по большой площади вообще не имел брони, так что разрушение оборудования в этих частях быстро сделало бы корабль небоеспособным. Но основная причина сохранения на новых кораблях 283-мм орудий все же была политическая.
В ходе предварительных проработок выяснилось, что девять 283-мм орудий и защита от 330-мм снарядов на ограниченных по видимости дистанциях Северного моря вполне вписываются в 26 000 т водоизмещения. Однако в 1936 году весовой контроль материалов на верфях в ходе постройки показал, что водоизмещение будет гораздо большим. Это вызывало серьезное беспокойство за остойчивость, мореходные качества и живучесть кораблей, поскольку броневая палуба, по проекту проходившая выше ватерлинии, теперь оказывалась ниже. Уменьшалась и высота надводного борта, что сужало диапазон остойчивости.
Уже позднее, в ходе первых плаваний выяснилось, что увеличение осадки сделало корабли в открытом море очень "мокрыми", из-за чего пришлось срочно переделывать форму форштевня, развал носовых шпангоутов, а верхнюю палубу в носу приподнимать вверх.
Над проблемой увеличенного водоизмещения начал работать Кораблестроительный отдел. Основные характеристики проекта уже не подлежали изменению, поэтому единственно возможное решение заключалось в увеличении ширины корпуса. Но и это нельзя было сделать, поскольку корабли уже стояли на стапелях. Установка бортовых блистеров (булей) также была нежелательной — корабли теряли в скорости и становились еще тяжелее. Любые дальнейшие изменения проекта следовало тщательно просчитывать. В результате решили увеличить стандартное водоизмещение до 31 500 т. Работы над проектом закончились в мае 1935 года, как раз к этому времени успешно завершились испытания новых 283-мм орудий.
Наиболее противоречивым элементом проекта оказалась энергетическая установка. На начальной стадии проектирования для ускорения сроков поставок и гарантирования высоких скорости и мощности приняли турбозубчатые агрегаты, использующие пар с высоким давлением и температурой, поскольку для таких больших кораблей с 30-узловой скоростью подходящих дизелей не нашлось. Адмирал Редер пошел на риск, утвердив состав энергетической установки из паровых турбин и высокотемпературных котлов высокого давления. Новую установку успели испытать только на верфи с участием будущих механиков новых кораблей. Все понимали, что дальность будет гораздо меньше, чем при использовании дизелей. Но ждать разработки и изготовления мощных дизелей просто не было времени.
| КОРПУС |
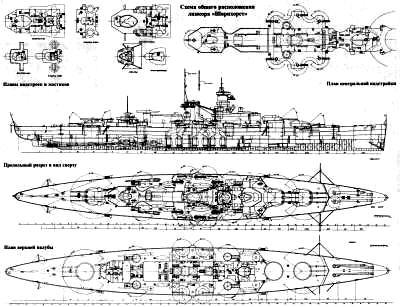 Как и при постройке броненосцев типа "Deutschland", использовалась продольная конструкция корпуса, набираемого в основном из стали ST52. И только для элементов толщиной менее 4 мм, которые требовалось изгибать под большими углами, применяли сталь ST42. Для экономии веса использовались и легкие сплавы, но на них пришлось всего 103,5 т, или 0,66% веса корпуса без вертикальной брони и башен. Главный киль коробчатой конструкции от шпангоута 40,85 до форштевня был выполнен водонепроницаемым, имелось по 6 стрингеров с каждого борта и скуловые кили, проходившие между шпангоутами 75,6 и 143,25. Двойное дно тянулось от шп. 21,5 до 229,5, противоторпедная переборка (ПТП) и L-образная переборка между ней и бортом—от 32 до 185,7.
Как и при постройке броненосцев типа "Deutschland", использовалась продольная конструкция корпуса, набираемого в основном из стали ST52. И только для элементов толщиной менее 4 мм, которые требовалось изгибать под большими углами, применяли сталь ST42. Для экономии веса использовались и легкие сплавы, но на них пришлось всего 103,5 т, или 0,66% веса корпуса без вертикальной брони и башен. Главный киль коробчатой конструкции от шпангоута 40,85 до форштевня был выполнен водонепроницаемым, имелось по 6 стрингеров с каждого борта и скуловые кили, проходившие между шпангоутами 75,6 и 143,25. Двойное дно тянулось от шп. 21,5 до 229,5, противоторпедная переборка (ПТП) и L-образная переборка между ней и бортом—от 32 до 185,7. 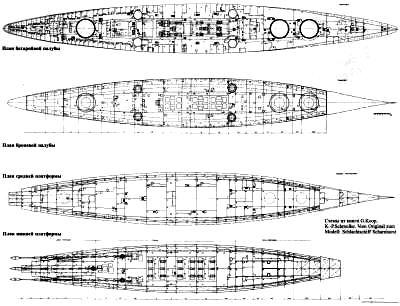 Переборки, поддерживающие конструкции башен, проходили в 4,5 м от ДП от двойного дна до главной броневой палубы между шпангоутами 40,85 и 49,55 (башня С), 153,95 и 162,65 (башня В), 171 и 179,85 (башня А). Главная бронепалуба проходила между шпангоутами 10,5 и 185,7 на высоте 9,2 м от днища, но на протяжении котельных отделений ее средняя часть приподнималась еще на 600 мм, чтобы дать достаточно места котлам. Весь корпус поперечными переборками делился на 21 водонепроницаемый отсек, из которых отсеки с VI по XII были заняты энергетической установкой, а в кормовых отсеках III и IV и носовых с XV по XVIII на уровне нижней палубы располагались зарядные и снарядные погреба ГК и их перегрузочные отделения.
Переборки, поддерживающие конструкции башен, проходили в 4,5 м от ДП от двойного дна до главной броневой палубы между шпангоутами 40,85 и 49,55 (башня С), 153,95 и 162,65 (башня В), 171 и 179,85 (башня А). Главная бронепалуба проходила между шпангоутами 10,5 и 185,7 на высоте 9,2 м от днища, но на протяжении котельных отделений ее средняя часть приподнималась еще на 600 мм, чтобы дать достаточно места котлам. Весь корпус поперечными переборками делился на 21 водонепроницаемый отсек, из которых отсеки с VI по XII были заняты энергетической установкой, а в кормовых отсеках III и IV и носовых с XV по XVIII на уровне нижней палубы располагались зарядные и снарядные погреба ГК и их перегрузочные отделения.
Это были первые в мире капитальные корабли, построенные с действительно широким использованием сварки. Впервые электродуговую сварку применили на грузовых судах типа "Кирдофф" на верфи Вильгельмсхафена после Первой мировой войны. Затем на крейсере "Emden" сваркой соединяли элементы внутреннего дна, переборок и палуб платформы, что позволило значительно экономить вес. Построенные после этого шесть миноносцев имели уже полностью сварные корпуса. При строительстве броненосных кораблей, водоизмещение которых было очень ограничено, вообще принимались все возможные меры по экономии веса. На головном сваркой соединили палубные настилы с бимсами и швы этих настилов, а третий, "Admiral Graf Spee", на котором сваривалась и наружная обшивка, оказался первым крупным германским боевым кораблем с полностью сварным корпусом.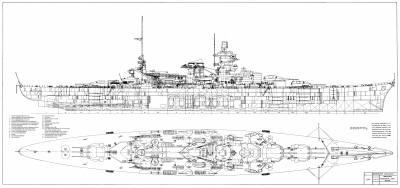
Ко времени закладки "Scharnhorst" и "Gneisenau" техника сварки еще более усовершенствовалась и их корпуса сделали полностью сварными, за исключением мест соединения ПТП со скосами нижней броневой палубы. Не везде качество сварных швов оказалось высоким, что доказало повреждение "Gneisenau" в июне 1940 года. Во время постройки этих кораблей технология сварки всецело зависела от длины электродов, что не всегда позволяло получить непрерывный шов. При торпедных и бомбовых попаданиях места приварки переборок разрушались, что объяснялось применением плохих электродов, а иногда и низким качеством работы. Тем не менее, немецкие кораблестроители единогласно считали сварные корпуса лучше клепаных.
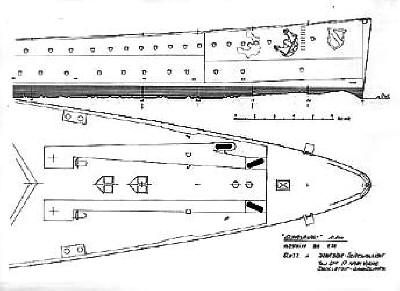 "Gneisenau" и "Scharnhorst" имели носовые бульбы, снижавшие волновое сопротивление на больших скоростях, чему еще больше способствовали прекрасные обводы и большая длина корпуса. Эти корабли сильно отличались от своих предшественников периода Первой мировой войны и иностранных современников. Главной для них считалась скорость, поэтому они не имели бортовых булей, увеличивающих водоизмещение и сопротивление движению.
"Gneisenau" и "Scharnhorst" имели носовые бульбы, снижавшие волновое сопротивление на больших скоростях, чему еще больше способствовали прекрасные обводы и большая длина корпуса. Эти корабли сильно отличались от своих предшественников периода Первой мировой войны и иностранных современников. Главной для них считалась скорость, поэтому они не имели бортовых булей, увеличивающих водоизмещение и сопротивление движению.
Наиболее заметной особенностью корпуса этих кораблей после достройки были почти вертикальный форштевень и малый развал носовых шпангоутов. Якоря хранились традиционно — в клюзах: два с левого борта и один с правого. Еще один запасной хранился горизонтально по левому борту в самой корме. Высота надводного борта, и так небольшая по сравнению с иностранными современниками, еще более уменьшилась в процессе достройки, когда на корабли добавляли различное оборудование, а вес некоторых устройств и систем оказался больше ожидаемого. Положение ухудшал и 0,8-метровый дифферент на нос при полной нагрузке, избавиться от которого можно было только путем использования в первые 24 ходовых часа топлива из носовых цистерн. Эти первые сутки, когда волны перекатывались через полубак, создавая проблемы с действием башни "Anton" и мешая правильному управлению кораблем, оставались самыми неприятными во всех операциях.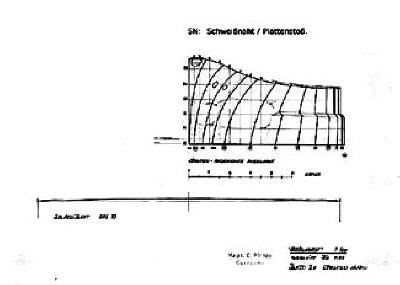
При определенных условиях в открытом море недостаток высоты надводного борта, форма носа и расположение якорей приводили к образованию таких брызг, что управлять кораблем становилось возможным только из боевой рубки. Ходовые испытания "Gneisenau" на высокой скорости показали также, что при прямом форштевне образуется огромная носовая волна, которую корабль толкает перед собой. Подобное явление наблюдалось и на "карманных линкорах".
Зимой 1938/39 года на "Gneisenau" увеличили развал носовых шпангоутов и высоту борта в носу за счет изгиба палубы вверх. Заострили и обводы по ватерлинии в оконечностях. Отчасти эти меры улучшили мореходность, но образование огромных брызг не прекратилось, особенно в районе якорей.
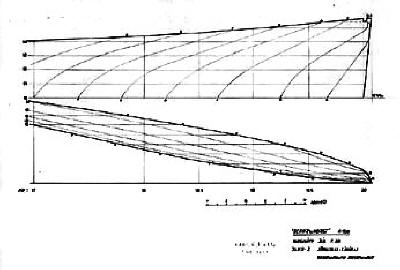 В ходе капитального ремонта летом 1939 года "Scharnhorst" получил новый, так называемый "атлантический", нос с большим наклоном форштевня вперед, увеличенным развалом шпангоутов и якорями, перенесенными на кромку палубы. Длина корабля увеличилась примерно на 5 м, а расположение якорей стало главной отличительной особенностью "Scharnhorst" от систершипа.
В ходе капитального ремонта летом 1939 года "Scharnhorst" получил новый, так называемый "атлантический", нос с большим наклоном форштевня вперед, увеличенным развалом шпангоутов и якорями, перенесенными на кромку палубы. Длина корабля увеличилась примерно на 5 м, а расположение якорей стало главной отличительной особенностью "Scharnhorst" от систершипа.
Кроме двух якорей на кромке палубы "Scharnhorst" получил еще носовой якорь в клюзе форштевня. В 1942 году этот якорь убрали, а клюз заделали.
После боя с "Rawalpindi" на полубаке "Scharnhorst" установили волнолом, а на верхней палубе — дополнительные водонепроницаемые люки, чтобы уменьшить заливаемость жилых помещений.
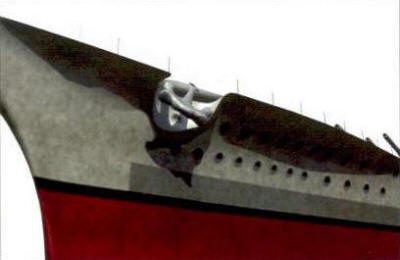 И на "Gneisenau", стремясь скомпенсировать малую высоту борта, несколько раз модифицировали носовую часть. После боя с "Rawalpindi" бортовые якоря также убрали вверх — на кромку палубы, но носовой якорь так и не установили. В верхней части форштевня разместили швартовые устройства. После серьезных повреждений, полученных в штормовом Северном море в декабре 1940 года, на "Gneisenau" усилили носовые палубы и установили волноломы. "Атлантический" нос не решал полностью проблемы "мокроты" палуб и брызгообразования, но уменьшал их до приемлемых пределов. Мореходные качества у этих кораблей оставались неважными до самого конца карьеры. Правильным решением проблемы было бы увеличение высоты надводного борта за счет увеличения общей высоты корпуса, но в результате увеличивались бы вес брони и размер цели. Немцы решили пожертвовать мореходностью.
И на "Gneisenau", стремясь скомпенсировать малую высоту борта, несколько раз модифицировали носовую часть. После боя с "Rawalpindi" бортовые якоря также убрали вверх — на кромку палубы, но носовой якорь так и не установили. В верхней части форштевня разместили швартовые устройства. После серьезных повреждений, полученных в штормовом Северном море в декабре 1940 года, на "Gneisenau" усилили носовые палубы и установили волноломы. "Атлантический" нос не решал полностью проблемы "мокроты" палуб и брызгообразования, но уменьшал их до приемлемых пределов. Мореходные качества у этих кораблей оставались неважными до самого конца карьеры. Правильным решением проблемы было бы увеличение высоты надводного борта за счет увеличения общей высоты корпуса, но в результате увеличивались бы вес брони и размер цели. Немцы решили пожертвовать мореходностью.
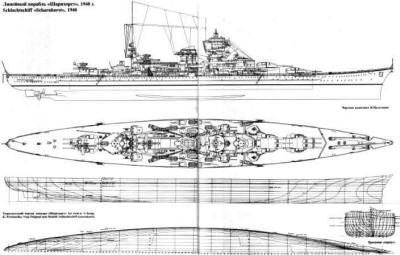
|
"Scharnhorst" |
"Gneisenau" |
Водоизмещение |
31552/37822т (стандартное/полное в 1935 г.) 32358/38703т (стандартное/полное в 1943 г.) 39643т (боевое в перегруз в 1943 г.) |
31632/37902т (стандартное/полное в 1935 г.) 33510/40720т (стандартное/планируемое полное после перевооружения) |
Размерения, м
|
226,0(КВЛ)/229,8(полная)х30,0х8,69; высота корпуса 14,05; высота борта (нос/середина) 8,3/4,8 |
|
Полная длина после реконструкции носа 235,4; осадка 9,93 (средняя при 38 713 т) |
Полная длина после реконструкции носа 234,9; осадка 9,69 (средняя при 37 902 т); после планируемого перевооружения 236 и 9,75 |
|
| БРОНЕВАЯ И ПРОТИВОТОРПЕДНАЯ ЗАЩИТА |
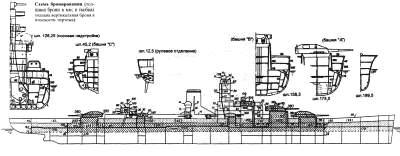
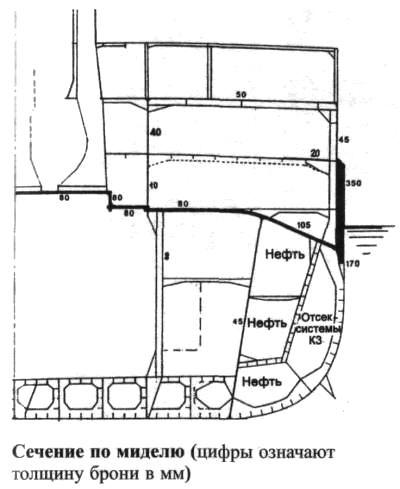 , должен был встречать на пути и бронепалубу. Хотя при этом возрастал риск взлететь на воздух от пущенного с дальней дистанции снаряда или бомбы, сброшенной с большой высоты, немцы полагали, что их корабли будут сражаться в Северном море, где условия видимости ограничивали дистанции боя.
, должен был встречать на пути и бронепалубу. Хотя при этом возрастал риск взлететь на воздух от пущенного с дальней дистанции снаряда или бомбы, сброшенной с большой высоты, немцы полагали, что их корабли будут сражаться в Северном море, где условия видимости ограничивали дистанции боя.
Германская система броневой защиты не базировалась на концепции "зоны неуязвимости", принятой в других флотах. Вместо нее разработали сложные таблицы в координатах "дистанция — угол цели" для орудий наиболее вероятных противников из числа английских и французских кораблей, на основе которых командиры германских линкоров и крейсеров могли выбирать наименее рискованные дистанции боя. Эти таблицы, конечно, не гарантировали полной безопасности, поскольку многие данные в них базировались на не вполне достоверной и порой ошибочной информации. Тем не менее, для выработки общих тактических решений они были довольно полезными. Немцы не считали серьезной проблему ныряющих снарядов, упавших с небольшим недолетом, как это полагали японцы, американцы и англичане. И все-таки следует признать, что с повышением эффективности стрельбы на дальних дистанциях германская система броневой защиты оказалась слабой против большинства орудий новых линкоров. Общий вес брони составлял 14 245 т, из которых 6580 т приходилось на закаленную типа КС — крупповская цементированная (пояс, траверзы, барбеты и башни ГК, боевая рубка). Остальная броня была гомогенной типа Wh.
Главный броневой пояс.
Главный вертикальный пояс высотой 4,5 м и общим весом 3440 т имел толщину 350 мм с уменьшением до 170 мм к нижней кромке, на 1 м выше которой крепился скос главной бронепалубы. Пояс утоньшался, начиная с глубины 1,7 м под проектной ватерлинией. Эта схема была такой же, как и на линкорах типа "Bismarck", обеспечивая защиту (пояс + скос) от 1016 кг 406-мм снарядов с дистанций свыше 11 000 м. Немцы отрицали использование для линкоров наклонного и смещенного внутрь от обшивки главного пояса, считая неразумным оставлять наружную часть борта без защиты. Толщина главного пояса была постоянной на всем протяжении броневой цитадели от скоса и до высоты 3 м над проектной ватерлинией, откуда начинался доходивший до верхней палубы 45-мм противоосколочный пояс. Столь тонкий верхний пояс пришлось применить из-за большой высоты главного пояса, выбранной так, чтобы борт в районе ватерлинии оставался прикрытым толстой броней при бортовой качке, при крене или увеличении осадки после получения повреждений.
Перед носовой броневой траверзной переборкой, отстоящей на 41 м от форштевня, главный пояс утончался с 350 до 70 мм, имея значительную высоту над и под проектной ватерлинией, чтобы обеспечивать противоосколочную защиту носовой оконечности.
Рулевой привод и валы защищались проходящими от кормовой траверзной переборки цитадели до кормовой переборки отделения рулевых машин броневыми 80-мм скосами и противоосколочным поясом длиной 37 м и толщиной 70 мм. Немцы считали существенным обеспечить защиту винтов и рулей от навесных снарядов и бомб, хотя и понимали, что она не будет полностью надежной, особенно от торпед.
Броневые переборки.
Корабли этого типа имели броневые траверзные переборки на концах цитадели, а еще одна защищала с кормы отделение рулевых машин. Носовая переборка проходила от палубы верхней платформы до верхней палубы. Под броневой палубой ее толщина была такой же, что и у переборки отделения рулевых машин, а над ней — 150-мм до батарейной палубы и 70-мм от батарейной до верхней. Плиты толще 100 мм выполнялись из цементированной брони типа КС.
Палубная броня.
Немцы использовали так называемую карапасную бронепалубу (вес 3240 т), которая скосами крепилась к нижней кромке главного пояса, а не лежала поверх него, как, например, на "Yamato". Немецкие конструкторы считали, что при размещении главной бронепалубы на уровне верхней кромки пояса попавшие в корабль снаряды и бомбы будут взрываться слишком высоко в корпусе. К тому же исчезала всякая защита за поясом, который мог быть пробит снарядами. Против авиабомб общего назначения они применили еще и верхнюю броневую палубу толщиной 50 мм (вес 2109 т), которая также должна была взводить взрыватель бронебойных бомб, заставляя их взрываться над главной бронепалубной, расположенной двумя межпалубными пространствами ниже. При попадании в корабль полубронебойного снаряда, способного пробить 50-мм палубу и взорваться, осколочные повреждения ограничивались системой продольных и поперечных переборок, проходивших между верхней и нижней броневыми палубами. Допускалось, что тяжелая бронебойная бомба в состоянии пробить обе палубы, но при этом ее следовало сбросить с большой высоты с ничтожной вероятностью попадания.
Поскольку не было возможности провести испытания бронебойными бомбами, сброшенными с большой высоты, их заменили полигонными испытаниями вертикальной брони, которая обстреливалась тяжелыми снарядами с моделированием эффекта бронебойной бомбы. Результаты показали, что горизонтальная защита из одной толстой палубы непрактична. Конструкция палубной защиты должна быть такова, чтобы уменьшить кинетическую энергию бомбы, деформировать ее корпус и взрыватель. Поэтому и остановились на использовании двух броневых палуб при наибольшей толщине брони ближе к борту на нижней, то есть на ее скосах. Верхняя бронепалуба отстояла от нижней на 5,1 м, а между ними проходила батарейная палуба с обычным стальным настилом.
Конструкция нижней броневой палубы почти повторяла проект линейных крейсеров Первой мировой войны типа "Ersatz Yorck", где единственная бронепалуба по большей части своей ширины проходила сразу над ватерлинией, а ее скосы опускались к нижней кромке главного пояса под углом 25° к горизонтали. Такое расположение (на палубу ниже, чем на большинстве линкоров и линейных крейсеров того времени) давало лучшую защиту жизненно важных частей корабля. Если не считать попаданий от нырнувших снарядов, эти корабли были хорошо защищены от артиллерийского огня линкоров того времени на дистанциях, когда на пути снаряда вставали пояс и скос палубы. Правда, на очень больших дистанциях их палуба уже пробивалась.
При водоизмещении свыше 26 000 т оказалось невозможным использовать единую бронепалубу, расположенную на уровень выше, чем нижняя, поскольку это требовало поднятия пояса. Тем более, что при проектировании кораблей типа "Scharnhorst" упор делался на противостояние снарядам, а не бомбам. Здесь немцы показали себя большими консерваторами, сохранив принцип бронирования как на проектах Первой мировой войны. Фактически до 29 мая 1937 года, когда броненосный корабль "Deutschland" получил два бомбовых попадания в испанской гавани Ибиса, они не воспринимали серьезно опасность атак с воздуха. Эти две бомбы произвели сильные разрушения внутри корпуса, убили 31 человека и многих ранили. Позднее результаты попаданий бомб в "Scharnhorst" в июле 1941 года, когда он стоял в Ла-Паллисе, вызвали большое беспокойство в Кораблестроительном отделе. Ведь некоторые бомбы пробили обе бронепалубы и не взорвались лишь по счастливой для немцев случайности. Во Францию послали специальную комиссию, чтобы поднять эти бомбы для испытаний. К сожалению, ограничения по осадке и водоизмещению не могли позволить хоть как-то усилить палубное бронирование "Scharnhorst" и "Gneisenau".
Главная бронепалуба не проходила на одном уровне. На протяжении 9,62 м над котельными отделениями ее пришлось приподнять на 0,6 м, чтобы дать достаточный зазор над верхушками котлов, которые оказались больше, чем планировалось сначала. По проекту главная бронепалуба находилась на 530 мм выше ватерлинии, но изменения в бронировании и другие модификации увеличили водоизмещение и осадку. В результате палуба оказалась вровень с ватерлинией, а при полной нагрузке даже опускалась на 730 мм ниже нее. Ситуацию исправить было нелегко, единственное решение заключалось в добавлении булей или увеличении ширины корпуса. Но сделать ничего так и не удалось, пока серьезное повреждение носовой части "Gneisenau" не привело к его модернизации, в ходе которой планировалось удлинить корпус на 10 м.
Боевая рубка.
Немцы предпочитали хорошо бронировать основную и вспомогательную боевые рубки. Не стали исключением и эти корабли. От нижней бронепалубы до пола основной боевой рубки (стены 350 мм, крыша 200 мм) проходила бронированная 200-мм коммуникационная труба. Кормовая боевая рубка имела несколько более тонкую броню. Пост управления стрельбой главного калибра защищался 60-мм плитами нецементированной брони, а вспомогательные устройства — 20-мм плитами.
Башенная броня.
Необычайно толстыми — 350 мм — были задние стены башен (для лучшей балансировки), боковые — 180—220 (разные источники приводят разные цифры), лобовая часть — 360 мм и крыша — до 180 мм. Толщина барбетов изменялась от 350 до 200 мм (тоньше — ближе к ДП, куда попадания считались маловероятными и барбеты прикрывали друг друга). В целом артиллерия главного калибра оказалась наиболее защищенной частью этих кораблей, на нее пошло 2710 т брони КС.
Слабой оказалась защита средней артиллерии. И если башни 150-мм орудий имели броню, более толстую, чем на большинстве линкоров союзников, но все равно не способную противостоять прямым попаданиям тяжелых снарядов, то палубные установки защищались только 25-мм щитами.
"Scharnhorst" и "Gneisenau" имели развитую противоосколочную защиту над главной броневой палубой, что было свойственно всем немецким тяжелым кораблям. Большинство переборок находились в пределах цитадели, чтобы ограничивать повреждения при взрывах снарядов и бомб на главной броневой палубе. Дымоходы защищались 20-мм плитами, так же как и посты управления стрельбой главного калибра и пост управления ночной стрельбой.
Противоторпедная защита.
Подводная защита проектировалась, чтобы противостоять контактному взрыву заряда в 250 кг тринитротолуола (ТНТ) на глубине в половину проектной осадки. Этот заряд оказался несколько меньшим, чем у торпед кораблей британского флота, но превосходил заряды британских авиаторпед. Конструкция ПТЗ разрабатывалась на основе полномасштабных испытаний с различными секциями, вырезанными из корпуса старого броненосца "Preußen". Испытания показали, что сварные соединения, хотя и более легкие, по сравнению с традиционными клепаными, лучше выдерживали взрыв 250-кг заряда, а получаемые при этом повреждения легче ремонтировались. Еще ранее на артиллерийском полигоне обстрелом испытали сварное соединение броневых плит, не подвергавшихся тепловой закалке, и результаты также оказались положительными. Все это убедило немецких конструкторов в том, что сварные соединения, полученные при использовании разработанного Крупном электрода "нихротерм", могут выдерживать напряжения и изгибы, возникающие при подводном взрыве в противоторпедной переборке, которую планировалось изготовить как раз из незакаленной броневой стали. Поэтому Кораблестроительный отдел решил делать корпус броненосного корабля "Admiral Graf Spee" полностью сварным.
Несмотря на результаты этих испытаний, показавших способность сварной ПТЗ выдерживать взрыв 250-кг заряда, немцы решили крепить противоторпедную переборку с помощью клепки, поскольку нельзя было полностью гарантировать высокое качество сварных швов. Дефекты в сварных соединениях обнаруживались только с помощью рентгена, а такие испытания на верфях немцы еще не освоили. Тогда же решили не делать никаких креплений кабелей и трубопроводов к противоторпедной переборке, так как они бы только снижали ее эластичность, а сами при взрыве могли разрушаться.
ПТЗ имела легкое бронирование по наружной обшивке корпуса, толщина которого под главным поясом менялась в пределах 12 — 16 мм и которое могло вызвать детонацию боеголовки торпеды. Существовала, однако, проблема повреждения осколками наружной обшивки внутренних переборок при взрыве очень мощного заряда. Большое пустое пространство за наружной обшивкой действовало как расширительная камера для освобождавшихся при взрыве газов, что значительно сбрасывало бы их давление и энергию. Дальше внутри корпуса проходили нефтяные цистерны, поглощавшие остаток энергии взрыва за счет рассеивания или разрушения их 8-мм стенок, подкрепленных продольными элементами жесткости и шпангоутами. Часть энергии должна была поглощаться за счет пластических и упругих деформаций 45-мм противоторпедной переборки, за которой, где возможно, на протяжении цитадели имелись пустые отсеки, воспринимавшие возможные течи через нее. Общая толщина переборок на протяжении цитадели составляла 53 мм. Глубина ПТЗ на середине осадки у миделя достигала 4,5 м, у башен "Anton", "Bruno" и "Caesar" — соответственно 2,58, 3,35 и 3,74 м. В целом ПТЗ повторяла защиту броненосных кораблей, только главный пояс был дальше от центра корабля и шел вертикально. От наружных булей отказались в пользу системы внутренних переборок.
В средней части корпуса ПТЗ была вполне эффективной, но к концам цитадели, где корпус сужался, ее сопротивляемость падала до 200 кг ТНТ. Структура корпуса в районе кормовой башни оказалась очень сложной из-за острых обводов и прохода бортовых гребных валов через ПТЗ. Коридоры гребных валов при этом использовались как часть подводной защиты.
Каждый раз при получении этими кораблями подводных повреждений выявлялись новые недостатки их ПТЗ. ПТП под углом наружу около 10° проходила от днища почти до верхней кромки скосов бронепалубы, где крепилась с помощью угольников заклепками. Эта часть структуры и так испытывала сильные изгибающие напряжения под собственным весом корпуса, которые еще больше усилились из-за чрезмерной перегрузки. Даже без дополнительных ударных нагрузок напряжения среза в заклепках могли превысить допустимые. Фактически, при ударе бомбы или снаряда в скос бронепалубы место присоединения ПТП подвергалось серьезному испытанию, поскольку заклепки в нем в районе кормовой башни всегда находились под высоким напряжением, в основном из-за резкого окончания траверзной переборки и отчасти из-за окончания ПТП примерно на глубине половины осадки. Отсюда переборка отклонялась внутрь корпуса, чтобы иметь большее расстояние до обшивки, но структурная эффективность системы подводной защиты при этом снижалась.
Из-за больших габаритов главных механизмов система ПТЗ оказалась слишком узкой (например, на "Dunkerque" глубина ПТЗ достигала 7 м). В таких условиях пришлось отказаться от системы, примененной на супердредноутах "Baden" и "Bayern", которую повторили на "Bismarck" и "Tirpitz". Корабли типа "Scharnhorst" проектировались для скорости свыше 30 узлов с ограничением по ширине в 30 м, но только с увеличением ширины и водоизмещения можно было обеспечить лучшую ПТЗ в районе башен главного калибра. В результате система ПТЗ на этих кораблях оказалась далекой от желаемой.
| ОСТОЙЧИВОСТЬ |
На этих кораблях немцы применили подтвердивший свою надежность в годы Первой мировой войны принцип обеспечения высокой степени остойчивости за счет отличного разделения корпуса на отсеки. Из-за возросших размеров кораблей от них требовалась остойчивость даже большая, чем на "Deutschland". Немцы считали, что капитальный корабль должен быть разделен на множество водонепроницаемых отсеков и что на него должны распространяться принципы Международной конвенции по безопасности жизни на море (SOLAS), разработанные для пассажирских судов. Эти корабли проектировались как "двухотсечные", на которых затопление любых двух соседних отсеков, независимо от их размера и расположения, не должно сопровождаться погружением в воду палубы, до которой доходят водонепроницаемые переборки. Любой главный водонепроницаемый отсек, за исключением самых узких в оконечностях, делился на водонепроницаемые пространства. Ютландский опыт "Lützow" и "Seydlitz" доказал абсолютную необходимость этих принципов для сохранения корабля на плаву. В проекте новых линейных крейсеров немцы использовали и опыт повреждения "Bayern" на русской мине в Первую мировую войну. В результате "Scharnhorst" и "Gneisenau" получили гораздо больше продольных и поперечных переборок, чем все предыдущие германские "капитальные" корабли. Энергетическая установка располагалась в нескольких больших отсеках, чтобы обеспечить раздельное снабжение мощностью каждый гребной вал. Немцы сознательно пошли на усложнение обслуживания механизмов вследствие затруднительного доступа к ним. Это, прежде всего, относилось к увеличению числа водонепроницаемых люков в переборках и использованию водонепроницаемых запоров.
В результате тщательного анализа характеристик остойчивости на ранней стадии проектирования корабли разделили на 21 главный отсек шестью траверзными переборками, доходящими до батарейной палубы, и 14 переборками, доходящими в носу до верхней палубы. Противоторпедные переборки, проходящие в 10,56 м от диаметральной плоскости, имели с каждой стороны по 15 бортовых отсеков. Эти корабли проектировались так, чтобы не тонуть при потере запаса плавучести в любых трех главных отсеках.
Расположение траверзных переборок определялось расчетами длин кривых затопления, использующими методику, принятую для торговых судов. Но в боевом корабле затопление отсеков обычно асимметрично, поэтому на крупных германских боевых кораблях для компенсации асимметричного затопления применяли большую ширину корпуса и большую метацентрическую высоту. При этом за определенное время полученный крен и дифферент могли исправляться контрзатоплением. Оценочная длина пробоины от торпедного попадания принималась равной 30 м или не менее трех отсеков. Затопления от попаданий снарядов считались не такими интенсивными и их легче можно было взять под контроль. Чтобы учесть различия в отношении весовых нагрузок к центру тяжести, для каждого корабля сделали отдельные расчеты боевой остойчивости. Тем не менее, "Scharnhorst" и "Gneisenau" для своего размера имели посредственные характеристики остойчивости.
Относительно небольшой диапазон остойчивости, по сравнению с кораблями других флотов, объяснялся вынужденной экономией веса брони и уменьшением силуэта, чтобы для противника цель была как можно меньшей площади. Отношение длины к осадке у этих линейных крейсеров равнялось 16:1. Корабли Первой мировой войны строились с еще более низким надводным бортом, но, имея в виду перенос боевых действий "Scharnhorst" и "Gneisenau" из Балтики и Северного моря в Атлантику, им следовало увеличить высоту борта. Кроме того, увеличение водоизмещения и размеров требовало значительного усиления жесткости корпуса. Эти корабли могли продолжать бой даже в случае повреждения силовых элементов набора. Немцы считали это очень важным, основываясь на опыте боев Первой мировой войны. Поэтому они увеличили толщину силовых элементов набора в верхней части корпуса. С учетом требований к защите это и объясняет, почему эти корабли имели довольно высокое расположение центра тяжести. Ограничения по ширине не позволили добиться соответствующего увеличения метацентрической высоты, что удалось сделать на последующих проектах.
Корабли типа "Scharnhorst" имели двойное дно глубиной 1,7 м. К моменту завершения проектных работ еще не существовало магнитных взрывателей для торпед и мин, выход в Атлантику и возвращение этих кораблей предполагалось осуществлять свободными от минных постановок фарватерами или под эскортом. Повреждение же "Bayern" в 1917 году показало, что только глубокое двойное дно может поглотить энергию подводного взрыва.
Жизненно важные части корабля внутри броневой цитадели хорошо разделялись друг от друга двумя продольными переборками, проходящими в 7,3 м от диаметральной плоскости. Эти переборки, которые немцы начали применять еще на преддредноутах, сохраняли водонепроницаемость машинно-котельных отделений и погребов, что значительно снижало риск получения большого крена при повреждениях в один и тот же борт. Одиночная переборка по диаметральной плоскости, хотя и уменьшала количество поступавшей в корпус воды, увеличивала кренящий момент в большей степени, чем две, разнесенные к бортам. Немцы были убеждены, что трехвальная энергетическая установка позволяет более эффективно делить корабль на отсеки, чем четырехвальная.
Характеристики остойчивости |
|||||||||||||||
|
Распределение нагрузки на "Scharnhorst" (1943 г.) |
Корпус: 7961 т (24,6%) Экипаж и продовольствие: 1837 т (5,7%) Механизмы: 2909 т (9,0%) Вооружение и боезапас: 5401 т (16,7%) Бронирование: 14 250 т (44,0%) Итого (легкая нагрузка): 32 358 т (100,0%) Топливо и резервная вода: 6345 т Полная нагрузка: 38 703 т |
| ВООРУЖЕНИЕ |
Главный калибр.
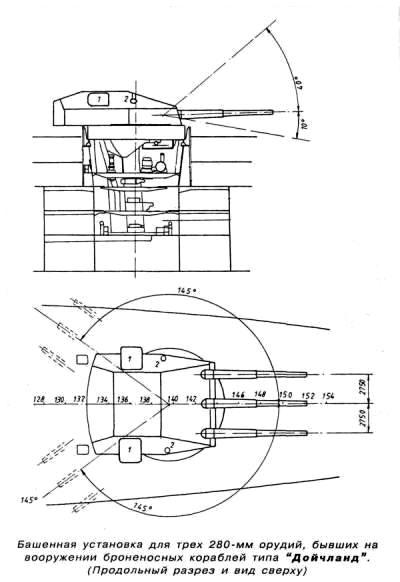 283-мм орудия модели SKC/34 с длиной ствола 54,47 калибра являлись улучшенной версией орудий SKC/28, разработанных для "карманных линкоров" типа "Deutschland", и размещались в таких же трехорудийных башнях модели Drh LC/28 (носовые "Anton" и "Bruno", кормовая "Caesar"). Последнее позволило значительно сократить время постройки кораблей, но из-за того, что башни на "Gneisenau" и "Scharnhorst" имели более мощное бронирование, чем на "Deutschland", их иногда обозначают Drh LC/34 или просто С/34. Как и большинство немецких установок, башни имели электроприводы горизонтальной наводки (ГН), но все остальные перемещения осуществлялись с помощью гидравлики. Хотя вес вращающейся части башни составлял 750 т (диаметр шарового погона 9 м при внутреннем диаметре барбета 10,2 м), скорость ГН оказалась вполне приличной — 7,2 град./с. Расстояние между осями орудий равнялось 2750 мм, длина отдачи — 1200 мм. Конструкция орудия была типично германской: внутренняя труба (или труба "А"); сменный лейнер, заменяемый со стороны затвора; состоящий из двух частей кожух, насаженный на трубу "А" примерно на 2/3 ее длины; казенная часть, ввернутая в горячем состоянии в заднюю часть кожуха. Затвор был горизонтальный скользящего типа и обеспечивал довольно высокую для столь тяжелых орудий скорострельность — выстрел каждые 17 секунд. Отличной скорострельности способствовала и высокая скорость вертикальной наводки (ВН), достигавшая 8 град./с. Угол максимального возвышения стволов (+40°) был одинаков для всех башен, но угол снижения несколько отличался: —8° для концевых "Anton" и "Caesar" и — 9° для возвышенной "Bruno".
283-мм орудия модели SKC/34 с длиной ствола 54,47 калибра являлись улучшенной версией орудий SKC/28, разработанных для "карманных линкоров" типа "Deutschland", и размещались в таких же трехорудийных башнях модели Drh LC/28 (носовые "Anton" и "Bruno", кормовая "Caesar"). Последнее позволило значительно сократить время постройки кораблей, но из-за того, что башни на "Gneisenau" и "Scharnhorst" имели более мощное бронирование, чем на "Deutschland", их иногда обозначают Drh LC/34 или просто С/34. Как и большинство немецких установок, башни имели электроприводы горизонтальной наводки (ГН), но все остальные перемещения осуществлялись с помощью гидравлики. Хотя вес вращающейся части башни составлял 750 т (диаметр шарового погона 9 м при внутреннем диаметре барбета 10,2 м), скорость ГН оказалась вполне приличной — 7,2 град./с. Расстояние между осями орудий равнялось 2750 мм, длина отдачи — 1200 мм. Конструкция орудия была типично германской: внутренняя труба (или труба "А"); сменный лейнер, заменяемый со стороны затвора; состоящий из двух частей кожух, насаженный на трубу "А" примерно на 2/3 ее длины; казенная часть, ввернутая в горячем состоянии в заднюю часть кожуха. Затвор был горизонтальный скользящего типа и обеспечивал довольно высокую для столь тяжелых орудий скорострельность — выстрел каждые 17 секунд. Отличной скорострельности способствовала и высокая скорость вертикальной наводки (ВН), достигавшая 8 град./с. Угол максимального возвышения стволов (+40°) был одинаков для всех башен, но угол снижения несколько отличался: —8° для концевых "Anton" и "Caesar" и — 9° для возвышенной "Bruno".

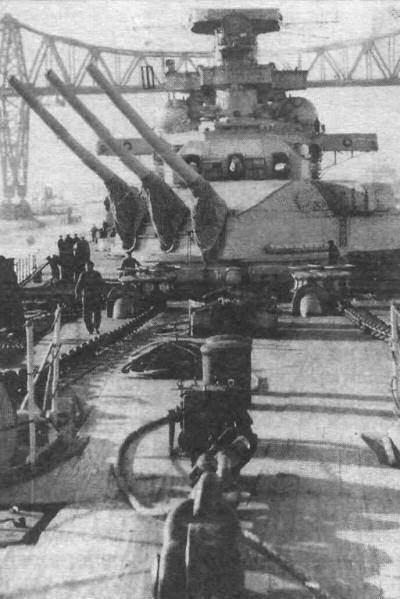

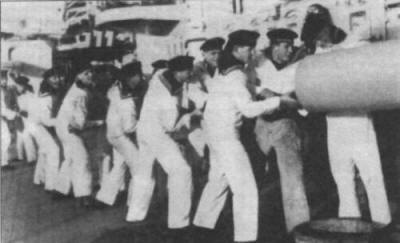


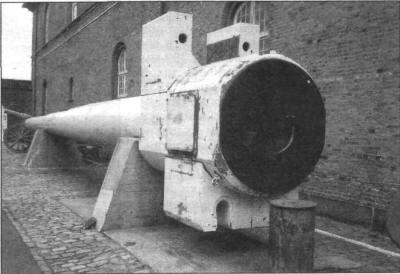
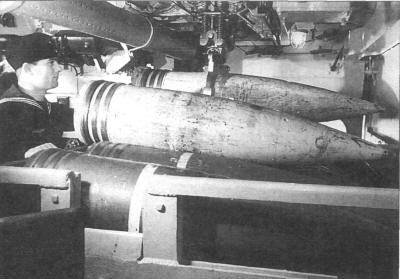
Немцы использовали три типа снарядов: 1) бронебойные, используемые в основном по мощно бронированным целям, имели небольшой заряд взрывчатки и донный взрыватель с замедлением типа 38; 2) полубронебойные (общего назначения) с тем же донным взрывателем, содержавшие несколько больше взрывчатой начинки и имевшие, соответственно, большее осколочное действие — они использовались по целям, защищенным не очень толстой броней, которую могли пробить; 3) фугасные с головным взрывателем, которые использовались по небронированным целям, таким как эсминцы, или когда требовалось мощное осколочное воздействие — по незащищенному персоналу, открытым зениткам, постам управления огнем, прожекторам и т.п.  Этих правил использования того или иного типа снарядов немцы придерживались в течение всей войны, хотя называли их все одинаково — Panzer-sprenggranaten. Последние два типа имели меньший вес и начальную скорость 900 м/с, но баллистические характеристики были примерно одинаковы с бронебойным, что упрощало управление стрельбой. Снаряды заряжались с помощью гидропривода при фиксированном угле возвышения ствола +2°, что также определялось желанием вести бой на ближних дистанциях (то есть на низких углах возвышения) и позволяло сократить время перевода орудий после заряжания в положение для стрельбы. Боевой заряд из метательного пороха типа RPC/38 весил 119 кг и состоял из двух частей. Главный заряд (76,5 кг) хранился в 47,5-кг латунной гильзе, а вспомогательный (или "передний") весом 42,5 кг — в шелковом картузе. С обоих концов главного заряда и в основании вспомогательного устанавливались запалы из 360 г крупнозернистого черного пороха.
Этих правил использования того или иного типа снарядов немцы придерживались в течение всей войны, хотя называли их все одинаково — Panzer-sprenggranaten. Последние два типа имели меньший вес и начальную скорость 900 м/с, но баллистические характеристики были примерно одинаковы с бронебойным, что упрощало управление стрельбой. Снаряды заряжались с помощью гидропривода при фиксированном угле возвышения ствола +2°, что также определялось желанием вести бой на ближних дистанциях (то есть на низких углах возвышения) и позволяло сократить время перевода орудий после заряжания в положение для стрельбы. Боевой заряд из метательного пороха типа RPC/38 весил 119 кг и состоял из двух частей. Главный заряд (76,5 кг) хранился в 47,5-кг латунной гильзе, а вспомогательный (или "передний") весом 42,5 кг — в шелковом картузе. С обоих концов главного заряда и в основании вспомогательного устанавливались запалы из 360 г крупнозернистого черного пороха.
Баллистические качества 283-мм немецких орудий делали их эффективными против новых французских линейных крейсеров типа "Dunkerque" (пояс 225 — 283 + 16-мм подложка, барбеты 310 — 340 мм + 15 + 15) на нормальных боевых дистанциях.
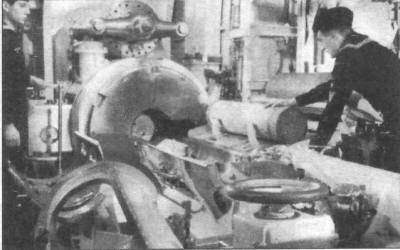 Из-за ограничений по водоизмещению для успешного боя с кораблем типа "Dunkerque" требовалось обеспечить экономичное, с точки зрения веса, расположение орудий главного калибра. Остановились на варианте с тремя трехорудийными башнями, поскольку такие башни для 4-го и 5-го броненосных кораблей типа "Deutschland" были уже спроектированы и для них заготовили материалы. А это многое значило в тех условиях, когда германская металлургия должна была обеспечивать сталью, кроме флота, еще армию и ВВС. Все предыдущие германские линкоры и линейные крейсера несли главные орудия в двухорудийных башнях для лучшего управления огнем и равного его распределения в нос и корму. При этом соображения по экономии веса и материалов были на втором месте.
Из-за ограничений по водоизмещению для успешного боя с кораблем типа "Dunkerque" требовалось обеспечить экономичное, с точки зрения веса, расположение орудий главного калибра. Остановились на варианте с тремя трехорудийными башнями, поскольку такие башни для 4-го и 5-го броненосных кораблей типа "Deutschland" были уже спроектированы и для них заготовили материалы. А это многое значило в тех условиях, когда германская металлургия должна была обеспечивать сталью, кроме флота, еще армию и ВВС. Все предыдущие германские линкоры и линейные крейсера несли главные орудия в двухорудийных башнях для лучшего управления огнем и равного его распределения в нос и корму. При этом соображения по экономии веса и материалов были на втором месте.


Во время проектных работ Гитлер отклонил предложение адмирала Редера увеличить калибр орудий до 380 мм. Но после подписания англо-германского морского соглашения и начала строительства новых французских линкоров типа "Richelieu" с 380-мм главным калибром фюрер дал добро на такую замену. В своей книге "Майн Кампф" он сильно критиковал недостаточное вооружение некоторых германских кораблей Первой мировой войны и теперь также почувствовал, что вооружение новых линейных крейсеров получается слабым. Поэтому для их последующего перевооружения заключили контракт на производство 380-мм 52-калиберных (точнее 51,66) орудий модели SKC/34 (1934 года). Замену вооружения планировали провести зимой 1940/41 года.
В 1935 — 1936 годах постройка кораблей уже находилась в такой стадии, что замена главного калибра сильно бы ее затянула — ведь на время проектирования и изготовления новых башен работы на верфях приостановились бы. Хотя трехорудийные 283-мм башни во многих отношениях походили на двухорудийные 380-мм, имелись и серьезные отличия в подаче боезапаса и заряжании. Пришлось бы переносить некоторые поперечные переборки, несколько переделывать погреба. Поэтому решили провести перевооружение, как только будут готовы специальные башни для 380-мм орудий. Важной проблемой при этом становилось увеличение осадки и дифферента на нос, которые и так уже вызывали беспокойство. В результате решили увеличить ширину корпуса и сместить наружу главный броневой пояс. Были уже готовы новые чертежи шпангоутов, где места крепления цементированных плит остались без изменений. Эти чертежи забросили с началом войны, но затем о них вспомнили, когда "Gneisenau" получил тяжелые повреждения при налете на Киль 26 февраля 1942 года.
Орудие |
Тип снаряда |
Длина в клб |
Общий вес, кг |
Колпачок, кг |
Вес ВВ, кг |
SKC/28 |
Бронебойный |
3,7 |
300 |
32 |
7,8 |
Полубронебойный |
4,2 |
300 |
— |
16,9 |
|
Фугасный |
4,2 |
300 |
— |
23,3 |
|
SKC/34 |
Бронебойный |
4,4 |
336 |
44,7 |
6,6 |
Полубронебойный |
4,4 |
316 |
— |
16,0 |
|
Фугасный |
4,5 |
315 |
— |
21,8 |
Пробитие брони 283-мм снарядом
Дистанция, м |
0 |
7900 |
15100 |
18288 |
27432 |
Угол возвышения ствола, град. |
0 |
3,3 |
7,4 |
9,7 |
18,7 |
Угол падения снаряда на цель, град |
0 |
4,4 |
10,3 |
15,2 |
30,2 |
Скорость снаряда при ударе, м/с |
890 |
693 |
552 |
496 |
420 |
Пробитие бортовой брони, мм |
604 |
460 |
335 |
291 |
205 |
Пробитие палубной брони, мм |
— |
19 |
41 |
48 |
76 |
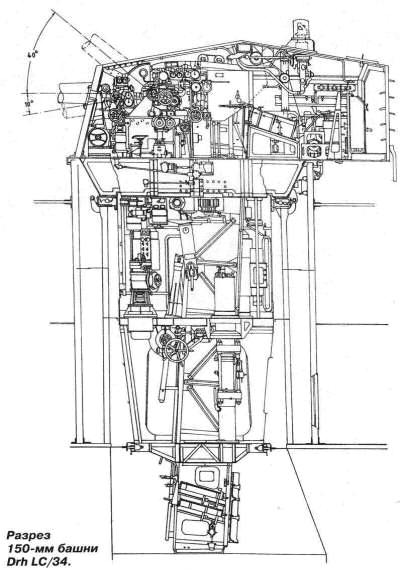 Противоминная батарея.
Противоминная батарея.
Выбор вторичной батареи базировался на двух факторах: имелись в наличии восемь 150-мм одноорудийных установок, а концерн Рейнметалл-Борзиг уже разработал проект новой двухорудийной 150-мм башни. Поэтому оба корабля получили необычную комбинацию из четырех двухорудийных башен и четырех одноорудийных установок. Намерение расположить всю среднюю артиллерию в двухорудийных башнях осталось нереализованным из-за весовых соображений. Калибр 150 мм был стандартным для крупных германских кораблей с начала века. Одноорудийные установки типа MPL35 (угол возвышения +35°, угол снижения —10°), стоявшие по бокам от трубы близко друг к другу, имели 25-мм противоосколочные щиты и общую подачу боезапаса для каждой пары одного борта. Более надежную защиту обеспечить не удавалось из-за недостатка веса и снижения скорости горизонтальной наводки. Польза от этих установок была сомнительной — в последнем бою "Scharnhorst" они вышли из строя в первую очередь. При одновременном их использовании с двухорудийными установками возникали проблемы с управлением огнем — в основном из-за различной их скорострельности (благодаря лучшей подаче и силовому обслуживанию башенные стреляли чуть быстрее). Такие же трудности возникали при стрельбе осветительными снарядами ночью.
Четыре двухорудийные башни модели LC/34 (или С/34, угол возвышения +40°, снижения -10°), расположенные по краям от одноорудийных установок, давали последним дополнительное прикрытие с острых курсовых углов. Башни имели силовые приводы наводки, их прислуга защищалась более мощной броней, да и подача боезапаса была лучше. С учетом брони и оборудования вес вращающейся структуры составил около 126т.
 Главной задачей 150-мм орудий модели С/28 было отражение атак крейсеров и эсминцев, для чего скорострельность в 6 — 8 выстрелов в минуту считалась вполне достаточной. Начальник Артиллерийского Бюро германского флота контр-адмирал Карл Винцель относительно выбора 150-мм орудий после войны писал: "Мы имели противника, обладавшего большим преимуществом в эсминцах, и потому нуждались в артиллерии среднего калибра, способной быстро и эффективно действовать по большим эсминцам, а также отражать массированные атаки торпедных кораблей меньшего размера. Поэтому на основе масштабных полигонных испытаний и обстрелов кораблей-целей мы пришли к выводу, что для очень быстрых действий против патрульных кораблей, а также против транспортных конвоев необходимо 150-мм орудие. Однако из-за большого веса и недостаточной скорострельности оно не годилось для действий против авиации. Американские 127-мм и британские 133-мм универсальные орудия не удовлетворяли нашим требованиям быстрого и решительного отпора эсминцам".
Главной задачей 150-мм орудий модели С/28 было отражение атак крейсеров и эсминцев, для чего скорострельность в 6 — 8 выстрелов в минуту считалась вполне достаточной. Начальник Артиллерийского Бюро германского флота контр-адмирал Карл Винцель относительно выбора 150-мм орудий после войны писал: "Мы имели противника, обладавшего большим преимуществом в эсминцах, и потому нуждались в артиллерии среднего калибра, способной быстро и эффективно действовать по большим эсминцам, а также отражать массированные атаки торпедных кораблей меньшего размера. Поэтому на основе масштабных полигонных испытаний и обстрелов кораблей-целей мы пришли к выводу, что для очень быстрых действий против патрульных кораблей, а также против транспортных конвоев необходимо 150-мм орудие. Однако из-за большого веса и недостаточной скорострельности оно не годилось для действий против авиации. Американские 127-мм и британские 133-мм универсальные орудия не удовлетворяли нашим требованиям быстрого и решительного отпора эсминцам".
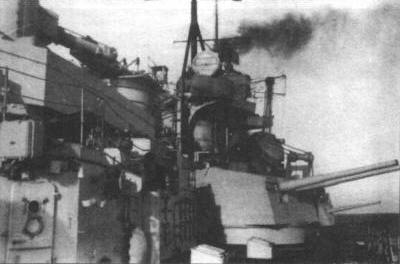 Рассматривался и вопрос об универсальном орудии, но в 1935 году немцы не считали возможным создать действительно скорострельное, подвижное и мощное орудие, годное для действий по надводным и воздушным целям. Немецкие эксперты морской артиллерии полагали, что вторичная батарея линкора должна иметь калибр не менее 150 мм, а такое орудие нельзя было сделать хорошим универсальным из-за отсутствия временных взрывателей и устройств для их быстрой установки. Скорости наводки башен также подбирались для надводного боя.
Рассматривался и вопрос об универсальном орудии, но в 1935 году немцы не считали возможным создать действительно скорострельное, подвижное и мощное орудие, годное для действий по надводным и воздушным целям. Немецкие эксперты морской артиллерии полагали, что вторичная батарея линкора должна иметь калибр не менее 150 мм, а такое орудие нельзя было сделать хорошим универсальным из-за отсутствия временных взрывателей и устройств для их быстрой установки. Скорости наводки башен также подбирались для надводного боя.
Взрыватели вручную устанавливались для каждой дистанции на башенной платформе. Боезапас состоял из 1600 зарядов в гильзах длиной 865 мм и весом 23,5 кг (порох RPC/32), 800 фугасных 45,6-кг снарядов с головным взрывателем и длиной 655 или 679 мм (заряд 3,058 или 3,892 кг), 800 45,3-кг полубронебойных снарядов с донным взрывателем (длина и вес заряда те же) и 240 осветительных (к ним 240 зарядов). Без учета осветительных — по 150 выстрелов на орудие.
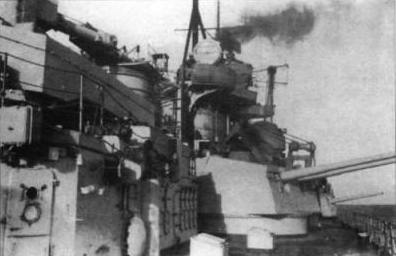



Зенитная батарея дальнего боя.
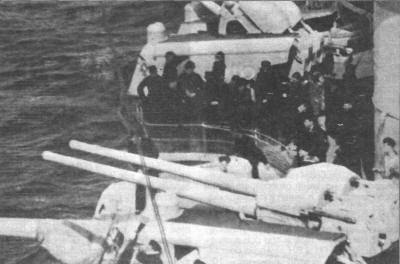
Установка LC/33 весила 27 350 кг — в основном из-за двух факторов. Орудия имели большой угол возвышения и механическое устройство заряжания с транспортными роликами. Большой угол снижения (-8°), позволявший вести огонь по надводным целям на самых близких дистанциях, требовал размещения орудийных цапф как можно ближе к затвору. Для уравновешивания и уменьшения силы отдачи стволы пришлось сделать тяжелыми — по 9,3 т на пару. Защита состояла из 15-мм плит спереди, 10-мм с боков и 8-мм сверху и сзади.
 Орудийная люлька установки имела три оси вращения. Горизонтальная и вертикальная наводка осуществлялась дистанционно со скоростью соответственно 8 и 10 град./с (при ручной наводке всего 1,5 град./с и 1,33 град./с), а непрерывная подстройка уровня производилась следящим гидроприводом концерна Питтлер-Тома. Третья ось вращения появилась в результате исследования процесса стрельбы на больших углах возвышения с подвижной платформы. При наводке орудий, не зависимой от движений корабля, оказалось возможным уменьшить нагрузку на привод управления и повысить эффективность заряжания. Третья ось вращения позволяла также вести по самолетам непрерывный огонь, менее зависимый от перемещений корпуса корабля в пространстве. Боезапас состоял из 6020 унитарных патронов общей длиной 1163 мм: :наряд весил 15,1 кг и имел 5,2-кг разрывной заряд. Обычно имелось еще 420 26,5-кг трассирующих снарядов с 6-кг боеголовкой.
Орудийная люлька установки имела три оси вращения. Горизонтальная и вертикальная наводка осуществлялась дистанционно со скоростью соответственно 8 и 10 град./с (при ручной наводке всего 1,5 град./с и 1,33 град./с), а непрерывная подстройка уровня производилась следящим гидроприводом концерна Питтлер-Тома. Третья ось вращения появилась в результате исследования процесса стрельбы на больших углах возвышения с подвижной платформы. При наводке орудий, не зависимой от движений корабля, оказалось возможным уменьшить нагрузку на привод управления и повысить эффективность заряжания. Третья ось вращения позволяла также вести по самолетам непрерывный огонь, менее зависимый от перемещений корпуса корабля в пространстве. Боезапас состоял из 6020 унитарных патронов общей длиной 1163 мм: :наряд весил 15,1 кг и имел 5,2-кг разрывной заряд. Обычно имелось еще 420 26,5-кг трассирующих снарядов с 6-кг боеголовкой.
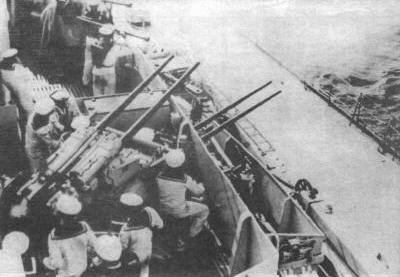 Разделение среднего калибра на противоминный и зенитный оказалось вполне эффективным для европейского театра, поскольку англичане на первых этапах войны использовали при атаках на немецкие корабли сравнительно небольшие группы тихоходных самолетов, по боевым качествам заметно уступавших, например, японским и американским. К тому же, для немцев не существовало проблемы, ставшей основной в войне на Тихом океане — отражение атак пикирующих бомбардировщиков. У противника таких самолетов просто не было, да и мастерство британских пилотов морской авиации не шло в сравнение с немцами, японцами и американцами.
Разделение среднего калибра на противоминный и зенитный оказалось вполне эффективным для европейского театра, поскольку англичане на первых этапах войны использовали при атаках на немецкие корабли сравнительно небольшие группы тихоходных самолетов, по боевым качествам заметно уступавших, например, японским и американским. К тому же, для немцев не существовало проблемы, ставшей основной в войне на Тихом океане — отражение атак пикирующих бомбардировщиков. У противника таких самолетов просто не было, да и мастерство британских пилотов морской авиации не шло в сравнение с немцами, японцами и американцами.
Зенитные автоматы.
 Шестнадцать 37-мм автоматов модели SKC/30 с длиной ствола в 83 калибра, стоявшие в спасенных установках модели LC/30 (два по бокам башни "Bruno", два на носовой надстройке и четыре вокруг кормового поста УАО), не были полностью автоматизированы, но, имея скорострельность до 80 выстрелов в минуту (теоретически до 160), являлись основным средством ближней ПВО на всех крупных германских кораблях. Как и 105-мм установки, 37-мм спарки имели три оси вращения. Скорости ГН и ВН вручную составляли 4 и 3 град./с, угол снижения —10°. Боезапас обычно насчитывал 32 000 унитарных патронов на все установки (длина 543 мм, вес 2,1 кг, масса разрывного заряда 0,365 кг).
Шестнадцать 37-мм автоматов модели SKC/30 с длиной ствола в 83 калибра, стоявшие в спасенных установках модели LC/30 (два по бокам башни "Bruno", два на носовой надстройке и четыре вокруг кормового поста УАО), не были полностью автоматизированы, но, имея скорострельность до 80 выстрелов в минуту (теоретически до 160), являлись основным средством ближней ПВО на всех крупных германских кораблях. Как и 105-мм установки, 37-мм спарки имели три оси вращения. Скорости ГН и ВН вручную составляли 4 и 3 град./с, угол снижения —10°. Боезапас обычно насчитывал 32 000 унитарных патронов на все установки (длина 543 мм, вес 2,1 кг, масса разрывного заряда 0,365 кг).
По проекту корабли несли по 8 20-мм автоматов модели С/30 на одиночных установках С/30 с ручным обслуживанием (вес 420 кг): два на спардеке по бокам башни "Bruno", два на верхней платформе носовой надстройки, два на платформе трубы и два на шканцах. С началом войны добавили еще два ствола на верхней палубе в корме.  Эти автоматы имели практическую скорострельность 120 выстрелов в минуту (теоретическая 280), свободно качающийся ствол (в вертикальной плоскости от - 11° до + 85°) и стреляли обоймами по 20 патронов (вес унитарного патрона 320 г, длина 203 мм, масса разрывного заряда 39,5 г). В ходе войны число 20-мм автоматов на этих кораблях непрерывно увеличивалось, причем большая их часть появилась на борту во время пребывания в Бресте. "Scharnhorst" получил 18 дополнительных стволов (4x4, 2x1), "Gneisenau"—14 (3x4, 2x1). Автоматы новой модели С/38 в одноствольных (модель С/30, вес 416 кг) или четырехствольных установках ("Vierlinslafette" С/38, вес 2150 кг) размещали там, где было свободное пространство — на крышах башен, специальных платформах, на открытой палубе или на местах части прожекторов. Максимальное количество — 38 (7x4 и 10x1) — нес "Scharnhorst" в 1943 году. При модернизации "Gneisenau" число 20-мм автоматов модели С/38 планировалось увеличить до 6 четырех- и 8 одноствольных установок. Ствол нового автомата оказался чуть легче, а практическая скорострельность повысилась до 220 выстрелов в минуту (теоретическая даже до 480). Боезапас, составлявший в начале войны 20 000 патронов, в дальнейшем рос пропорционально увеличению числа автоматов.
Эти автоматы имели практическую скорострельность 120 выстрелов в минуту (теоретическая 280), свободно качающийся ствол (в вертикальной плоскости от - 11° до + 85°) и стреляли обоймами по 20 патронов (вес унитарного патрона 320 г, длина 203 мм, масса разрывного заряда 39,5 г). В ходе войны число 20-мм автоматов на этих кораблях непрерывно увеличивалось, причем большая их часть появилась на борту во время пребывания в Бресте. "Scharnhorst" получил 18 дополнительных стволов (4x4, 2x1), "Gneisenau"—14 (3x4, 2x1). Автоматы новой модели С/38 в одноствольных (модель С/30, вес 416 кг) или четырехствольных установках ("Vierlinslafette" С/38, вес 2150 кг) размещали там, где было свободное пространство — на крышах башен, специальных платформах, на открытой палубе или на местах части прожекторов. Максимальное количество — 38 (7x4 и 10x1) — нес "Scharnhorst" в 1943 году. При модернизации "Gneisenau" число 20-мм автоматов модели С/38 планировалось увеличить до 6 четырех- и 8 одноствольных установок. Ствол нового автомата оказался чуть легче, а практическая скорострельность повысилась до 220 выстрелов в минуту (теоретическая даже до 480). Боезапас, составлявший в начале войны 20 000 патронов, в дальнейшем рос пропорционально увеличению числа автоматов.
Орудие (калибр/длина ствола в клб) |
283/54,5 |
150/55 |
105/65 |
37/83 |
20/65 |
Модель |
SKC/34 |
SKC/28 |
SKC/33 |
SKC/30 |
MGC/30 |
Вес ствола с затвором, кг |
53.250 |
9.080 |
4.560 |
243 |
64 и 57,5 |
Вес снаряда, кг |
330 |
45,3 |
15,1 |
0,745 |
0,132 |
Начальная скорость снаряда, м/с |
890 |
875 |
900 |
1000 |
835-900 |
Живучесть ствола, выстрелов |
300 |
1.100 |
2.950 |
7.500 |
22.000 |
Дальность стрельбы, км |
40,93 |
22/23* |
17,7/12,5** |
8,5/6,8** |
4,9/3,7** |
| Угол возвышения, градусы | 40 | 35/40* | 80 | 85 | 90 |
| * одиночная/спаренная установки; | |||||
| ** горизонтальная/вертикальная | |||||
|
|||||
Торпедное вооружение.
 Первоначальным проектом торпедное вооружение не предусматривалось, но после возвращения из крейсерства по Атлантике в конце марта 1941 года командовавший этой операцией адмирал Лютьенс предложил установить на обоих линейных крейсерах палубные торпедные аппараты. По его мнению, потопление транспортов артиллерийским огнем требовало большого расхода времени и снарядов, а торпедами, особенно на ближних дистанциях, это можно было сделать быстрее. Верховное командование флота (ОКМ) согласилось и распорядилось во время нахождения кораблей в Бресте поставить на "Scharnhorst" и "Gneisenau" по два трехтрубных 533-мм аппарата, снятых с легких крейсеров "Leipzig" (на "Gneisenau") и "Nürnberg" (на "Scharnhorst").
Первоначальным проектом торпедное вооружение не предусматривалось, но после возвращения из крейсерства по Атлантике в конце марта 1941 года командовавший этой операцией адмирал Лютьенс предложил установить на обоих линейных крейсерах палубные торпедные аппараты. По его мнению, потопление транспортов артиллерийским огнем требовало большого расхода времени и снарядов, а торпедами, особенно на ближних дистанциях, это можно было сделать быстрее. Верховное командование флота (ОКМ) согласилось и распорядилось во время нахождения кораблей в Бресте поставить на "Scharnhorst" и "Gneisenau" по два трехтрубных 533-мм аппарата, снятых с легких крейсеров "Leipzig" (на "Gneisenau") и "Nürnberg" (на "Scharnhorst").
Никакой системы управления торпедной стрельбой, кроме прицелов на самих аппаратах, не предусматривалось, а обслуживание возлагалось на прислугу зенитных автоматов. Торпеды, которых корабли принимали по 14 штук, хранились в расположенных рядом с аппаратами ящиках. Аппараты не имели никакой защиты и могли легко быть выведены из строя снарядами даже мелкого калибра, осколками или взрывной волной. В последнем бою "Scharnhorst" один из его торпедных аппаратов вывел из строя близкий разрыв снаряда.
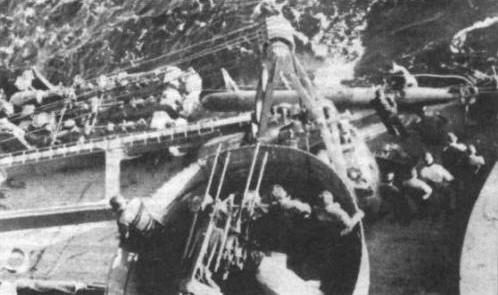

 Авиационное вооружение.
Авиационное вооружение.
При отсутствии в германском флоте авианосцев крупные корабли вынужденно несли гидросамолеты для разведки, корректировки огня и даже некоторых наступательных действий против кораблей противника (авиабомбы хранились в специальном погребе). Устройство ангаров на этих кораблях отличалось друг от друга.
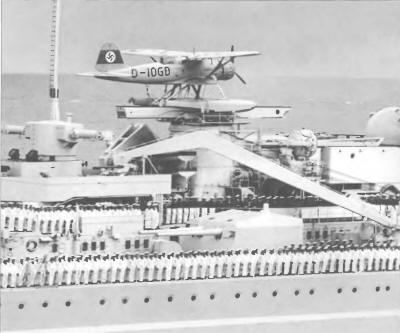

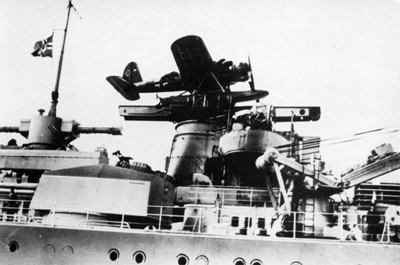
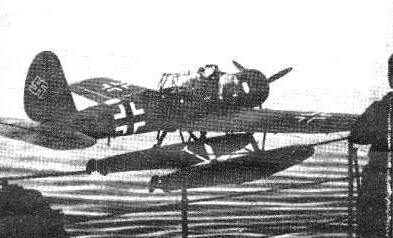

Когда в 1938 году "Gneisenau" вошел в строй, он имел небольшой ангар. На "Scharnhorst" ангар большего размера в ходе капитального ремонта в 1939 году удлинили еще на 8 метров, чтобы вместить три гидросамолета типа "Arado-196". Крыша ангара была сдвижной — две передних скользящих двери заходили на заднюю. Для извлечения самолетов из ангара и постановки на катапульту в его кормовой части использовались два крана.
 Еще один самолет мог храниться на крыше башни "Caesar". Сначала на этой башне имелась катапульта, но во время зимнего ремонта 1939 года с обоих кораблей ее сняли.
Еще один самолет мог храниться на крыше башни "Caesar". Сначала на этой башне имелась катапульта, но во время зимнего ремонта 1939 года с обоих кораблей ее сняли.
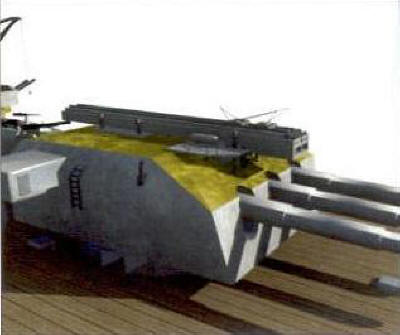
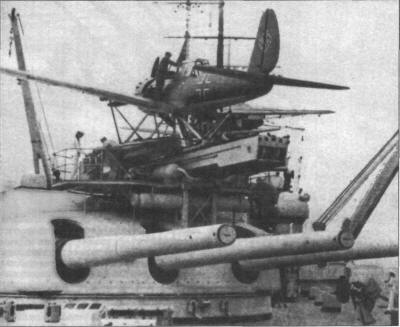
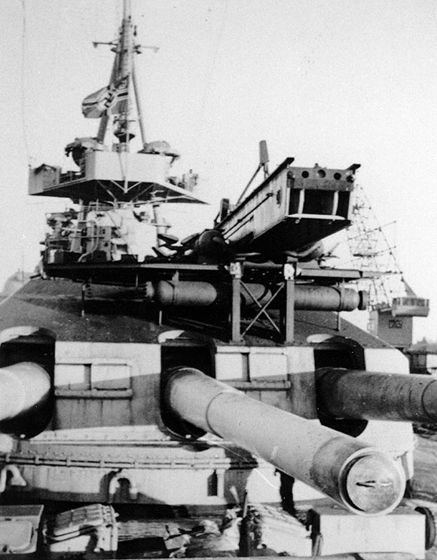
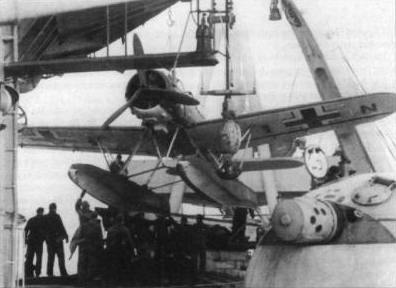 Ангар "Gneisenau" полностью переделали в Бресте в 1941 году. Катапульту установили внутри расширенного и удлиненного ангара, боковые стены которого получили огромные двери. Один самолет хранился на катапульте, а еще два — под ней.
Ангар "Gneisenau" полностью переделали в Бресте в 1941 году. Катапульту установили внутри расширенного и удлиненного ангара, боковые стены которого получили огромные двери. Один самолет хранился на катапульте, а еще два — под ней.
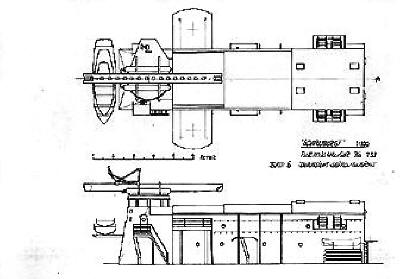
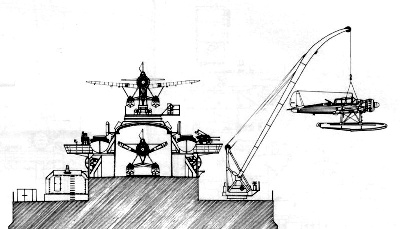
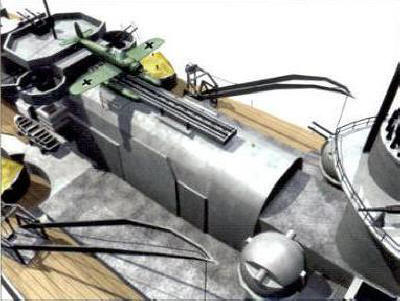
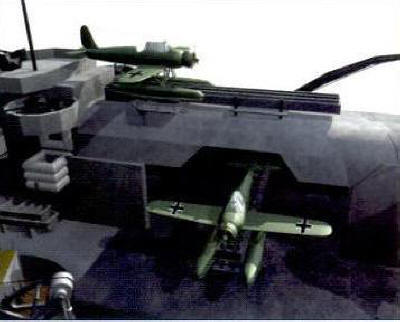

Оба корабля довольно интенсивно использовали свои бортовые самолеты в ходе всей карьеры, но особенно во время действий в Атлантике в начале 1941 года. Однако наличие на борту самолетов подвергало корабли дополнительному риску из-за необходимости хранить легковоспламеняющееся авиатопливо. В бою у мыса Нордкап "Scharnhorst" получил в ангар несколько попаданий, вызвавших сильные пожары.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система управления стрельбой.


Башенки директоров были стабилизированы в двух плоскостях с помощью гироскопов (центрального относительно курса корабля и локальных по горизонту). Телескопы стабилизировались при помощи следящих систем с выходными электромоторами, возникающие рассогласования компенсировались вертикальными и горизонтальными наводчиками. Геометрические компьютеры в качестве входных величин получали пеленг на цель, курс своего корабля (оба в горизонтальной плоскости), его скорость и дальность до цели. Выходными величинами являлись скорость цели, ее наклон относительно оси прицела, курс и дальность как среднее от показаний главных и башенных дальномеров или по данным радара.
Баллистический компьютер получал значение скоростей изменения дистанции и пеленга и, учитывая погоду, начальную скорость снаряда, его вращение, влажность воздуха и ветер, выдавал полные углы ВН и ГН (ПУВН и ПУГН). Каждый блок вычислительных приборов имел два сферических угловых конвертора, позволявших учитывать бортовую и килевую качку. Система управления артогнем ГК позволяла использовать от одной до всех трех башен по одной цели или обстреливать одновременно две. Силовое дистанционное управление имели только приводы ВН, а моторы ГН управлялись вручную по принципу "слежение за указателем". Тот же принцип использовался и в приводах ВН, если дистанционное управление отключалось. Если перемещения корабля в пространстве оказывались слишком резкими для "отслеживания", использовалось устройство компенсации временного интервала. В этом случае ВН и ГН производились с произвольной скоростью, но при проходе нужного значения ПУВН или ПУГН цепь стрельбы автоматически включалась. Это устройство немцы применяли для ВН и ГН в 283-мм и 203-мм башнях; в 380-мм — только для ГН. Выстрел из среднего орудия при залповой стрельбе производился с опережением в 10 — 20 миллисекунд, чтобы снаряды в полете не мешали друг другу и рассеивание было как можно меньше. Задержка стрельбы после включения контактов цепи была довольно большой: стандартный немецкий ударник с электромагнитным управлением (соленоидным) срабатывал примерно через 150 миллисекунд. Огнем 105-мм зениток управляла система типа 1933 года: четыре директора с 4-метровыми дальномерами располагались в башенках сферической формы (SL-6 тип 33) по бокам носовой надстройки и трубы. Трехосная стабилизация обеспечивалась гироскопами без сервомоторов. Директоры имели хорошую защиту, но весили свыше 40 т (только роторы гироскопов имели вес 260 кг). 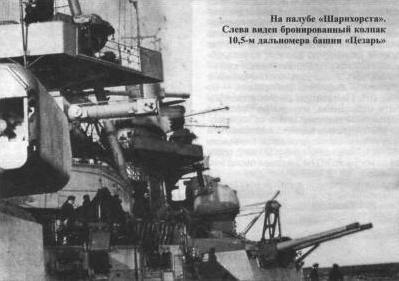 Зенитные автоматы "обслуживались" переносными дальномерами с базой 1,25 м. Центральной системы управления огнем у них не было — немцы считали более важным одновременно обстреливать как можно больше целей.
Зенитные автоматы "обслуживались" переносными дальномерами с базой 1,25 м. Центральной системы управления огнем у них не было — немцы считали более важным одновременно обстреливать как можно больше целей.
Для освещения целей в ночное время корабли имели по пять 1,5-метровых прожекторов: один на мостике носовой надстройки, два на площадке вокруг дымовой трубы и два на платформе грот-мачты. Посты управления прожекторами находились в носовой надстройке и в корме.
Радары.
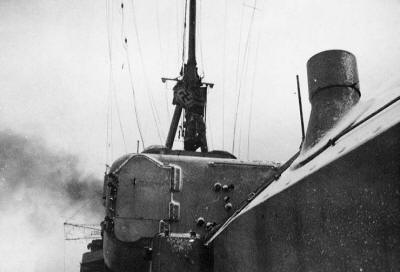 Германский флот оказался одним из первых, кто правильно оценил возможности радиолокационного определения дистанции до цели. Работы над корабельным радаром немцы начали летом 1933 года, а уже в октябре 1934-го опытный экземпляр с дальностью действия всего 12 км установили на яхте "Grille". Успешные испытания в 1935 году разработанной доктором Вильгельмом Рунге радиолокационной аппаратуры, работавшей на 50-см волнах, позволили германскому флоту в феврале 1936 года заключить контракт с фирмой СЕМА, которая вскоре разработала 80-см радар, способный обнаружить движущийся корабль с дистанции 35 км, а летящий самолет — с 48 км. Фирма разработала этот радар под нажимом флота, хотя ее специалисты отдавали предпочтение установкам, работавшим на меньшей длине волны. Радар испытали в Свинемюнде, рассматривая его использование не только на флоте, но и в армии. Морская версия получила кодовое название "Зеетакт" (Seetakt), а сухопутная — "Freya". Первым из боевых кораблей радар "Зеетакт" получил крейсер "Königsberg", а броненосцы "Admiral Graf Spee", "Admiral Scheer" и "Deutschland" (позже "Lützow") получили более совершенные модели. По другим данным, первый в мире корабельный радар появился на "Admiral Graf Spee" в 1936 году.
Германский флот оказался одним из первых, кто правильно оценил возможности радиолокационного определения дистанции до цели. Работы над корабельным радаром немцы начали летом 1933 года, а уже в октябре 1934-го опытный экземпляр с дальностью действия всего 12 км установили на яхте "Grille". Успешные испытания в 1935 году разработанной доктором Вильгельмом Рунге радиолокационной аппаратуры, работавшей на 50-см волнах, позволили германскому флоту в феврале 1936 года заключить контракт с фирмой СЕМА, которая вскоре разработала 80-см радар, способный обнаружить движущийся корабль с дистанции 35 км, а летящий самолет — с 48 км. Фирма разработала этот радар под нажимом флота, хотя ее специалисты отдавали предпочтение установкам, работавшим на меньшей длине волны. Радар испытали в Свинемюнде, рассматривая его использование не только на флоте, но и в армии. Морская версия получила кодовое название "Зеетакт" (Seetakt), а сухопутная — "Freya". Первым из боевых кораблей радар "Зеетакт" получил крейсер "Königsberg", а броненосцы "Admiral Graf Spee", "Admiral Scheer" и "Deutschland" (позже "Lützow") получили более совершенные модели. По другим данным, первый в мире корабельный радар появился на "Admiral Graf Spee" в 1936 году.
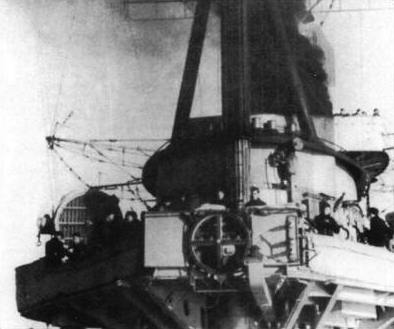 С началом войны "Scharnhorst" и "Gneisenau" получили по две радарные установки "Зеетакт" FuMO 22 — одну на носовом директоре (КДП), расположенном на верху носовой надстройки, другую — на кормовом. Антенны "матрасного" типа размером 6x2 м (нижняя часть для излучения) вращались вместе с башенками директоров. Радары работали на частоте 368 МГц (длина волны 81,5 см, длительность импульса 5 мс), имели выходную мощность 8 кВт. Дальность обнаружения крупного корабля—25 км, точность по пеленгу 5°. Носовая установка имела круговой сектор действия, но с кормовых углов ей мешали надстройки. Поэтому и был установлен кормовой радар, по проекту подобный авиационному радару "Freya". Модель FuMO 22, будучи чувствительной к влажности и сотрясениям от стрельбы, не полностью удовлетворяла требованиям моряков. Поэтому в ходе войны появились более совершенные образцы, мощность которых превышала 15 кВт, ошибка дистанции сократилась до 50 м и менее. "Gneisenau" (январь 1941 года) и "Scharnhorst" (в начале 1942-го) получили радары модели FuMO 27, которые допускали ошибку по пеленгу всего 0,25 — 0,3°, ошибку дистанции 70 м. Размер антенны удалось уменьшить до 4x2 м. В 1943 году "Scharnhorst" дополнительно получил радары следующих типов: FuMB 1, FuMO 3, FuMO 4, FuMO 7.
С началом войны "Scharnhorst" и "Gneisenau" получили по две радарные установки "Зеетакт" FuMO 22 — одну на носовом директоре (КДП), расположенном на верху носовой надстройки, другую — на кормовом. Антенны "матрасного" типа размером 6x2 м (нижняя часть для излучения) вращались вместе с башенками директоров. Радары работали на частоте 368 МГц (длина волны 81,5 см, длительность импульса 5 мс), имели выходную мощность 8 кВт. Дальность обнаружения крупного корабля—25 км, точность по пеленгу 5°. Носовая установка имела круговой сектор действия, но с кормовых углов ей мешали надстройки. Поэтому и был установлен кормовой радар, по проекту подобный авиационному радару "Freya". Модель FuMO 22, будучи чувствительной к влажности и сотрясениям от стрельбы, не полностью удовлетворяла требованиям моряков. Поэтому в ходе войны появились более совершенные образцы, мощность которых превышала 15 кВт, ошибка дистанции сократилась до 50 м и менее. "Gneisenau" (январь 1941 года) и "Scharnhorst" (в начале 1942-го) получили радары модели FuMO 27, которые допускали ошибку по пеленгу всего 0,25 — 0,3°, ошибку дистанции 70 м. Размер антенны удалось уменьшить до 4x2 м. В 1943 году "Scharnhorst" дополнительно получил радары следующих типов: FuMB 1, FuMO 3, FuMO 4, FuMO 7.
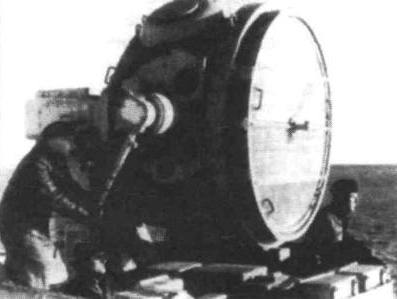 Немцы, несмотря на протесты фирмы GEMA, приостановили работы над радарами с малосантиметровой длиной волны. Ответственность за такое решение ложилась на многих чиновников, но главную роль здесь сыграл Герман Геринг. Он не смог правильно направить усилия электронной промышленности, хотя, если бы ему показали, как работает радар с длиной волны в несколько сантиметров, то он, возможно, и предпринял бы шаги по завершению работ над ним. Ошибочное решение о прекращении работ по сантиметровому радару для флота принадлежит адмиралу Витцелю, который имел сильное влияние на офицера связи между ОКМ и фирмой GEMA. В результате Германия, бывшая в начале войны в технических аспектах радиолокации впереди всех, уже к середине 1941 года оказалась позади Британии.
Немцы, несмотря на протесты фирмы GEMA, приостановили работы над радарами с малосантиметровой длиной волны. Ответственность за такое решение ложилась на многих чиновников, но главную роль здесь сыграл Герман Геринг. Он не смог правильно направить усилия электронной промышленности, хотя, если бы ему показали, как работает радар с длиной волны в несколько сантиметров, то он, возможно, и предпринял бы шаги по завершению работ над ним. Ошибочное решение о прекращении работ по сантиметровому радару для флота принадлежит адмиралу Витцелю, который имел сильное влияние на офицера связи между ОКМ и фирмой GEMA. В результате Германия, бывшая в начале войны в технических аспектах радиолокации впереди всех, уже к середине 1941 года оказалась позади Британии.
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА |
 Корабли типа "Scharnhorst" проектировались в эпоху чрезмерного увлечения скоростью и поэтому имели большую мощность механизмов. Как и их предшественники — броненосные корабли типа "Deutschland" — они соответствовали принципу "быть быстрее, чем более сильный противник, и сильнее, чем более быстрый".
Корабли типа "Scharnhorst" проектировались в эпоху чрезмерного увлечения скоростью и поэтому имели большую мощность механизмов. Как и их предшественники — броненосные корабли типа "Deutschland" — они соответствовали принципу "быть быстрее, чем более сильный противник, и сильнее, чем более быстрый".
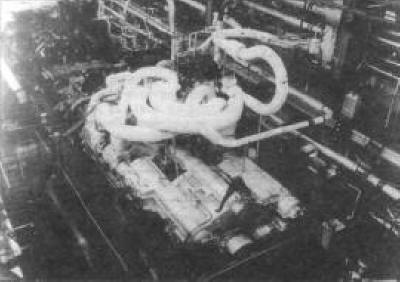 Германские инженеры потратили много сил и времени на создание, действительно, удачных дизельных установок для своих броненосных кораблей. Дизели обеспечивали малый расход топлива и огромную дальность плавания, позволяя подолгу оставаться в море без дозаправок. Но это преимущество нельзя было реализовать на корабле со скоростью 30 узлов и ограниченным местом под энергетическую установку. Разработка дизелей для такой высокой скорости надолго бы затянула постройку кораблей. Единственной альтернативой была паротурбинная установка, поскольку Кораблестроительный отдел возражал против применения комбинации дизелей и турбозубчатых агрегатов. В то время турбинные установки с высоким давлением и температурой пара успешно эксплуатировались на новых лайнерах компании Восточно-Азиатский Экспресс "Potsdam", "Scharnhorst" и "Gneisenau". Уже несколько лет успешно работали береговые электростанции, где генераторы использовали пар с высокими параметрами. Все это, в принципе, не обещало трудностей при использовании аналогичных установок на боевых кораблях. Однако инженер-механики флота, не взирая на все достоинства таких установок, показывали на опасность их обслуживания. Расставить все точки над "i" могли только всесторонние испытания, но времени на их проведение не было. Адмирал Редер лично вмешался в этот вопрос и решил рискнуть, приказав поставить на новые корабли установки с высокими параметрами пара.
Германские инженеры потратили много сил и времени на создание, действительно, удачных дизельных установок для своих броненосных кораблей. Дизели обеспечивали малый расход топлива и огромную дальность плавания, позволяя подолгу оставаться в море без дозаправок. Но это преимущество нельзя было реализовать на корабле со скоростью 30 узлов и ограниченным местом под энергетическую установку. Разработка дизелей для такой высокой скорости надолго бы затянула постройку кораблей. Единственной альтернативой была паротурбинная установка, поскольку Кораблестроительный отдел возражал против применения комбинации дизелей и турбозубчатых агрегатов. В то время турбинные установки с высоким давлением и температурой пара успешно эксплуатировались на новых лайнерах компании Восточно-Азиатский Экспресс "Potsdam", "Scharnhorst" и "Gneisenau". Уже несколько лет успешно работали береговые электростанции, где генераторы использовали пар с высокими параметрами. Все это, в принципе, не обещало трудностей при использовании аналогичных установок на боевых кораблях. Однако инженер-механики флота, не взирая на все достоинства таких установок, показывали на опасность их обслуживания. Расставить все точки над "i" могли только всесторонние испытания, но времени на их проведение не было. Адмирал Редер лично вмешался в этот вопрос и решил рискнуть, приказав поставить на новые корабли установки с высокими параметрами пара.
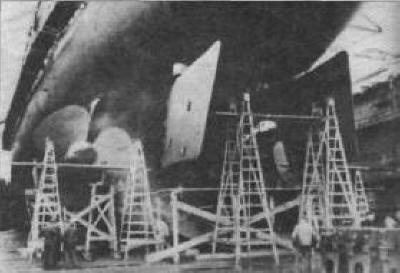 Котлы и турбины.
Котлы и турбины.
Параметры пара на этих кораблях — давление 58 атмосфер и температура 450°С — оказались намного выше, чем на всех их современниках, исключая "Bismarck" и "Tirpitz". Пар вырабатывали 12 трехколлекторных котлов с перегревателем и экономайзером типа Бауэр-Вагнер производства фирмы Дешимаг из Бремена (максимальная производительность 55 т/час), а три турбоагрегата развивали мощность на валах 125 000 л.с. или на короткий период при форсировании 160 000 л.с. От первоначально запланированных пятиколлекторных котлов с двумя перегревателями и двумя экономайзерами каждый отказались из-за их чрезмерной сложности. Турбины типа Парсонс для "Scharnhorst" изготавливала фирма "Броун Бовери" а для "Gneisenau"— "Дешимаг" по собственному проекту.
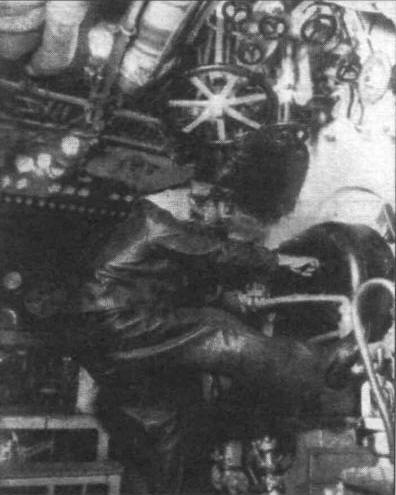
Впервые появившийся на "Admiral Scheer" нефтеводяной сепаратор, позволявший принимать в топливные цистерны водяной балласт, стали применять на всех германских кораблях. Для увеличения дальности плавания бортовые внешние и внутренние балластные цистерны заполнялись, хотя бы частично, топливом. Но нижние носовые топливные цистерны сначала оставляли пустыми, чтобы устранить "врожденный" дифферент на нос. Остойчивость этих кораблей не всегда улучшалась с расходом топлива, поэтому временами приходилось пользоваться забортным балластом.
Пространство энергетической установки было хорошо разделено на отсеки, каждый турбоагрегат стоял в отдельном отделении (16,5-метровом среднем и 15-м бортовых), а 12 котлов стояли попарно бок о бок в трех отсеках — XII, XI и IX, причем между двумя кормовыми имелся пустой отсек X. Котлы оснащались системой автоматического управления типа "Аскания" и двойными форсунками Сааке. Каждый турбозубчатый агрегат (ТЗА) весом 970 т состоял из турбины высокого, среднего и низкого давления, турбин крейсерского и заднего хода (высокого и низкого давления) , соединенных с валом через зубчатый редуктор (двухступенчатый для ТВД и одноступенчатый для остальных). Роторы турбин ВД вращались со скоростью 5100 об/мин ("Gneisenau" 6725), СД и НД 3150 и 3160 (3200 и 2700), а КХ —2400 об/ мин. ТВД были уникальной для Кригсмарине конструкции, представляя собой комбинацию колеса Кертиса и трех роторов Рато. Кормовой ТЗА располагался в отсеке VI, а бортовые — в отсеке VIII, разделенном переборкой по ДП.
, соединенных с валом через зубчатый редуктор (двухступенчатый для ТВД и одноступенчатый для остальных). Роторы турбин ВД вращались со скоростью 5100 об/мин ("Gneisenau" 6725), СД и НД 3150 и 3160 (3200 и 2700), а КХ —2400 об/ мин. ТВД были уникальной для Кригсмарине конструкции, представляя собой комбинацию колеса Кертиса и трех роторов Рато. Кормовой ТЗА располагался в отсеке VI, а бортовые — в отсеке VIII, разделенном переборкой по ДП.
Максимальная выходная мощность каждого турбоагрегата равнялась 53 360 л.с. при 265 — 280 об/мин на валах, то есть всего 160 080 л.с. Мощность каждой из трех турбин заднего хода составляла 13000 л.с. (по другим данным, 19 000 л.с.), а крейсерских — по 12 000 л.с. На испытаниях "Scharnhorst" развил 31,65, "Gneisenau" — 30,7 узла. Дальность плавания 19-узловым ходом (на двух валах) при запасе топлива соответственно 6108 т (6345 м³) и 5360 т (5700 м³) оказалась 7100 и 6200 миль вместо проектных 8200, на 15 узлах 9020 миль, а указанным полным ходом — соответственно 2210 и 2900 миль. 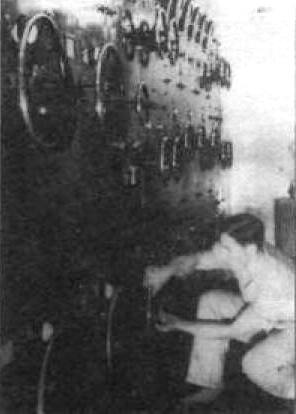 Иногда приводимая дальность плавания на 19 узлах 8400 миль для "Gneisenau" и даже 10 100 для "Scharnhorst" представляется сильно преувеличенной.
Иногда приводимая дальность плавания на 19 узлах 8400 миль для "Gneisenau" и даже 10 100 для "Scharnhorst" представляется сильно преувеличенной.
Электрическая система.
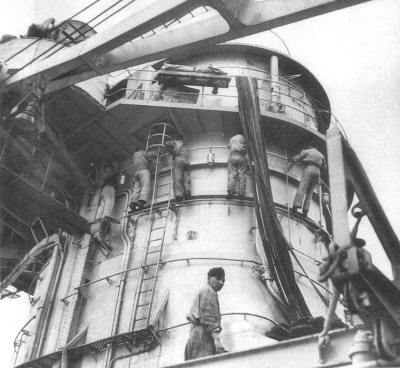
| ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА |
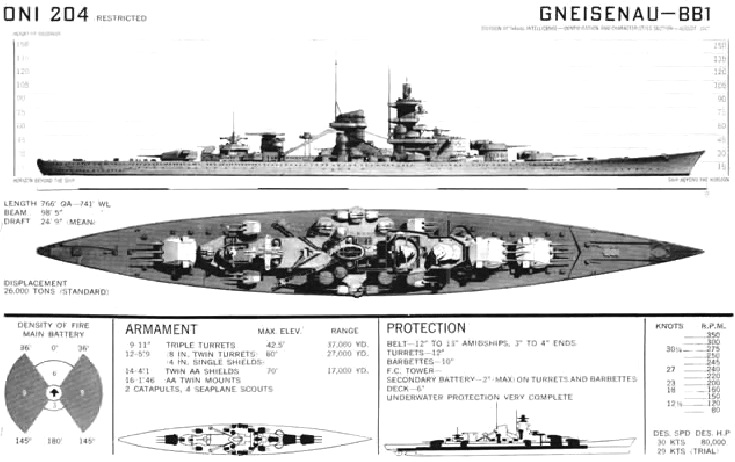 "Scharnhorst" и "Gneisenau" стали первыми капитальными кораблями возрождавшегося германского флота и на их проект наложили отпечаток многочисленные ограничения. Немцы решили построить эти корабли, несмотря на возможную нехватку стали и оборудования. Они рискнули, и оба корабля вошли в строй в самом начале Второй мировой войны. Активная деятельность и многочисленные полученные повреждения дали отличную возможность оценить их сильные и слабые стороны.
"Scharnhorst" и "Gneisenau" стали первыми капитальными кораблями возрождавшегося германского флота и на их проект наложили отпечаток многочисленные ограничения. Немцы решили построить эти корабли, несмотря на возможную нехватку стали и оборудования. Они рискнули, и оба корабля вошли в строй в самом начале Второй мировой войны. Активная деятельность и многочисленные полученные повреждения дали отличную возможность оценить их сильные и слабые стороны.
Их главным недостатком, вызванным политическими, но никак не техническими причинами, стал небольшой для линкора 283-мм главный калибр — к большому разочарованию гросс-адмирала Редера. Именно отсутствие на "Scharnhorst" орудий, снаряды которых могли бы пробивать броню 35 000-тонного линкора, стало решающим фактором его гибели. Если бы эти корабли перевооружили 380-мм орудиями, пожертвовав сроками ввода в строй, их боевая эффективность была бы намного выше. Но и 283-мм орудия оказались достаточно хороши в тех условиях, для которых они и проектировались.
 Для своего размера и водоизмещения они имели мощную защиту, хотя ей и не хватало толстой верхней цитадели, как на типе "Bismarck". Пояс в 350 мм (кстати, более толстый, чем на "Bismarck" и "Tirpitz", хотя многие источники приписывают обоим типам пояс 320 мм) плохо сочетался с 283-мм орудиями, нарушая принцип соответствия защиты своему главному калибру, принятый на всех других линкорах. Главными недостатками защиты "Scharnhorst" и "Gneisenau" были слабое палубное бронирование и тонкий верхний пояс, что позволяло крупным снарядам с пологой траекторией пробивать нижнюю бронепалубу. Хотя комбинация бортовой брони, скосов бронепалубы и противоторпедной переборки обеспечивала прекрасную защиту жизненно важных частей в бою на ближних дистанциях. Слабость палубного бронирования проявилась при бомбежках "Scharnhorst" в Ла-Паллисе и "Gneisenau" в Киле. Попадание 356-мм снаряда в котельное отделение "Scharnhorst" в его последнем бою продемонстрировало необходимость в более толстом верхнем поясе, дававшем дополнительную защиту нижней бронепалубе.
Для своего размера и водоизмещения они имели мощную защиту, хотя ей и не хватало толстой верхней цитадели, как на типе "Bismarck". Пояс в 350 мм (кстати, более толстый, чем на "Bismarck" и "Tirpitz", хотя многие источники приписывают обоим типам пояс 320 мм) плохо сочетался с 283-мм орудиями, нарушая принцип соответствия защиты своему главному калибру, принятый на всех других линкорах. Главными недостатками защиты "Scharnhorst" и "Gneisenau" были слабое палубное бронирование и тонкий верхний пояс, что позволяло крупным снарядам с пологой траекторией пробивать нижнюю бронепалубу. Хотя комбинация бортовой брони, скосов бронепалубы и противоторпедной переборки обеспечивала прекрасную защиту жизненно важных частей в бою на ближних дистанциях. Слабость палубного бронирования проявилась при бомбежках "Scharnhorst" в Ла-Паллисе и "Gneisenau" в Киле. Попадание 356-мм снаряда в котельное отделение "Scharnhorst" в его последнем бою продемонстрировало необходимость в более толстом верхнем поясе, дававшем дополнительную защиту нижней бронепалубе.
 Корабли этого типа имели недостаточную защиту и от торпед, особенно в районе башен главного калибра. Это было вызвано желанием получить высокую скорость хода за счет заострения обводов корпуса и ограничением по водоизмещению. Ошибочным оказался и проект структуры ПТЗ, что продемонстрировали взрывы торпед с зарядом 204-кг и 340-кг. Основной недостаток заключался в том, что противоторпедная переборка резко заканчивалась на нижней бронепалубе, а ее сварные соединения оказались не везде качественными. Весовые проблемы не позволили довести ПТП до верхней бронепалубы, что дало бы лучшую структурную целостность, более надежное крепление ПТП и большую возможность ей пластически деформироваться без разрушения. Немецкие конструкторы знали об этом недостатке, когда разрабатывали проект. Еще более очевидной была слабость ПТЗ в оконечностях броневой цитадели, где по проекту защита должна была выдерживать взрыв 200 кг ТНТ, а не 250 кг, как в средней части. Серьезный недостаток имелся в ПТЗ в районе прохода гребных валов через ПТП. При попаданиях торпед в это место валы получали серьезные повреждения, а образующиеся при взрыве газы не встречали на своем пути достаточного сопротивления элементов структуры.
Корабли этого типа имели недостаточную защиту и от торпед, особенно в районе башен главного калибра. Это было вызвано желанием получить высокую скорость хода за счет заострения обводов корпуса и ограничением по водоизмещению. Ошибочным оказался и проект структуры ПТЗ, что продемонстрировали взрывы торпед с зарядом 204-кг и 340-кг. Основной недостаток заключался в том, что противоторпедная переборка резко заканчивалась на нижней бронепалубе, а ее сварные соединения оказались не везде качественными. Весовые проблемы не позволили довести ПТП до верхней бронепалубы, что дало бы лучшую структурную целостность, более надежное крепление ПТП и большую возможность ей пластически деформироваться без разрушения. Немецкие конструкторы знали об этом недостатке, когда разрабатывали проект. Еще более очевидной была слабость ПТЗ в оконечностях броневой цитадели, где по проекту защита должна была выдерживать взрыв 200 кг ТНТ, а не 250 кг, как в средней части. Серьезный недостаток имелся в ПТЗ в районе прохода гребных валов через ПТП. При попаданиях торпед в это место валы получали серьезные повреждения, а образующиеся при взрыве газы не встречали на своем пути достаточного сопротивления элементов структуры.
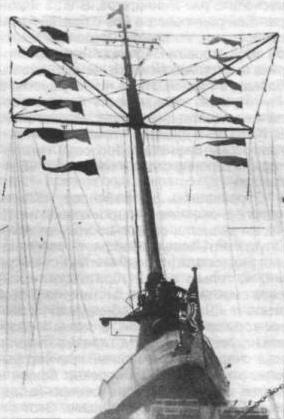 Артиллерия среднего калибра вполне соответствовала характеру ожидаемых боев, но столкновения в годы войны опровергли предвоенные взгляды немцев. Неудачной оказалась комбинация легко защищенных палубных 150-мм установок с бронированными двухорудийными башнями, хотя и это немцы понимали еще до ввода кораблей в строй. Палубные установки быстро выходили из строя даже в бою с крейсерами. Лучше было бы поставить две спаренные башни вместо четырех одиночных установок. 150-мм башенные орудия следовало приспособить для зенитной стрельбы, как сделали французы на линкорах типа "Richelieu". Такое перевооружение вполне можно было бы сделать еще до начала войны. Дальности стрельбы 105-мм зениток не хватало, чтобы сбить или отогнать самолеты еще до сброса ими торпед или бомб. В целом применение смешанного противоминно-зенитного среднего калибра израсходовало много веса и загромоздило верхнюю палубу и надстройки множеством установок, чего не было бы при использовании универсальных орудий.
Артиллерия среднего калибра вполне соответствовала характеру ожидаемых боев, но столкновения в годы войны опровергли предвоенные взгляды немцев. Неудачной оказалась комбинация легко защищенных палубных 150-мм установок с бронированными двухорудийными башнями, хотя и это немцы понимали еще до ввода кораблей в строй. Палубные установки быстро выходили из строя даже в бою с крейсерами. Лучше было бы поставить две спаренные башни вместо четырех одиночных установок. 150-мм башенные орудия следовало приспособить для зенитной стрельбы, как сделали французы на линкорах типа "Richelieu". Такое перевооружение вполне можно было бы сделать еще до начала войны. Дальности стрельбы 105-мм зениток не хватало, чтобы сбить или отогнать самолеты еще до сброса ими торпед или бомб. В целом применение смешанного противоминно-зенитного среднего калибра израсходовало много веса и загромоздило верхнюю палубу и надстройки множеством установок, чего не было бы при использовании универсальных орудий.
Тихоходные британские "Суордфиши" и несовершенная британская тактика бомбо- и торпедометания не позволили своевременно заметить неадекватность 105-мм орудия современному бою, но при действиях в районе Тихого океана в боях с более скоростными и технически совершенными самолетами слабость ПВО немецких крупных кораблей выявилась бы сразу. Оба раза, когда эти корабли подвергались массированным авианалетам, их прикрывали мощные силы истребителей, оставляя зениткам лишь вспомогательную роль.
Повреждения на минах показали, что вспомогательные механизмы, электронные устройства, артиллерия, электрическое оборудование и фундаменты, на которых все это крепилось, спроектированы неправильно и не выдерживали ударных нагрузок. Вспомогательные механизмы в машинно-котельных отделениях выходили из строя даже при неконтактном взрыве, приводившем к незначительным повреждениям корпуса и затоплениям.
Немцы слишком рано применили энергетические установки с высокими параметрами пара, несмотря на возражения Кораблестроительного отдела. Одновременное оснащение боевых кораблей нескольких классов котлами различных проектов привело к многочисленным задержкам и увеличило стоимость обслуживания, не говоря уже о частых выходах кораблей из строя на длительное время из-за различных неисправностей в котлах. Достаточно сказать только о трубках перегревателей; еще хуже обстояло дело со вспомогательным оборудованием и арматурой для котлов, которые выходили из строя еще чаще, а их ремонт занимал еще больше времени. К тому же, применение турбинной установки вместо дизельной резко снизило дальность плавания.
 Проект кораблей типа "Scharnhorst" можно считать удовлетворительным только с учетом тех ограничений, с которыми пришлось столкнуться конструкторам. Корабли были отлично защищены и вооружены для своего размера, учитывая небольшие дистанции боев в Северном море. Главный калибр, однако, оказался слишком слабым для капитального корабля Второй мировой войны. ПТЗ не оправдала ожиданий в основном из-за противоречий в структуре корпуса. Горизонтальное бронирование в районе механизмов оказалось очень слабым, а отсутствие толстой верхней цитадели позволяло тяжелым снарядам проникать в котельные отделения, что и случилось в последнем бою "Scharnhorst". Скорость была превосходной, хотя именно из-за нее и не удалось дать кораблям такую же защиту, которую имели германские линейные крейсера Первой мировой войны: однако, последний бой "Scharnhorst" против превосходящих сил англичан продемонстрировал высокое качество его проекта и постройки. Он сражался более трех часов, пока его артиллерия главного калибра не израсходовала боезапас, выдержав тяжелые повреждения.
Проект кораблей типа "Scharnhorst" можно считать удовлетворительным только с учетом тех ограничений, с которыми пришлось столкнуться конструкторам. Корабли были отлично защищены и вооружены для своего размера, учитывая небольшие дистанции боев в Северном море. Главный калибр, однако, оказался слишком слабым для капитального корабля Второй мировой войны. ПТЗ не оправдала ожиданий в основном из-за противоречий в структуре корпуса. Горизонтальное бронирование в районе механизмов оказалось очень слабым, а отсутствие толстой верхней цитадели позволяло тяжелым снарядам проникать в котельные отделения, что и случилось в последнем бою "Scharnhorst". Скорость была превосходной, хотя именно из-за нее и не удалось дать кораблям такую же защиту, которую имели германские линейные крейсера Первой мировой войны: однако, последний бой "Scharnhorst" против превосходящих сил англичан продемонстрировал высокое качество его проекта и постройки. Он сражался более трех часов, пока его артиллерия главного калибра не израсходовала боезапас, выдержав тяжелые повреждения. 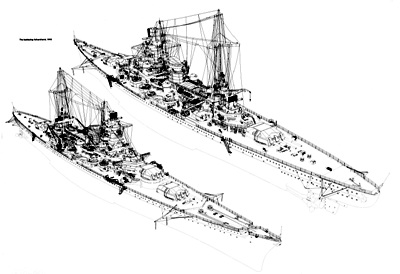 Для его потопления понадобилось около 11 попаданий торпед. Отсутствие сил эскорта не позволило ему отразить атаки британских эсминцев, и, получив несколько торпед, "Scharnhorst" был настигнут сильнейшим противником и принужден к неравному артиллерийскому бою. Немецкие эсминцы могли также атаковать британский линкор "Duke Of Yorck", нанеся ему повреждения или снизив эффективность его стрельбы. Их радары, в условиях выхода из строя носового радара на "Scharnhorst", могли бы своевременно обнаружить британское соединение и немцы успели бы уйти. Люфтваффе обнаружило британские корабли, однако, когда информация достигла борта "Scharnhorst", она была настолько искажена, что привела к ошибочному толкованию. Исход боя решил 356-мм снаряд, попавший в котельное отделение № 1, и потерявший преимущество в скорости "Scharnhorst" позволил британским кораблям сблизиться на пистолетную дистанцию и провести неотвратимые торпедные атаки.
Для его потопления понадобилось около 11 попаданий торпед. Отсутствие сил эскорта не позволило ему отразить атаки британских эсминцев, и, получив несколько торпед, "Scharnhorst" был настигнут сильнейшим противником и принужден к неравному артиллерийскому бою. Немецкие эсминцы могли также атаковать британский линкор "Duke Of Yorck", нанеся ему повреждения или снизив эффективность его стрельбы. Их радары, в условиях выхода из строя носового радара на "Scharnhorst", могли бы своевременно обнаружить британское соединение и немцы успели бы уйти. Люфтваффе обнаружило британские корабли, однако, когда информация достигла борта "Scharnhorst", она была настолько искажена, что привела к ошибочному толкованию. Исход боя решил 356-мм снаряд, попавший в котельное отделение № 1, и потерявший преимущество в скорости "Scharnhorst" позволил британским кораблям сблизиться на пистолетную дистанцию и провести неотвратимые торпедные атаки.
 Важность радара в операциях этих линейных крейсеров отмечал и последний командир "Gneisenau" капитан цур зее (позже адмирал) Вольфганг Кёлер (Kahler), который писал: "Может быть, я должен подчеркнуть важность нашего радара на "Gneisenau". Мы всегда могли на него положиться; мы обнаруживали корабли и другие цели на огромных дистанциях и получали хорошие и точные данные от него для управления артстрельбой, которые в туманную погоду и в сумерках оказывались лучше информации, получаемой от оптических дальномеров".
Важность радара в операциях этих линейных крейсеров отмечал и последний командир "Gneisenau" капитан цур зее (позже адмирал) Вольфганг Кёлер (Kahler), который писал: "Может быть, я должен подчеркнуть важность нашего радара на "Gneisenau". Мы всегда могли на него положиться; мы обнаруживали корабли и другие цели на огромных дистанциях и получали хорошие и точные данные от него для управления артстрельбой, которые в туманную погоду и в сумерках оказывались лучше информации, получаемой от оптических дальномеров".
Потеря "Gneisenau" была вызвана расчетным риском. Вопреки инструкциям на корабле, стоявшем в сухом доке перед уходом в Норвегию, хранился полный боезапас. Единственный тогда свободный в Киле сухой док V верфи Дойче Верке находился рядом с пирсом, где ремонтировался "Scharnhorst". Эта ситуация, когда два крупных корабля находились близко друг к другу, горячо обсуждалась флотским руководством. Предложение увести "Scharnhorst" отклонили, не желая прерывать ремонтные работы. Предложение сгрузить с "Gneisenau" боезапас также отклонили, поскольку это задержало бы корабль на верфи на четыре дня, не позволяя ему проскочить в Норвегию во время новолуния. Верфь обратилась за указаниями в ОКМ, и Редер приказал ставить "Gneisenau" в док с боезапасом. Но нельзя возложить всю ответственность на Редера, которого сильно ругал Гитлер за задержку кораблей на верфях, настаивая на их скорейшем переводе в Норвегию, где они должны были действовать против конвоев в Россию.
"Scharnhorst" и "Gneisenau", первые новые крупные корабли Кригсмарине, в ходе своей боевой карьеры постоянно демонстрировали значительные успехи немецких военных кораблестроителей, сумевших создать в пределах ограниченного водоизмещения корабли с хорошей защитой и скоростью, хотя и с ослабленным вооружением. Фактически это были последние в мире линейные крейсера в том виде, как их традиционно представлял немецкий флот. Желание иметь аналогичные корабли побудило руководство США, Японии, Нидерландов и особенно СССР санкционировать работы по их созданию. Эти последователи "шарнхорстов" отличались более высокой скоростью, иногда более мощным вооружением, но несоизмеримо худшей защитой, что делало их морально устаревшими еще до закладки. Ведь главным козырем немцев была именно защита, что наглядно подтвердил последний бой "Scharnhorst". Расстрелянный практически в упор тяжелыми 356-мм снарядами, он пошел на дно только после попадания 11 торпед с британских эсминцев и крейсеров. Для сравнения можно напомнить, что гигантский японский "Yamato", вдвое больший по водоизмещению, погиб, получив такое же количество авиационных торпед, имевших, к тому же, меньшую "убойную" силу. Да и условия, в которых пришлось вести бой и бороться за живучесть экипажам этих кораблей, нельзя даже сравнить — одинокий рейдер в штормовом декабрьском Норвежском море полярной ночью и идущий в составе соединения гигант в почти спокойных апрельских водах Тихого океана.
| ОТЛИЧИЯ, МОДЕРНИЗАЦИИ И ОКРАСКА |
Принята 15 апреля 1896 г. В то время использовалась только при службе в домашних водах.
| серый - корпус до высоты главной палубы, позже - до высоты фальшборта главной палубы, ещё позже - до уровня полубака, если он закрывал большую часть верхней палубы |
| светло-серый - верхняя палуба, надстройки, трубы, вентиляторы, мачты и т.п., включая орудия, башни и щиты |
| золотисто-жёлтый - носовое и кормовое украшения |
| чёрный - отдельным распоряжением устанавливалась окраска в чёрный цвет верхнего края трубы на 1 м или всей трубы, а также мачт выше уровня трубы или чуть выше салингов, а также, временно, грот-стеньги |
Кроме расположения зенитных автоматов после увеличения их числа в ходе войны и разницы в расположении якорей и формы ангаров, "Scharnhorst" и "Gneisenau" отличались друг от друга местом установки грот-мачты, а в первые месяцы службы — и фок-мачты. После постройки оба корабля имели трубы без козырьков, а грот-мачта с двумя небольшими опорами вперед крепилась вдоль задней кромки трубы. Фок-мачта на "Scharnhorst" стояла на кронштейнах за носовой надстройкой, а "Gneisenau" имел вместо нее флагшток с реем на башне носового поста УАО. Затем на трубах появились козырьки, отклонявшие котельные дымы и газы назад от носовой надстройки, грот-мачту на "Scharnhorst" перенесли в корму, установив опорами вперед между катапультой и кормовым постом УАО. Небольшую мачту-флагшток с этого поста УАО сняли. На "Gneisenau" весной 1939 года установили фок-мачту как на "Scharnhorst", флагшток с носового поста УАО сняли. Когда пришла пора ставить на башни постов УАО радарные посты с антеннами, такая же участь постигла и кормовой флагшток — его перенесли на крышу ангара.
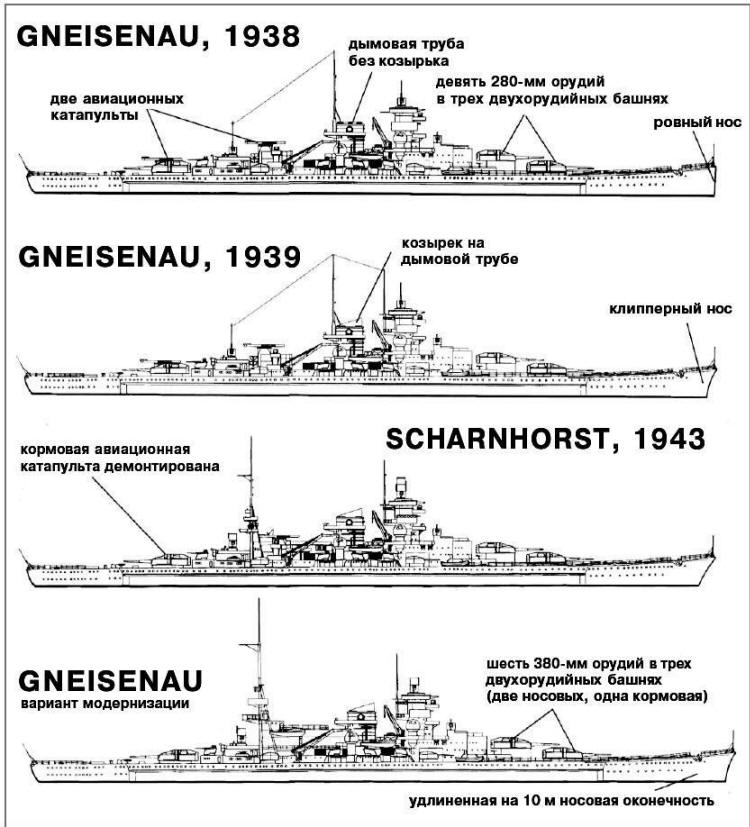
Данные о наиболее существенных изменениях здесь приводятся в хронологической последовательности.
По проекту корабли имели почти прямой форштевень, оказавшийся очень неудачным. Оба имели по две катапульты и грот-мачту на задней кромке трубы. До начала войны корабли окрашивались в светло-серый цвет.
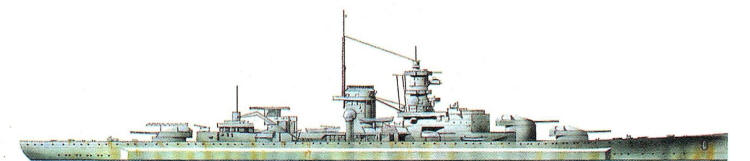
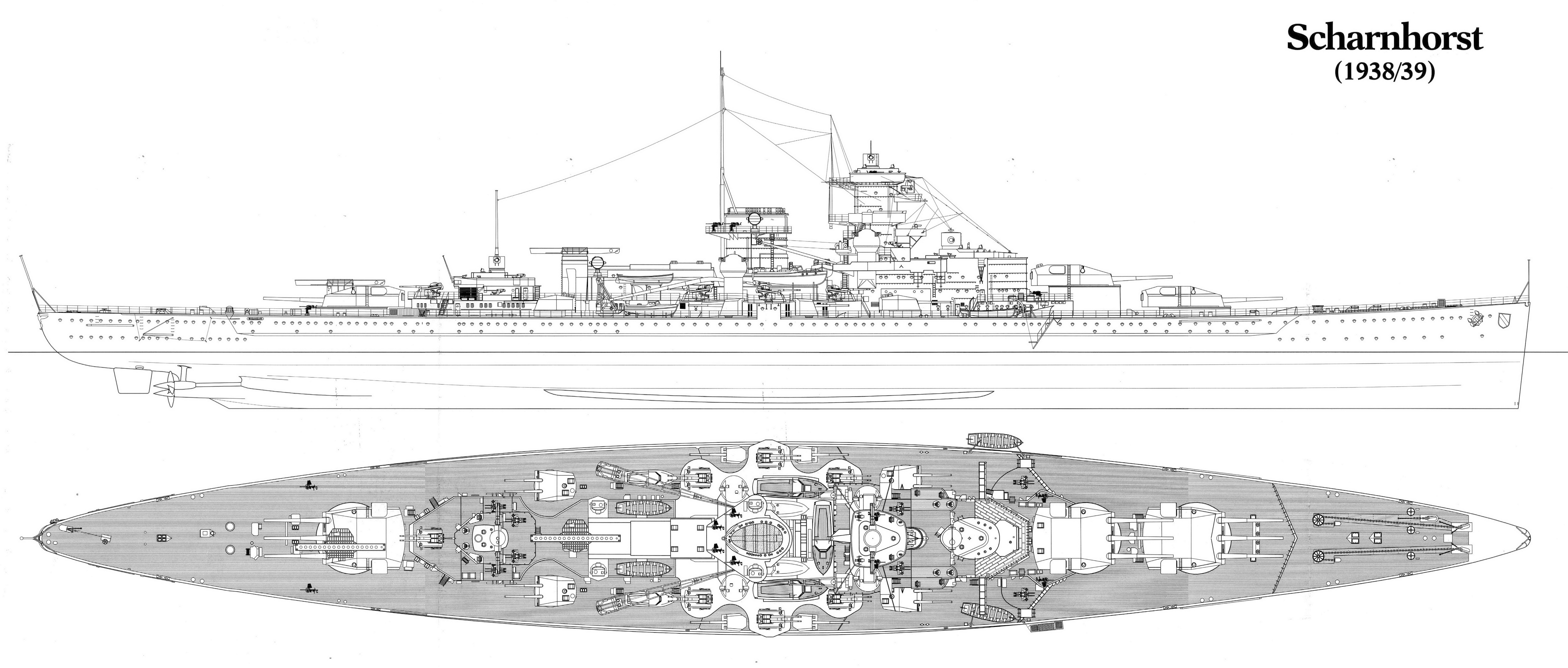
В ходе испытаний "Gneisenau" выяснилось, что на волнении корабль сильно принимает носом воду, особенно при водоизмещении, близком к полному, когда дифферент на нос составлял порядка 0,8 м. Для устранения этого недостатка всю носовую оконечность в конце 1938 г. перестроили, увеличив развал шпангоутов и придав палубе бака заметный подъем к форштевню. Наибольшая длина при этом повысилась с 229,8 до 234,9 м. Форштевень изменил форму с прямого на изящно изогнутый, известный как "атлантический". Кроме того, на дымовой трубе появился козырек для снижения задымления носовой надстройки. Весной 1939 года на "Gneisenau" установили фок-мачту как на "Scharnhorst".
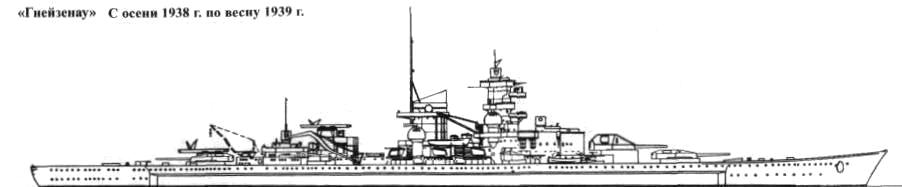
Летом 1939 г. аналогичные по составу работы прошли и на "Scharnhorst", но их объем оказался несколько больше. Якоря, ранее втягиваемые в клюзы, перенесли на верхнюю палубу, а за счет установки дополнительного, третьего, якоря в клюзе форштевня наибольшая длина у "Scharnhorst" по сравнению с "Gneisenau" увеличилась на 0,5 м. Ангар удлинили еще на 8 м, после чего в нем стали помещаться три самолета. Грот-мачту, ранее расположенную, как и на "Gneisenau", за дымовой трубой, перенесли дальше в корму, установив между кормовым КДП и катапультой (на "Gneisenau" также планировали заменить грот-мачту, она даже была изготовлена, но занятость корабля в операциях военного времени не позволила её установить).
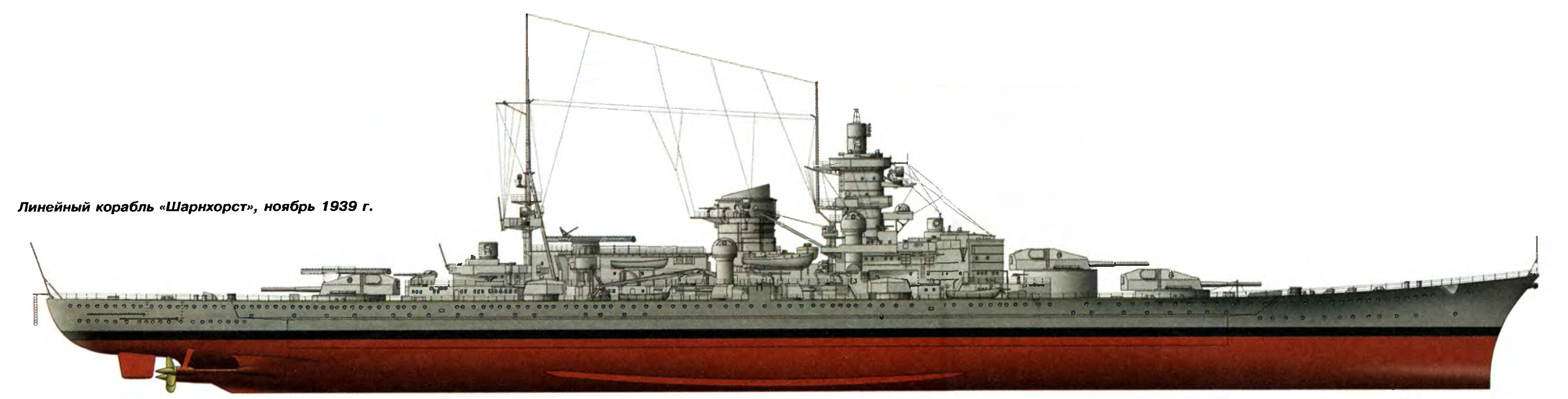
В октябре 1939 г. на обоих кораблях добавили 2 х 1 - 20-мм автомата, на КДП, расположенном на носовой надстройке, смонтировали РЛС "Seetakt" FuMO 22.
27 ноября корабли вернулись в Вильгельмсхафен для ремонта штормовых повреждений после похода. Тогда же на "Scharnhorst" произвели ремонт котлов, на "Gneisenau", перешедшем в Киль, в течение семинедельного ремонта на военной верфи снова переделали нос, увеличив развал шпангоутов и подъем форштевня, якоря перенесли на верхнюю палубу, как на "Scharnhorst".
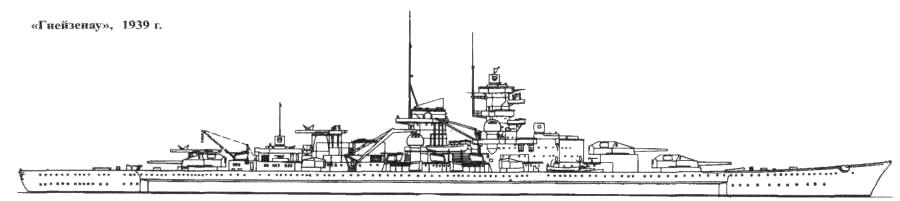
В феврале 1940 г. катапульты с башен "С" на обоих кораблях демонтировали, а с кормовой надстройки — самолетный кран. На крышах башен для опознания своей авиацией нанесли белые круги, но вскоре крыши полностью перекрасили в жёлтый цвет.
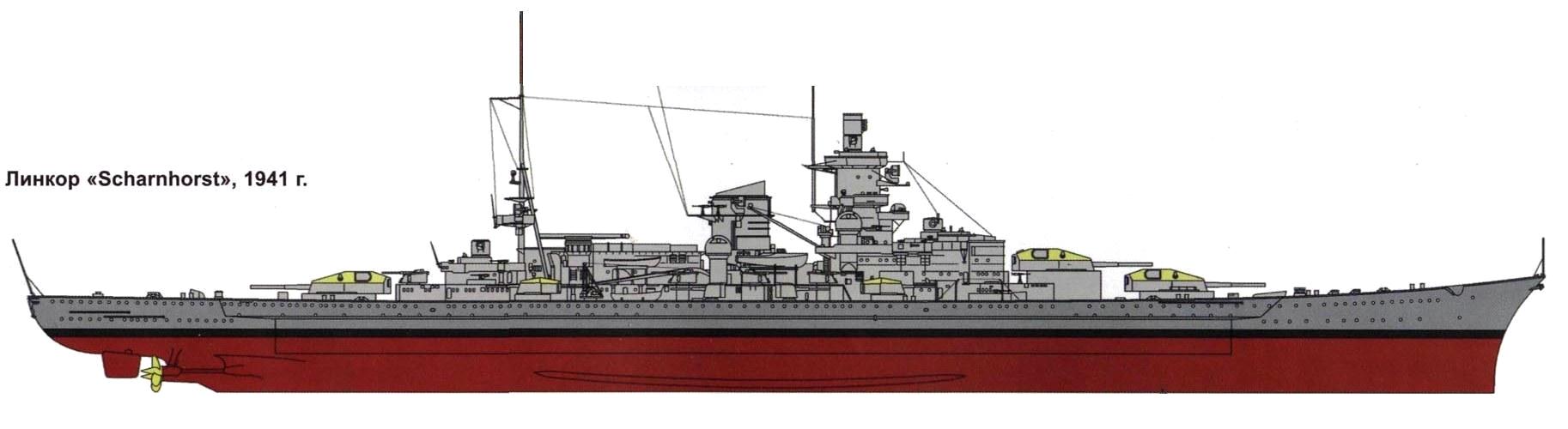
В конце апреля 1940 г. оба корабля прошли краткий ремонт боевых повреждений после боя с "Renown".
В 1940 г. корабли ещё трижды проходили ремонт боевых повреждений: 5 мая 1940 г. "Gneisenau" подорвался на мине в устье Эльбы — ремонт 1 мес., 8 июня "Scharnhorst" получил попадание одной торпедой предположительно с ЭМ "Acasta" — ремонт 7 мес., 20 июня в Норвежском море "Gneisenau" получил попадание одной торпеды с британской ПЛ "Clyde", но дошел до базы и был поставлен в док — ремонт 5 мес. В ходе ремонтов вносились некоторые изменения и усиливалась мелкая зенитная артиллерия.
Во время испытательных и учебных походов на Балтику (например, осенью 1940 г.) корабли получали так называемый "Балтийский камуфляж" из косых белых и чёрных полос, оконечности красились темнее, были нарисованы фальшивые буруны.
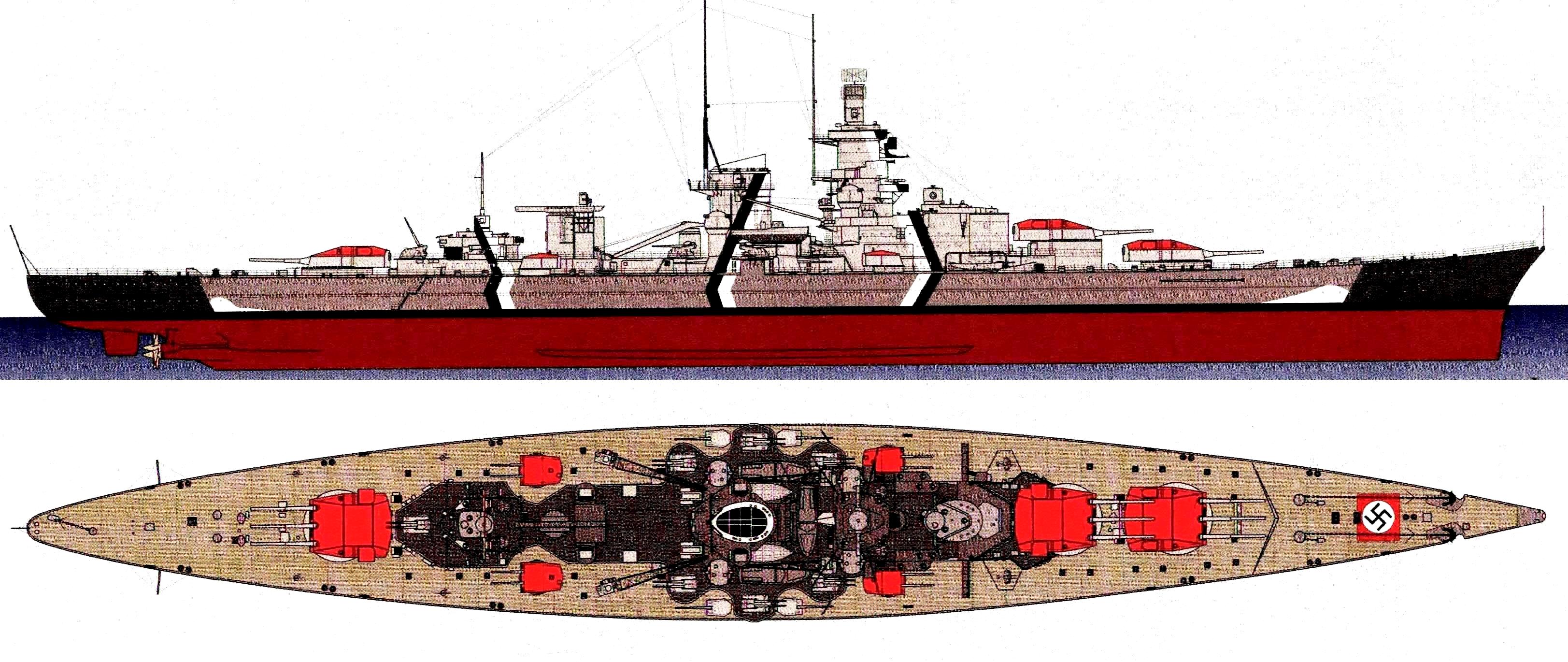
В январе 1941 г. на "Gneisenau" установлен 1 х 4 20-мм "фирлинг" на временной решетчатой площадке в средней части корпуса, а РЛС FuMO 22 заменена на FuMO 27. Несколько позже из башни "А" демонтировали дальномер, поскольку его линзы постоянно заливались водой и брызгами.
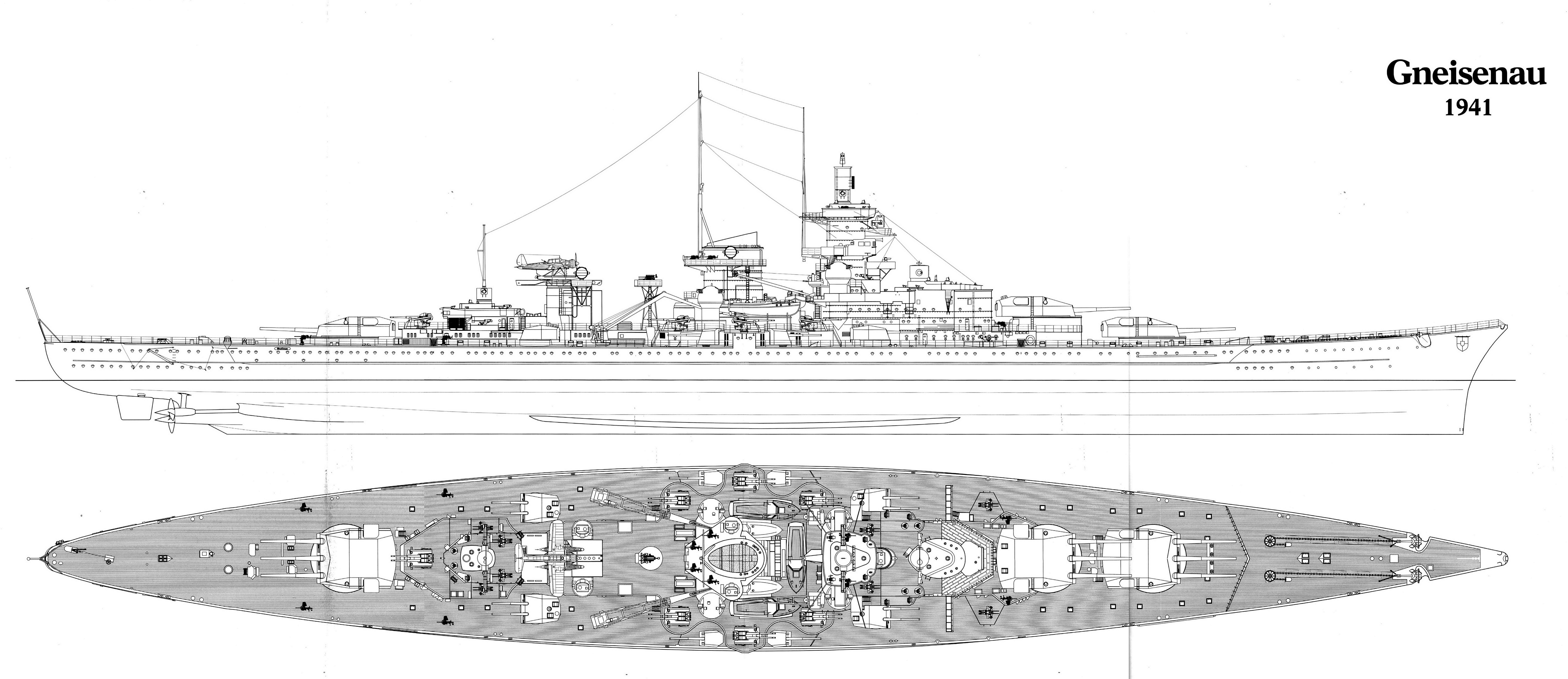
В самом начале 1941 г. на "Gneisenau" в ходе ремонта штормовых повреждений в Киле снова переделали носовую часть корабля, что специалисты военной верфи выполнили в рекордный срок.
22 января 1941 г. при выходе в крейсерство в Атлантику (операция "Берлин") крыши башен кораблей были выкрашены в жёлтый цвет на общем тёмно-сером фоне.
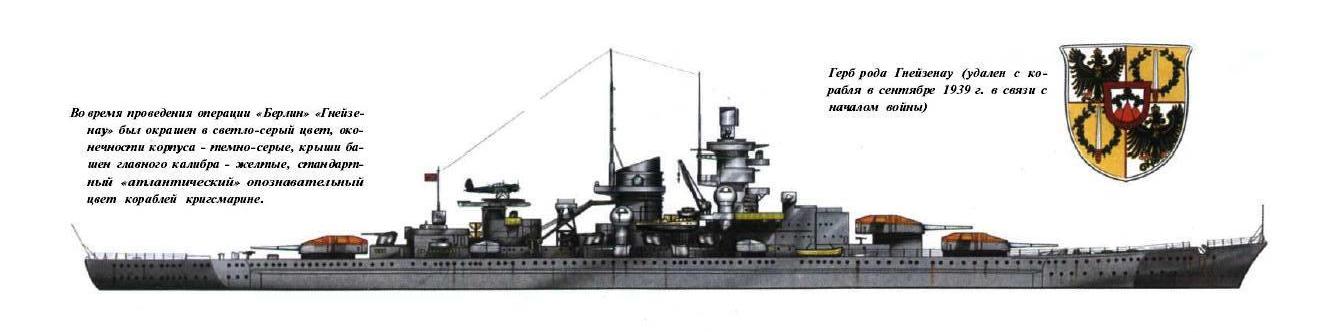

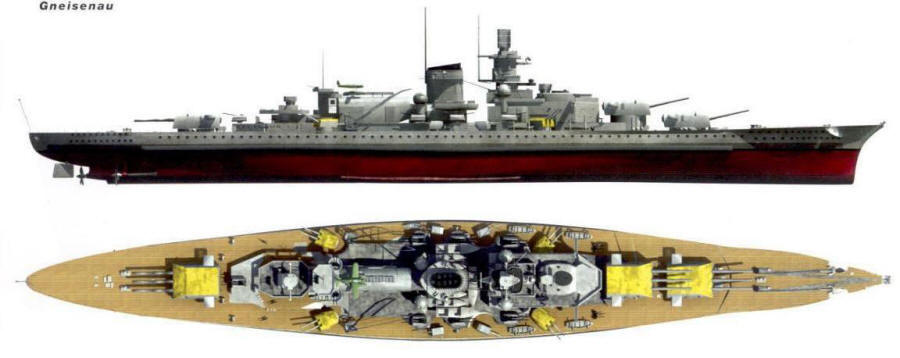
По прибытии в Брест корабли находились большей частью в ремонте, при этом периодически получая повреждения в результате налётов британской авиации. 6 апреля 1941 г. "Gneisenau" получил попадание одной авиационной торпеды и встал в док — ремонт 8 мес. 10—11 апреля он неоднократно подвергался атакам британских самолетов, в результате которых получил четыре попадания авиабомб весом по 250 кг. "Scharnhorst" 24 июля был атакован британской авиацией в Ла-Паллисе и получил пять прямых попаданий 250-кг бомб — ремонт 4 мес.
В ходе ремонтов корабли проходили некоторые модернизации:
На "Scharnhorst" вместо FuMO 22 смонтировали две FuMO 27 и установили 4x4 и 2 х 1 20-мм автомата. На верхней палубе в средней части корпуса разместили 2 x 3 533-мм ТА, снятых с КРЛ "Nürnberg".
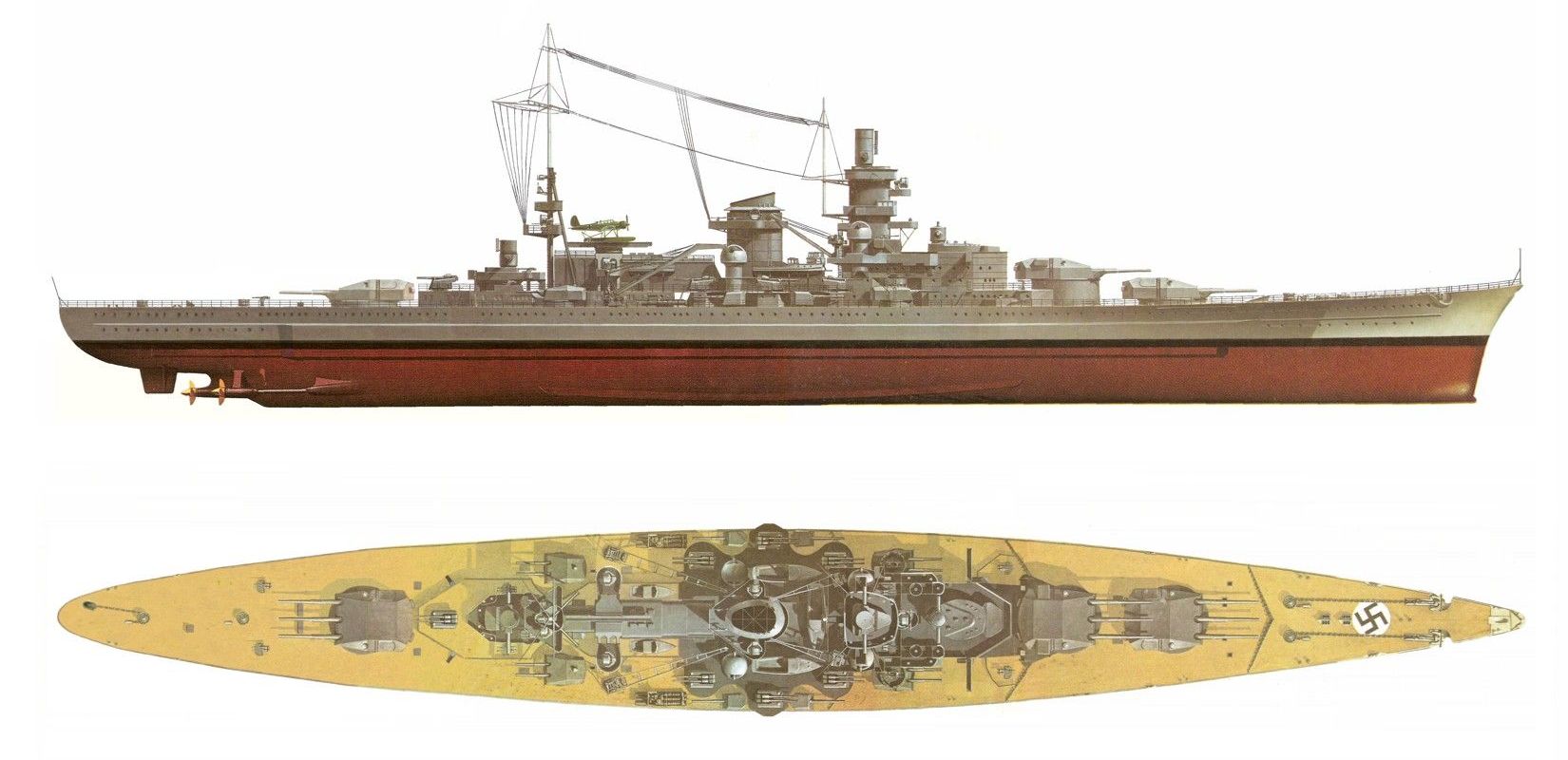
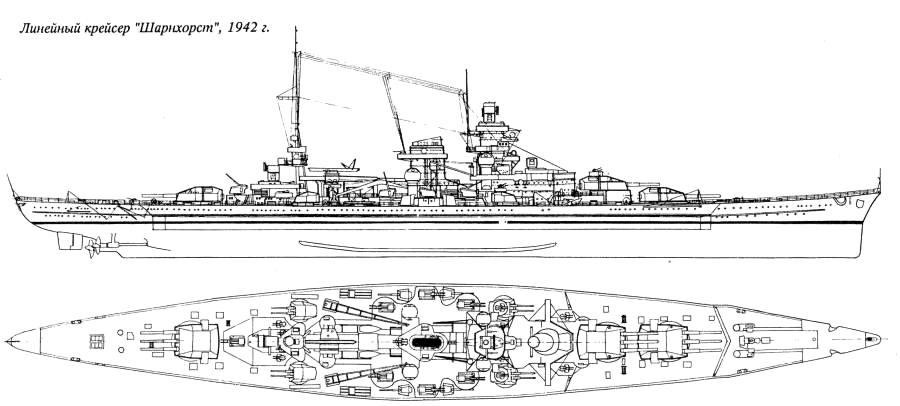
На "Gneisenau" в начале 1942 г. в Бресте смонтировали вторую РЛС FuMO 27 на кормовом КДП. Самолетный ангар перестроили и увеличили в размерах, после чего в нем стало возможно хранить два самолета. Добавили еще 2x4 "фирлинга" и 2 х 1 20-мм автомата. На верхней палубе в средней части корпуса разместили 2 x 3 533-мм ТА, снятых с КРЛ "Leipzig".
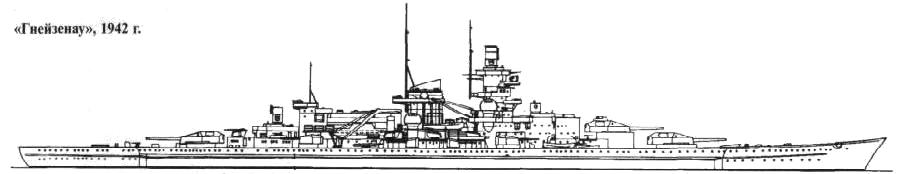
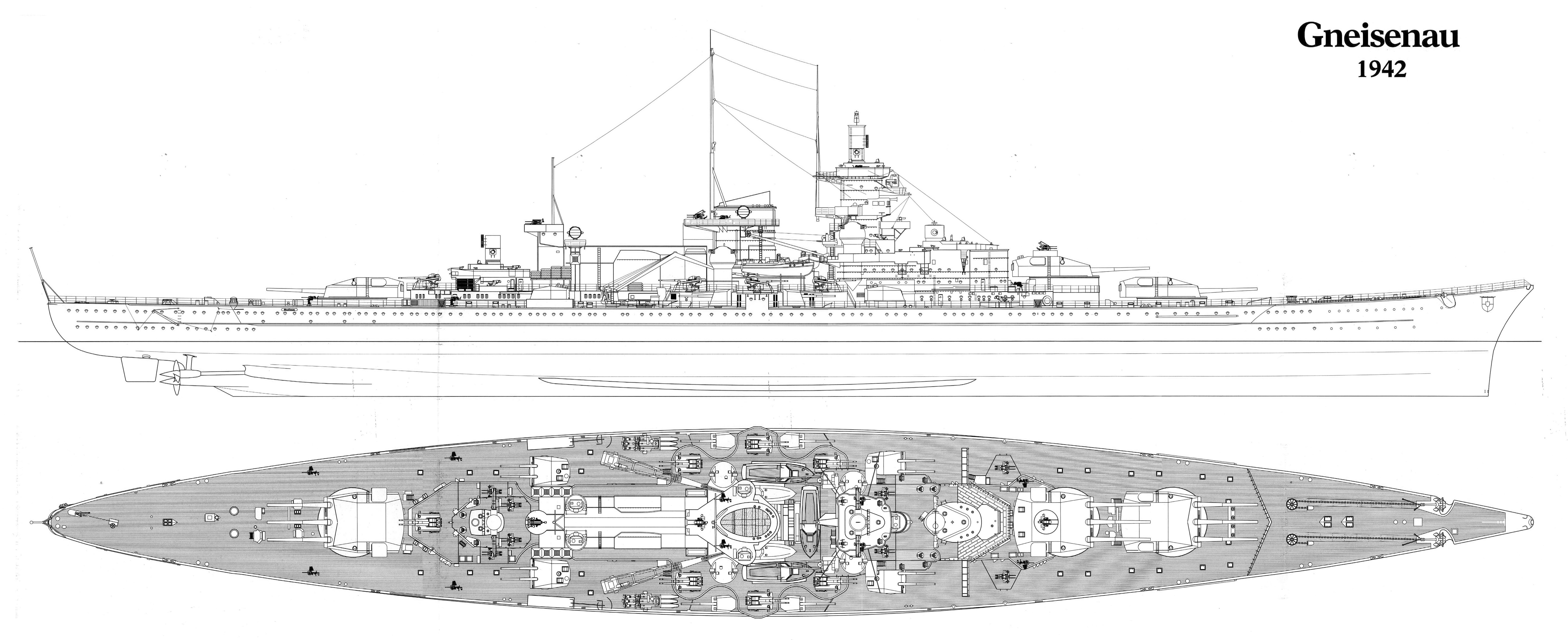
11 февраля 1942 при выходе на прорыв через Ла-Манш (операция "Церберус") корабли были окрашены в серый цвет, с синими крышами башен и чёрным броневым поясом.
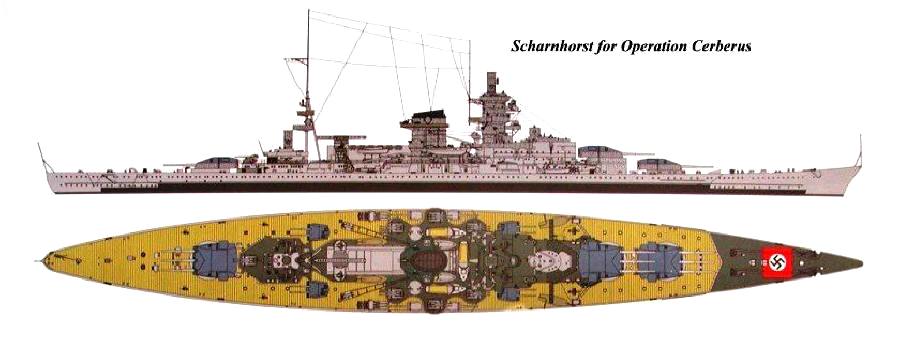
В ходе операции 12 февраля оба корабля получили повреждения. "Scharnhorst" дважды подрывался на донных минах, но дошел своим ходом до базы, где был поставлен в док. Ремонт продолжался около года.
"Gneisenau" подорвался на донной мине, получил тяжелые повреждения, но также дошел своим ходом до базы и был поставлен в док в Киле, где 26 февраля 1942 г. прямо в доке был выведен из строя 454-кг бомбой, фактически уничтожившей башню "А".
Поскольку повреждения корабля оказались значительными и их ремонт требовал длительного времени, специалисты флота начали проработку проекта перевооружения "Gneisenau" шестью 380-мм орудиями вместо девяти 283-миллиметровых.
Перевооружение утяжеляло носовую часть корабля, что предполагалось компенсировать удлинением корпуса на 10 м. Изменение формы корпуса и увеличение длины по ватерлинии, в основном, снимали проблемы увеличения осадки и дифферента, а смещение центра плавучести к носу уменьшало дифферент при полной нагрузке. Между самолетным ангаром и кормовым КДП планировалось установить треногую мачту (как на "Scharnhorst"), которую уже изготовили в Киле. Число 20-мм автоматов собирались увеличить до 32 стволов (6x4 и 8х1).
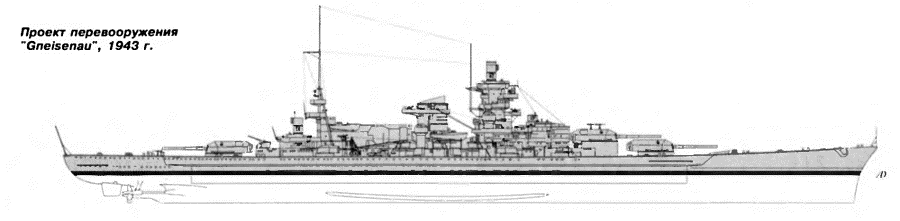
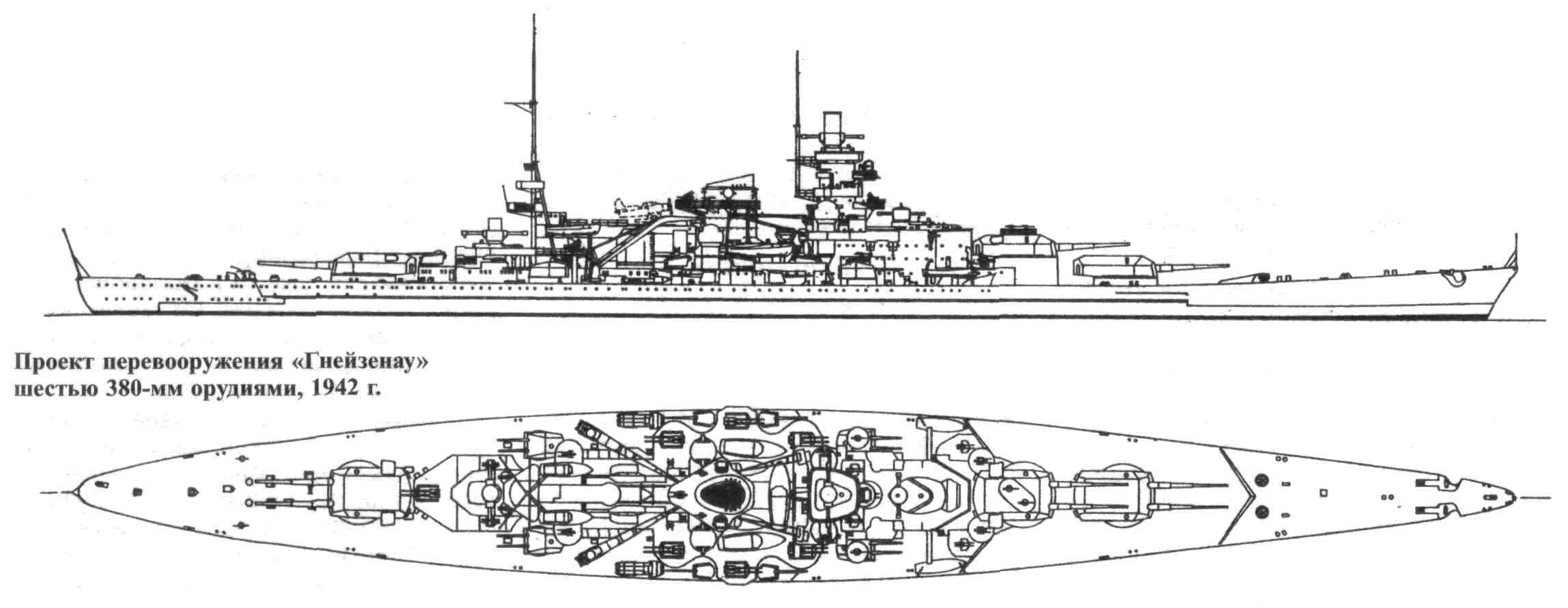
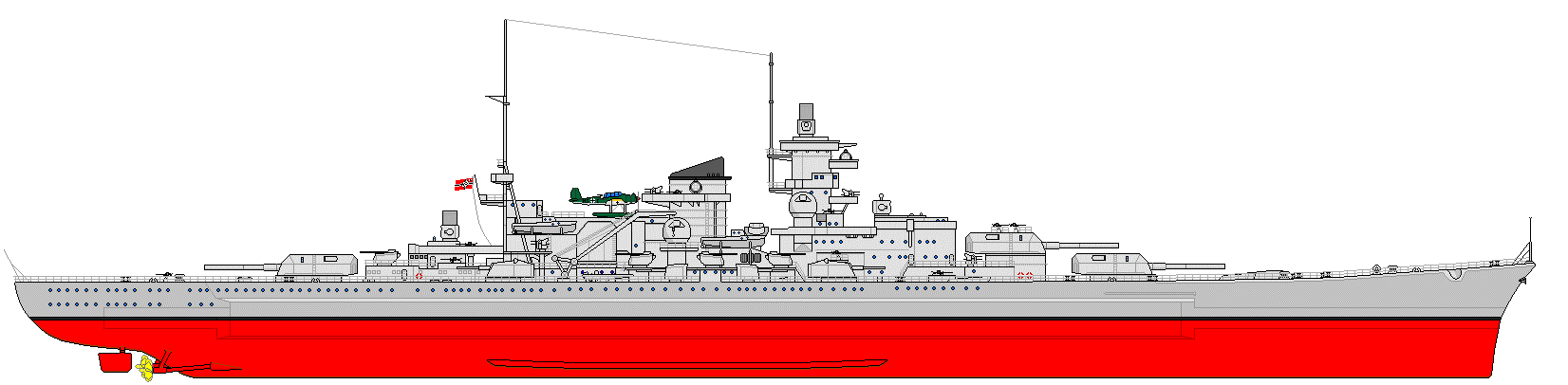
6 апреля линкор прибыл в Готенхафен (Гдыня), где поврежденную носовую часть отрезали по 185-му шпангоуту, сняли часть палубной и бортовой брони, а также противоторпедные переборки в районе башни "А". Демонтировали и остальные башни.
В начале 1943 г. на корабль уже можно было ставить новые башни и носовую часть корпуса, но Гитлер, взбешенный неудачной атакой надводных кораблей союзного конвоя в СССР 31.12.1942, приказал пустить на слом все линейные корабли и крейсера Кригсмарине. Работы на линкоре остановили, а все материалы отдали на более срочные нужды. Корабль был исключен 1.7.1942, разоружен, использовался в качестве плашкоута, и 27 марта 1945 г. его затопили на фарватере в Готенхафене.
К окончанию ремонта "Scharnhorst" в начале 1943 г. число 20-мм автоматов достигло 38 стволов (7x4 "фирлингов" С/38 и 10x1), были установлены РЛС FuMB 1, FuMO 3, FuMO 4, FuMO 7. Водоизмещение к 1943 г. составляло: стандартное — 31 848 т, полное — 38 094 т и боевое в перегруз — 39 019 т.
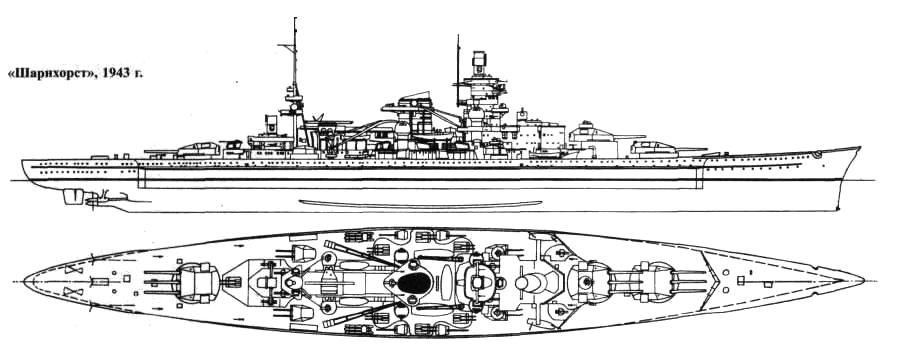
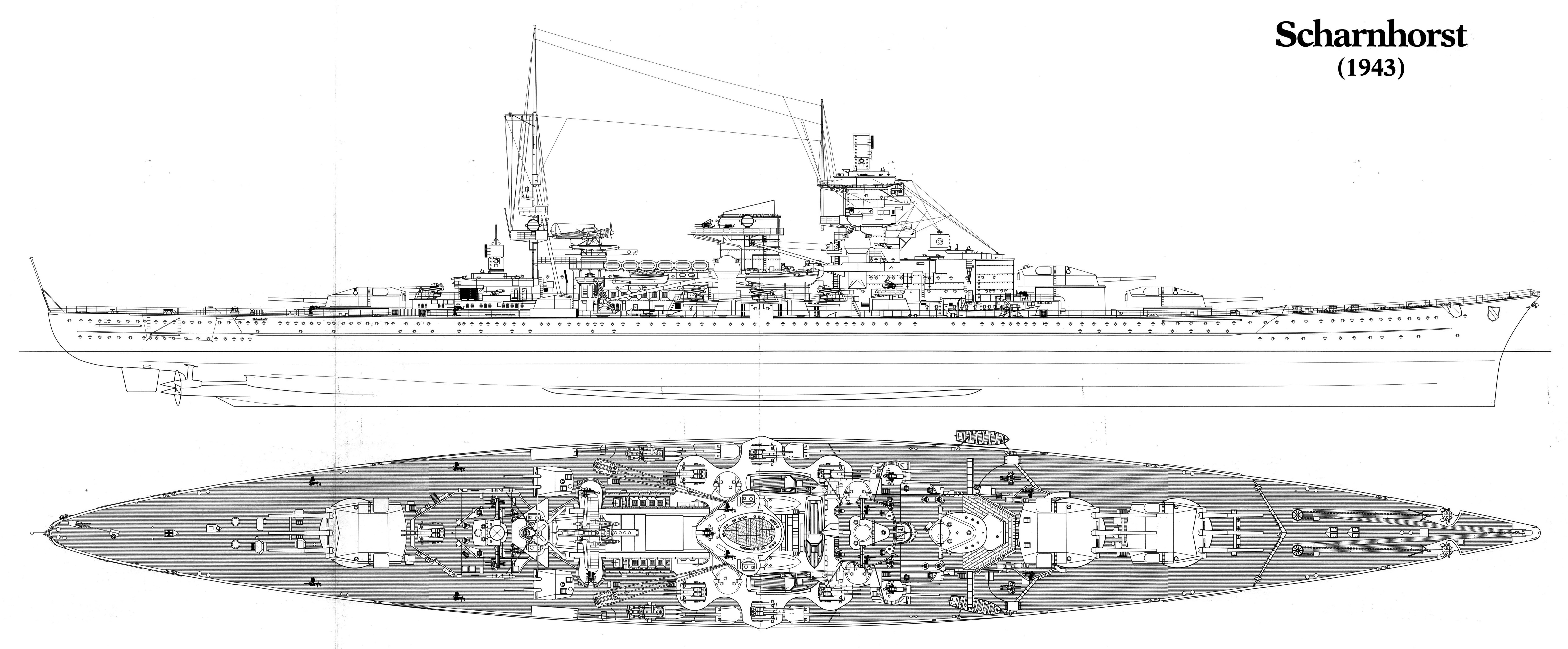
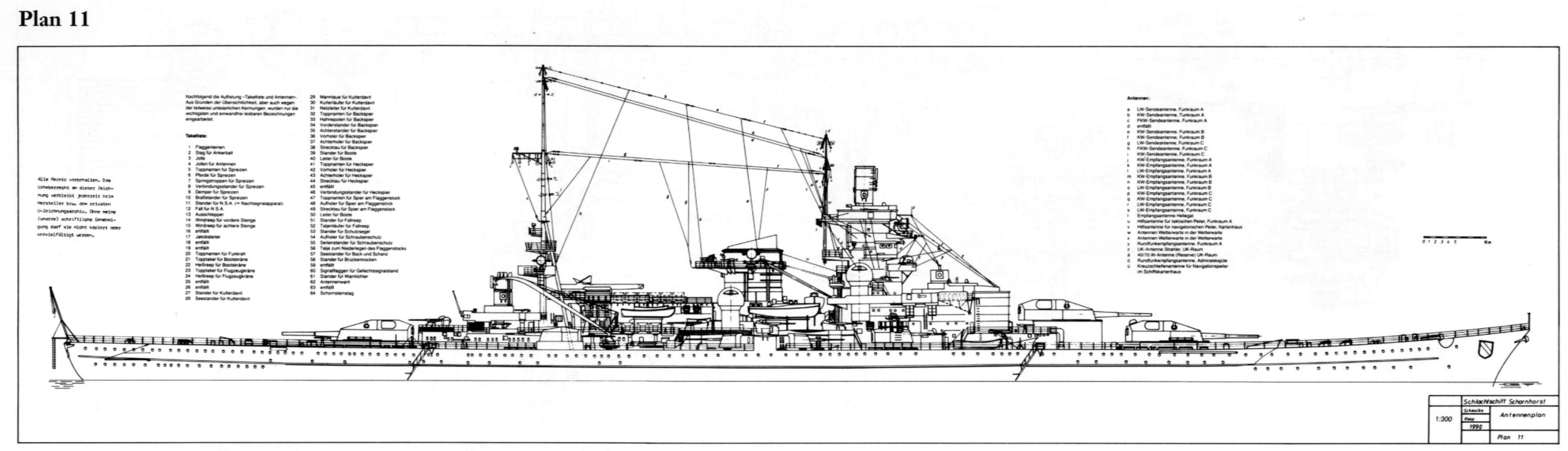
8 марта 1943 г. "Scharnhorst" вышел из Готенхафена в Норвегию (операция "Падерборн"). Прибыв в бухту Боген у Нарвика корабль получил характерный "Норвежский" стояночный камуфляж.
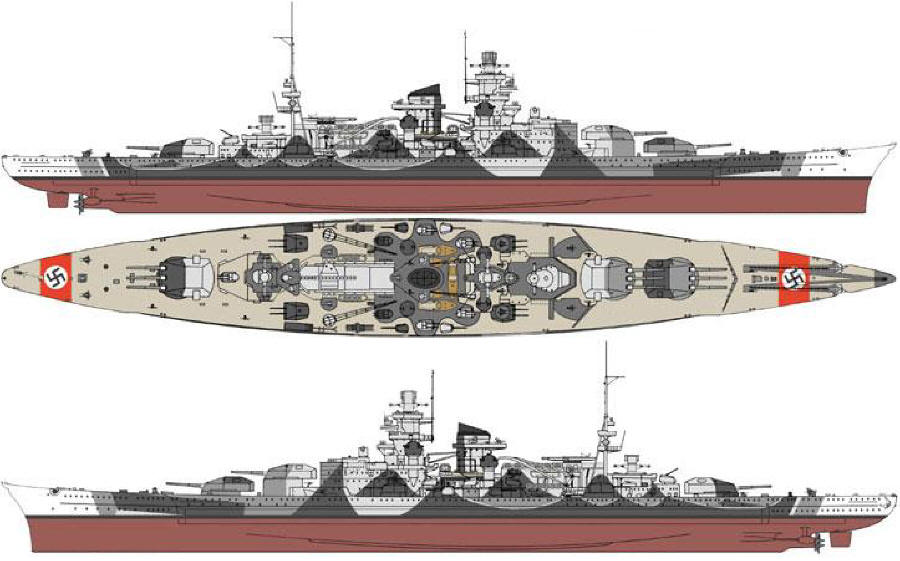



При редких выходах на операции корабль получал боевую окраску со светлыми оконечностями и крышами башен ГК.
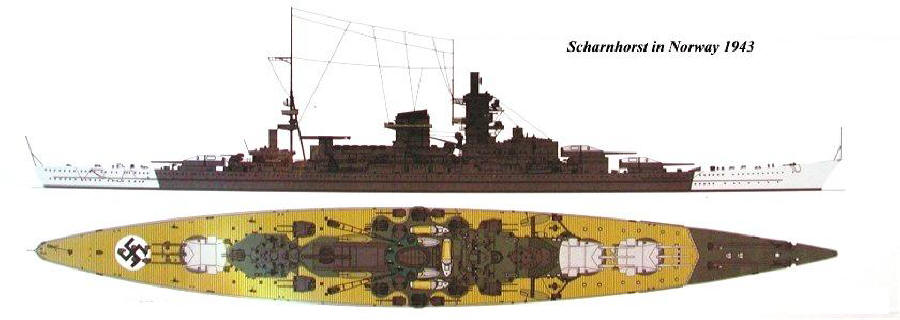
В такой окраске 26 декабря 1943 г. "Scharnhorst" был потоплен у м. Нордкап в Баренцевом море британскими кораблями во главе с ЛК "Duke of York" при попытке атаковать конвой "JW-55B", погибло 1803 человека.
Для идентификации с воздуха все крупные корабли Кригсмарине несли на полубаке изображение фашистской свастики в белом круге, и на "Gneisenau" она была больше, чем на "Scharnhorst".
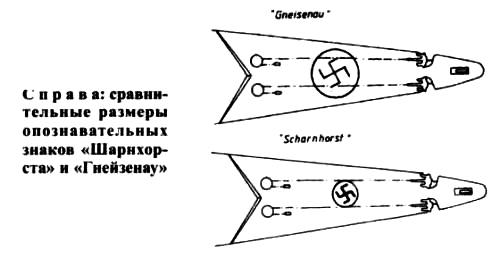
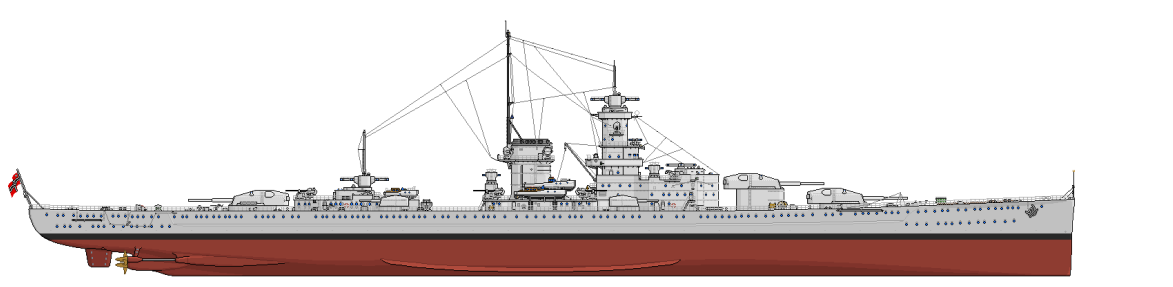
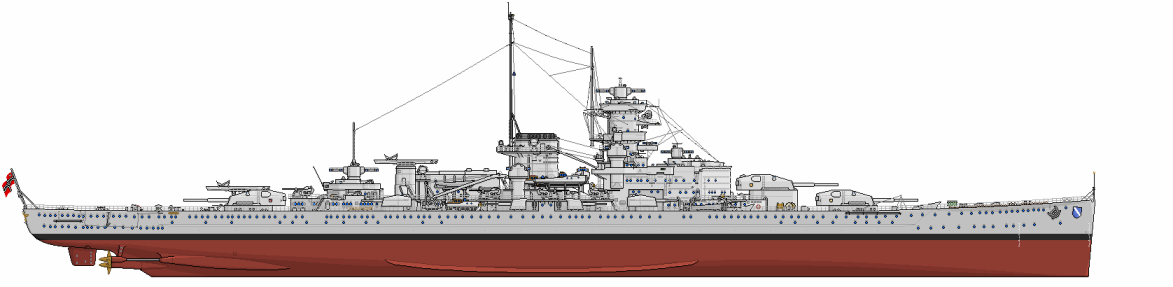
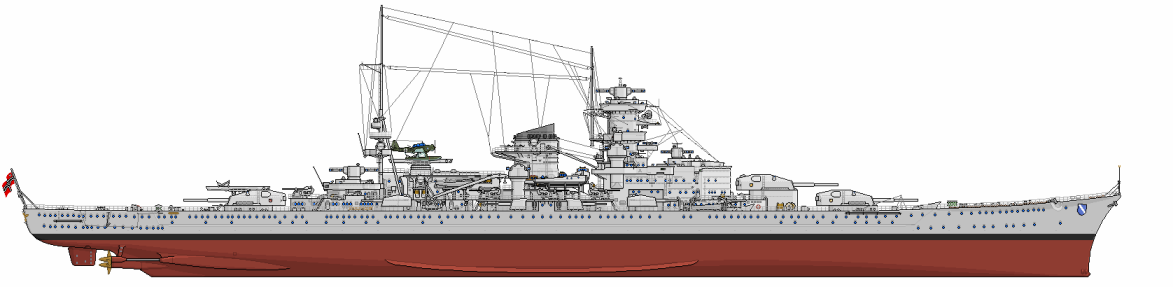
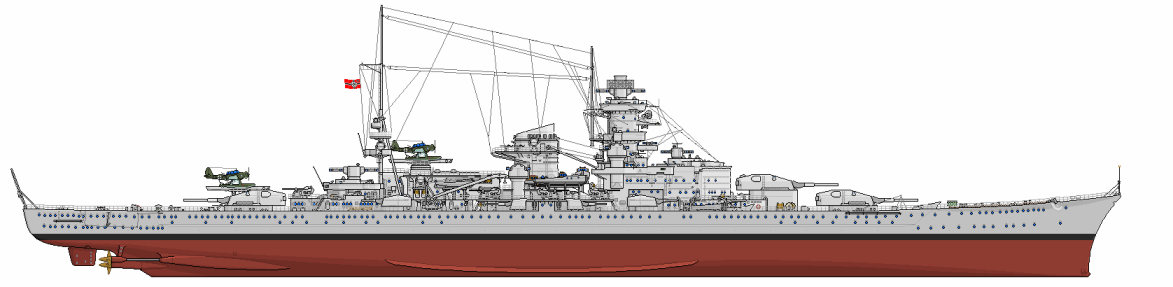
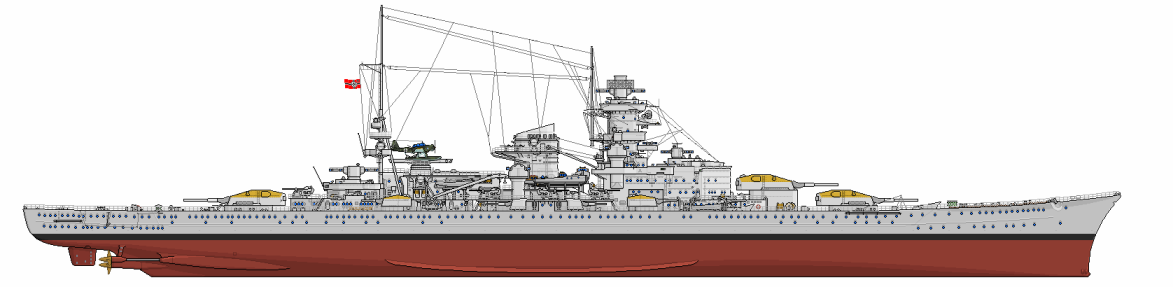
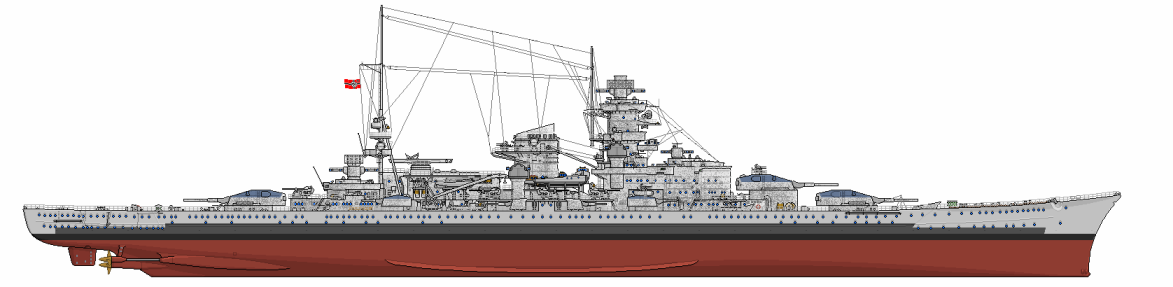
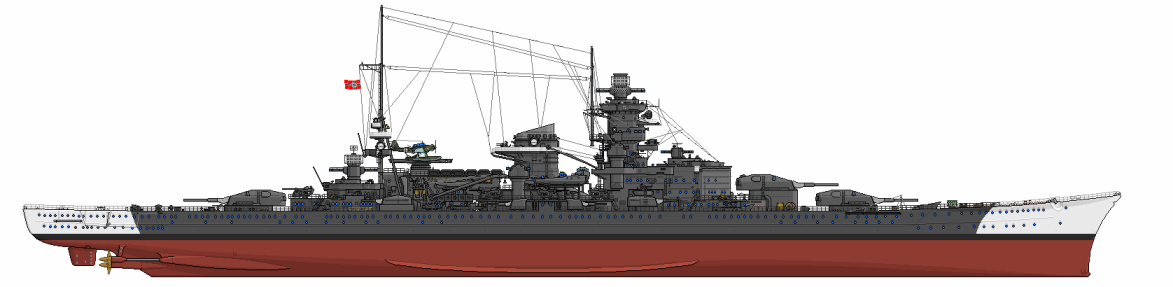
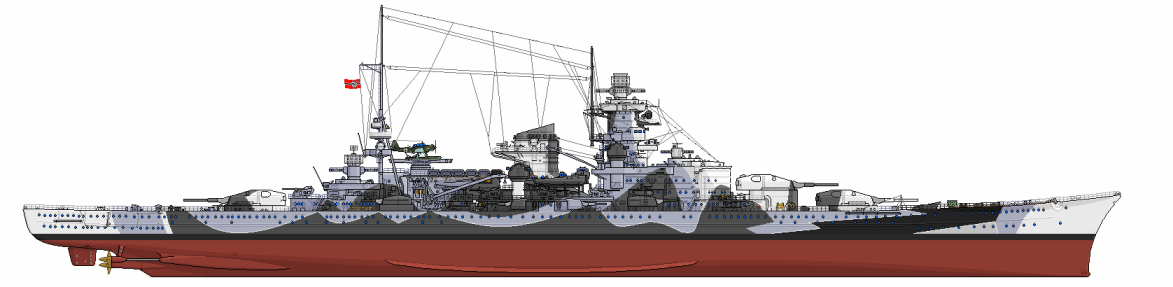
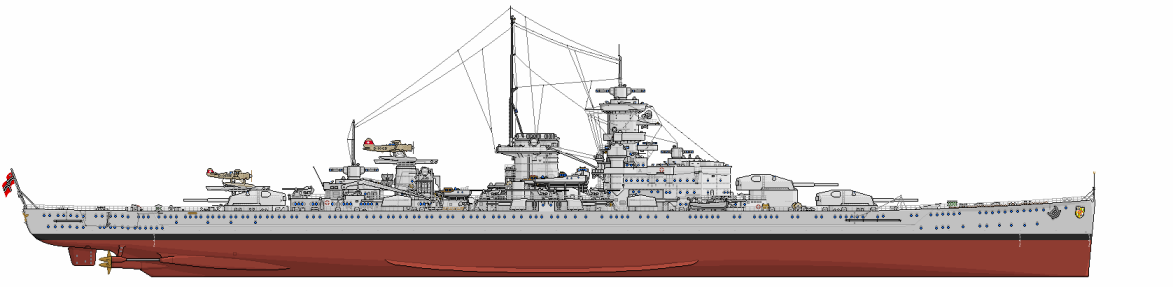
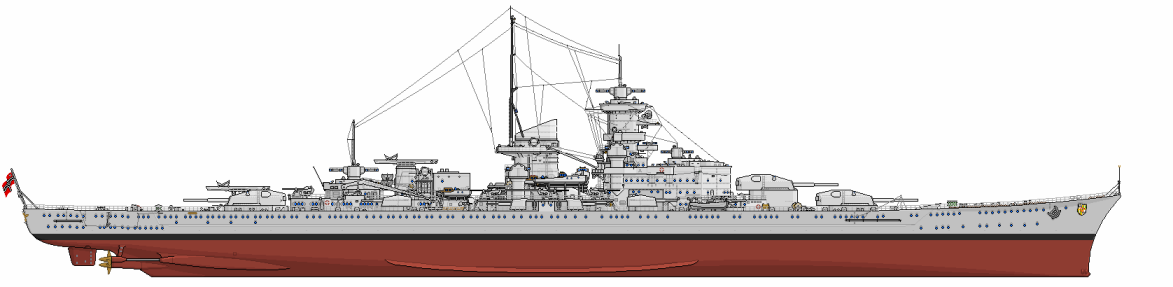
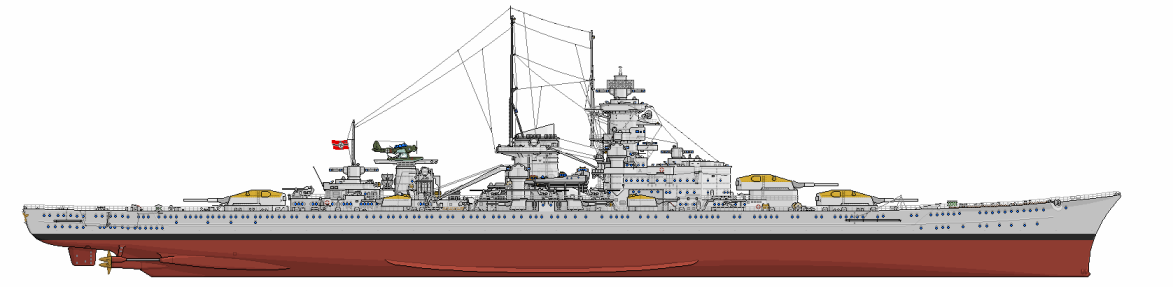
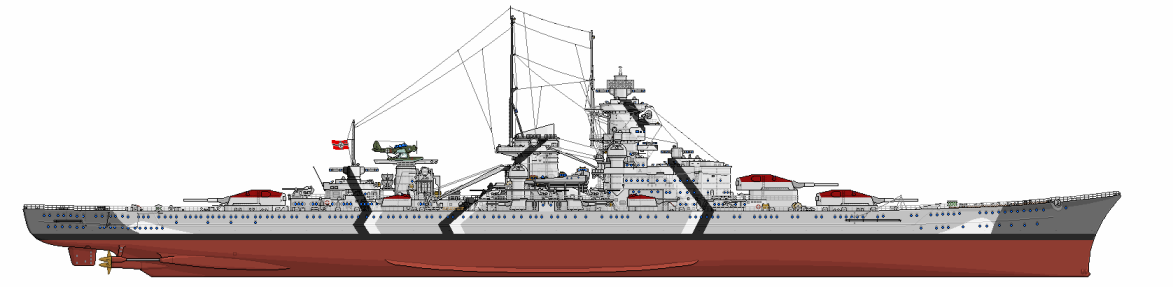
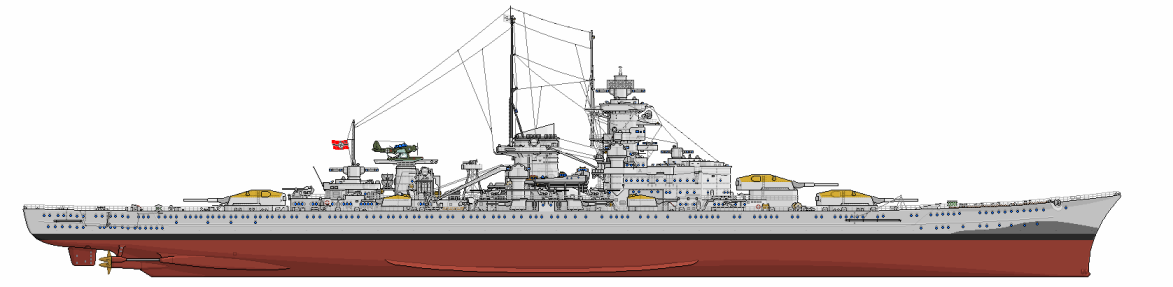
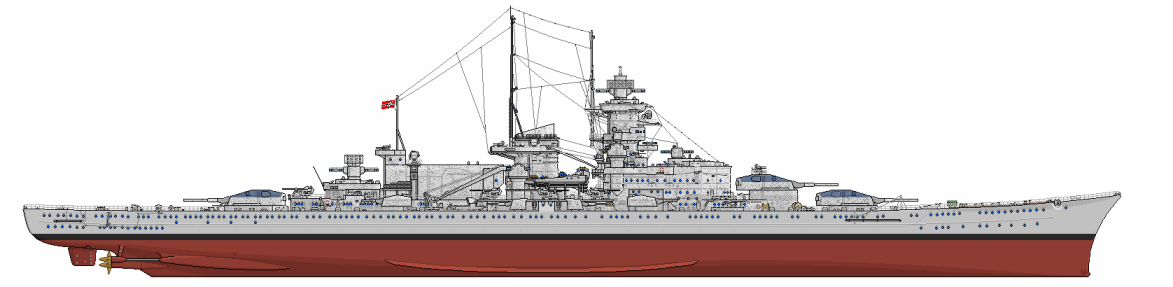
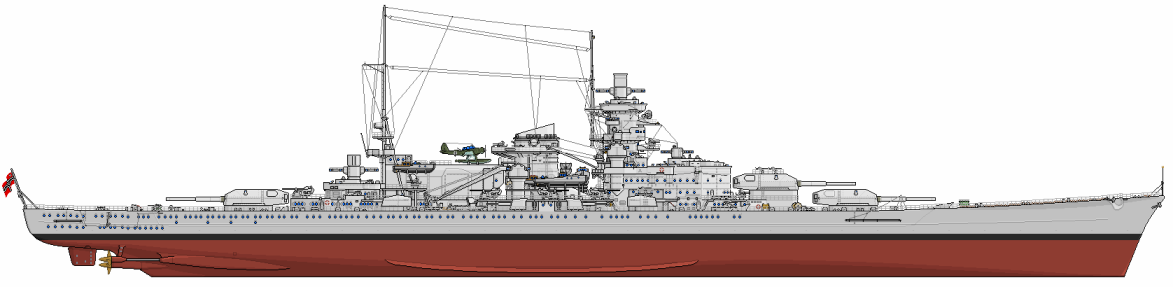
|
|
| ПОСТРОЙКА И ИСПЫТАНИЯ |
Броненосные корабли "D — Ersatz Elsaß" и "Е — Ersatz Hessen" заложили на военной верфи Вильгельмсхафена и на верфи фирмы Дойче Верке в Киле 14 февраля 1934 года. Но уже 5 июля постройку приостановили в связи с принятым решением строить линейные крейсера значительно больших размеров. Перезакладка состоялась соответственно 15 июня и 6 мая 1935 года.
Спуск на воду и достройка "Scharnhorst".

 18 октября, было решено выдать заказы на постройку двух 19 000-тонных 2-башенных броненосных кораблей, официально выдавая их за
10 000-тонных последователей "Deutschland". 25 января 1934 года военная верфь в Вильгельмсхафене получила заказ на постройку теперь уже 18 000-тонного броненосного корабля "D — Ersatz Elsaß", который заложили 14 февраля под строительным номером 135.
18 октября, было решено выдать заказы на постройку двух 19 000-тонных 2-башенных броненосных кораблей, официально выдавая их за
10 000-тонных последователей "Deutschland". 25 января 1934 года военная верфь в Вильгельмсхафене получила заказ на постройку теперь уже 18 000-тонного броненосного корабля "D — Ersatz Elsaß", который заложили 14 февраля под строительным номером 135.
В 1934 году Франция объявила о закладке второго линейного крейсера типа "Dunkerque" — "Straßburg", и нужно было срочно принимать ответные меры. Гитлер дал добро на добавление третьей башни и увеличение водоизмещения до 26 000 т. Постройку броненосца прекратили 5 июля, а конструкторы приступили к перепроектированию, которое, закончилось в мае 1935 года. Как раз к этому времени успешно завершились испытания новых 283-мм орудий, и работы на стапеле возобновились. Перезакладка состоялась 15 июня 1935 года.
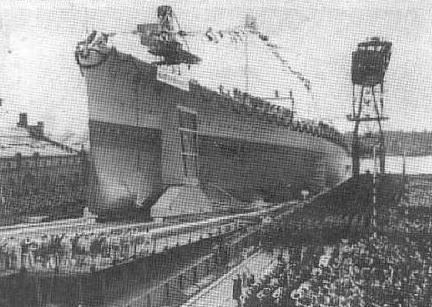 Спуск состоялся 3 октября 1936 года. Церемония была очень торжественной, на ней присутствовал сам Адольф Гитлер. Корабль был назван в честь броненосного крейсера "Scharnhorst" (сп. в 1906 г.)
Спуск состоялся 3 октября 1936 года. Церемония была очень торжественной, на ней присутствовал сам Адольф Гитлер. Корабль был назван в честь броненосного крейсера "Scharnhorst" (сп. в 1906 г.)
Проведение верфью большого объема ремонтных работ и задержки в поставках некоторого оборудования, например, турбогенераторов, сказались на сроках постройки.
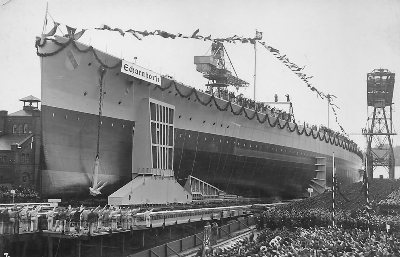
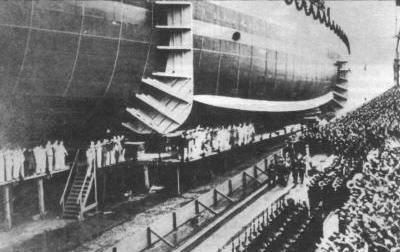
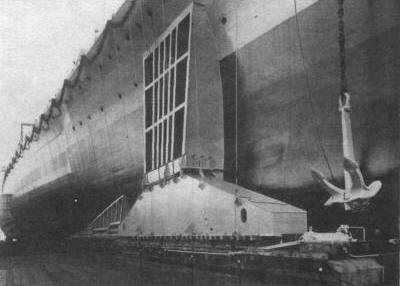
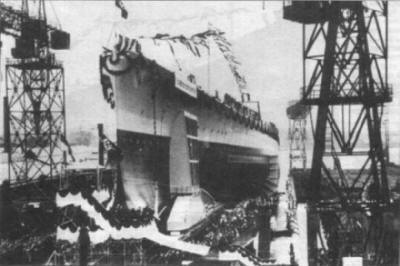




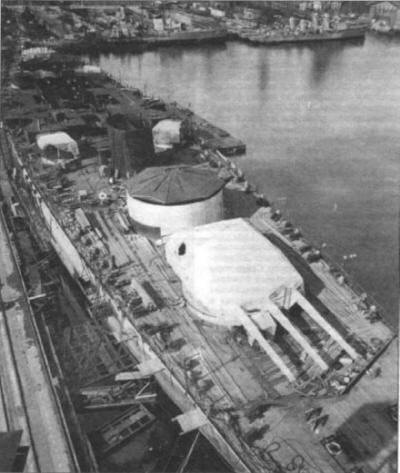
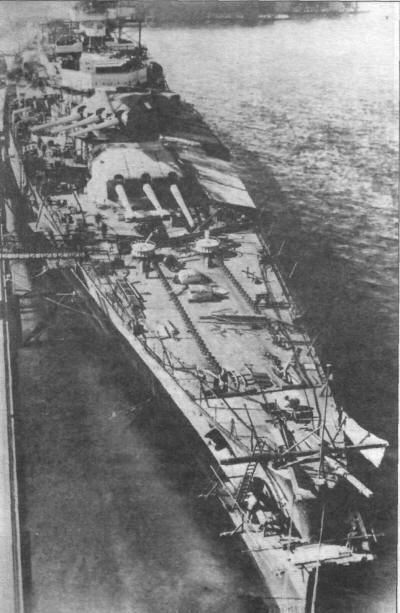



Корабль вошел в строй 7 января 1939 года, первым командиром назначили капитана цур зее (капитана 1 ранга) Отто Цилиакса.
Спуск на воду и достройка "Gneisenau".
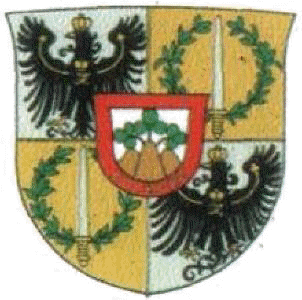
 18 октября, было решено выдать заказы на постройку двух 19 000-тонных 2-башенных броненосных кораблей, официально выдавая их за 10 000-тонных последователей "Deutschland". 25 января 1934 года верфь фирмы Дойче Верке в Киле получила заказ на постройку теперь уже 18 000-тонного броненосного корабля "Е — Ersatz Hessen", который заложили 14 февраля под строительным номером 235.
18 октября, было решено выдать заказы на постройку двух 19 000-тонных 2-башенных броненосных кораблей, официально выдавая их за 10 000-тонных последователей "Deutschland". 25 января 1934 года верфь фирмы Дойче Верке в Киле получила заказ на постройку теперь уже 18 000-тонного броненосного корабля "Е — Ersatz Hessen", который заложили 14 февраля под строительным номером 235.
В 1934 году Франция объявила о закладке второго линейного крейсера типа "Dunkerque" — "Straßburg", и нужно было срочно принимать ответные меры. Гитлер дал добро на добавление третьей башни и увеличение водоизмещения до 26 000 т. Постройку броненосца прекратили 5 июля, а конструкторы приступили к перепроектированию, которое, закончилось в мае 1935 года. Как раз к этому времени успешно завершились испытания новых 283-мм орудий, и работы на стапеле возобновились. Перезакладка состоялась 6 мая 1935 года.
 Корабль спустили 8 декабря 1936 года и назвали в честь броненосного крейсера "Gneisenau" (сп. в 1906 г.). При этом разорвалась одна из мощных цепей, удерживавших корпус от разгона, и корабль, врезавшись в противоположный берег, повредил корму, въехав в причал на 4 метра. На снятие его с мели потребовалось несколько часов.
Корабль спустили 8 декабря 1936 года и назвали в честь броненосного крейсера "Gneisenau" (сп. в 1906 г.). При этом разорвалась одна из мощных цепей, удерживавших корпус от разгона, и корабль, врезавшись в противоположный берег, повредил корму, въехав в причал на 4 метра. На снятие его с мели потребовалось несколько часов.
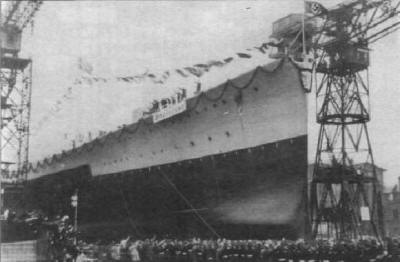
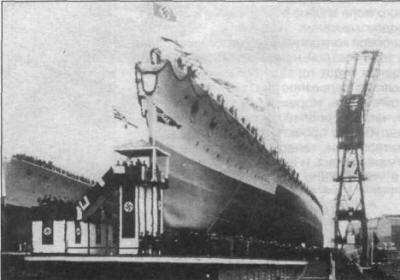

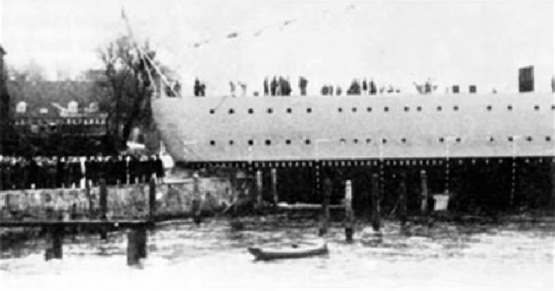
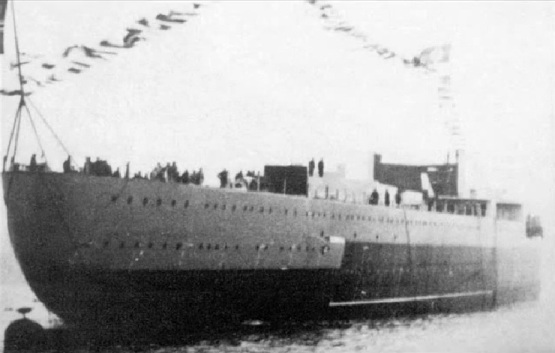
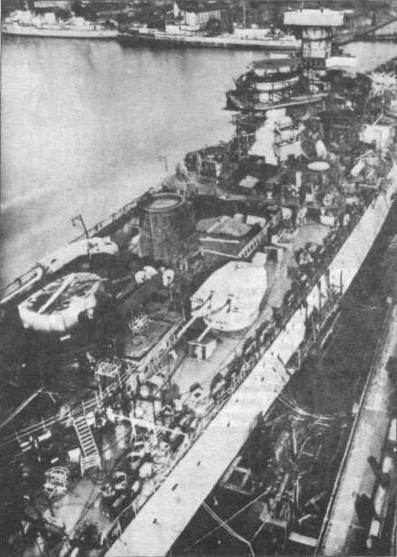
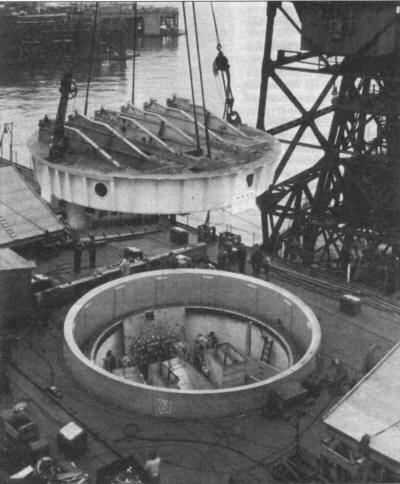
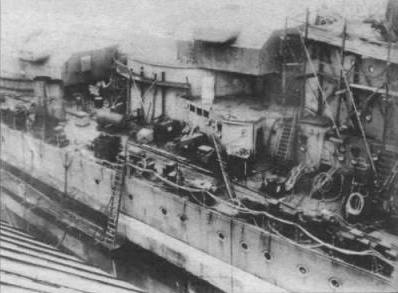

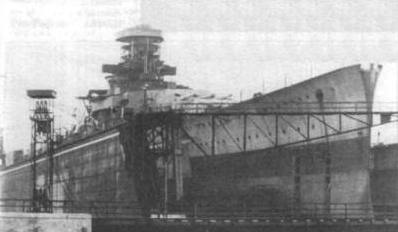

Укомплектовали новый линейный крейсер 21 мая 1938 года, и первым его командиром стал капитан цур зее Эрих Фёрсте.
Войдя в строй первым, "Gneisenau" провел первый год службы в бесконечных испытаниях и тренировках экипажа. В первые выходы в море он был ещё без КДП.


В ходе учебных походов корабль плавал к Британским островам.







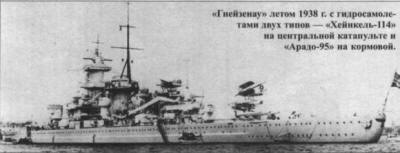
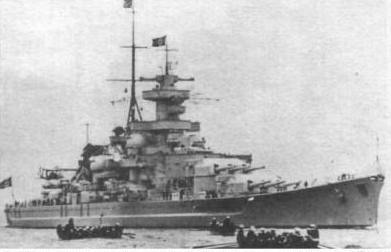

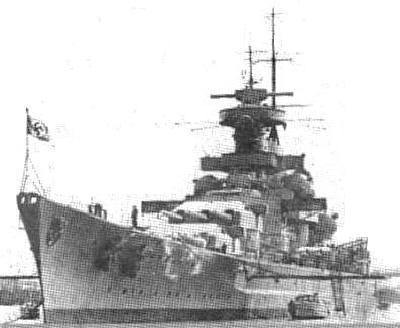







Плавания по Балтике и Северному морю в штормовую погоду показали, что высота борта в носу явно недостаточная. При первом же плановом ремонте на верфи зимой 1938/39 года носовую часть переделали, увеличив развал шпангоутов, наклон форштевня и его подъем кверху. Сперва якоря оставили в клюзах, позже их подняли на уровень палубы бака.





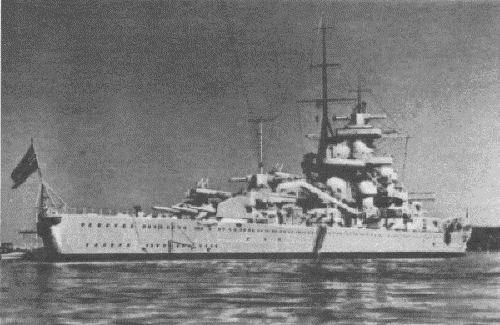


 В июне 1939 года адмирал Редер послал "Gneisenau" в плавание по Атлантике, в основном для артиллерийской практики, поскольку Гитлер заверил, что держит политическую ситуацию в Европе под контролем. Корабль принял в погреба учебные снаряды и почти не имел боевых. Позднее Редер комментировал: "В любое другое, даже более мирное, время ни один корабль не уходил из своих вод без полного боезапаса, и если бы я чувствовал приближение войны, то никогда не разрешил бы ему ("Gneisenau") выйти в море неготовым к бою. Ни командующий дивизией линкоров (адмирал Герман Боем), ни главнокомандующий флотом не проявляли ни малейшего беспокойства по этому поводу".
В июне 1939 года адмирал Редер послал "Gneisenau" в плавание по Атлантике, в основном для артиллерийской практики, поскольку Гитлер заверил, что держит политическую ситуацию в Европе под контролем. Корабль принял в погреба учебные снаряды и почти не имел боевых. Позднее Редер комментировал: "В любое другое, даже более мирное, время ни один корабль не уходил из своих вод без полного боезапаса, и если бы я чувствовал приближение войны, то никогда не разрешил бы ему ("Gneisenau") выйти в море неготовым к бою. Ни командующий дивизией линкоров (адмирал Герман Боем), ни главнокомандующий флотом не проявляли ни малейшего беспокойства по этому поводу".

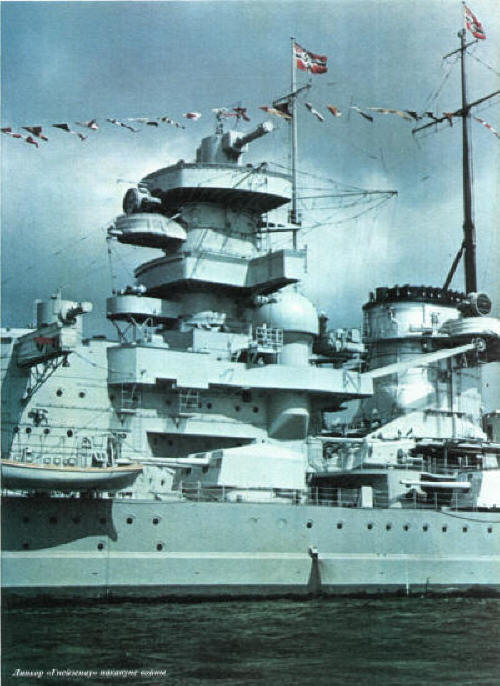
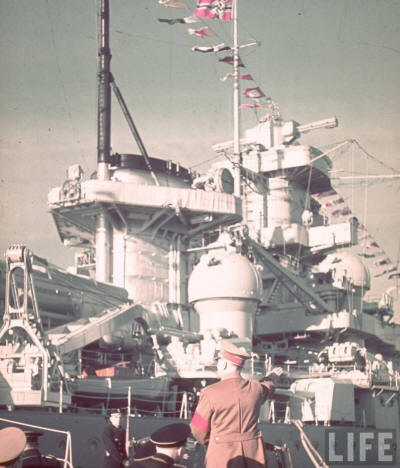


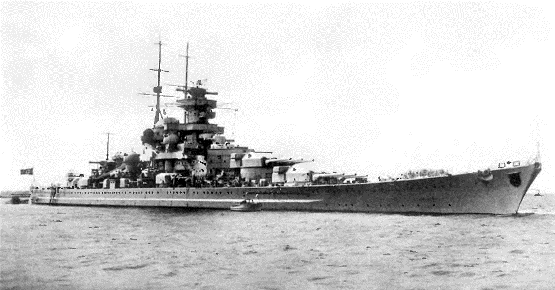
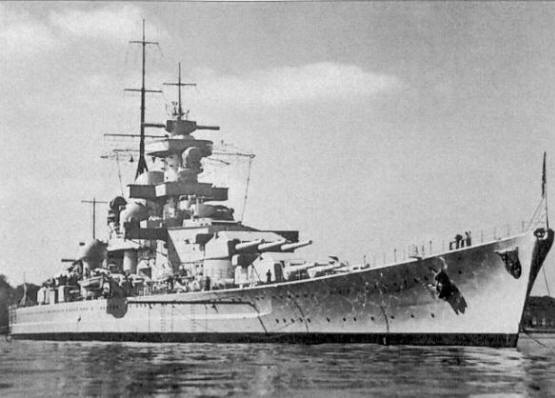




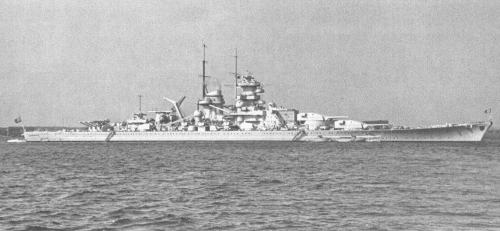



7 января 1939 г. "Scharnhorst" вступил в строй. Предварительные испытания выявили ряд недостатков в различных системах и оборудовании корабля, в том числе новых котлов, и это потребовало значительных переделок и доводок. Обнаружились недостаточная высота борта в носу и дифферент на нос.




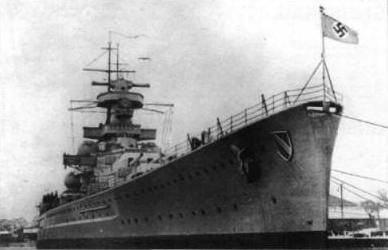







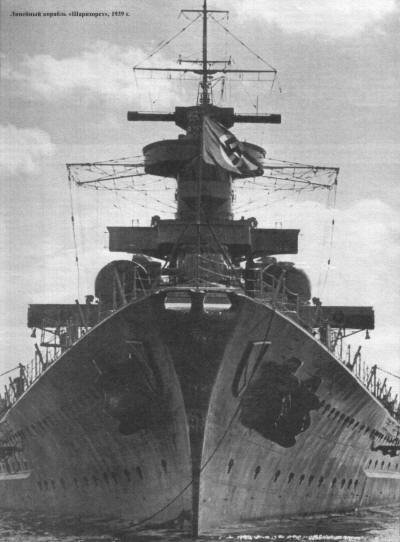
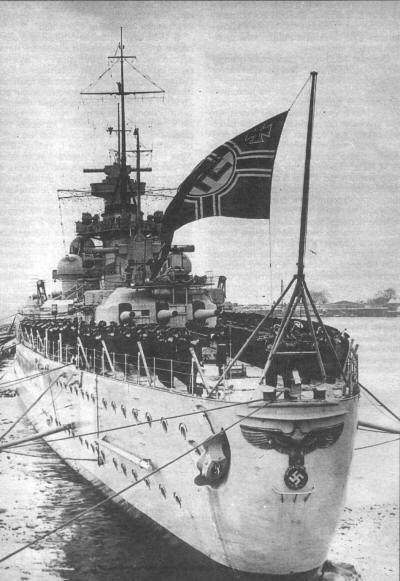
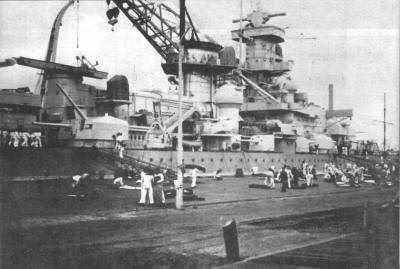



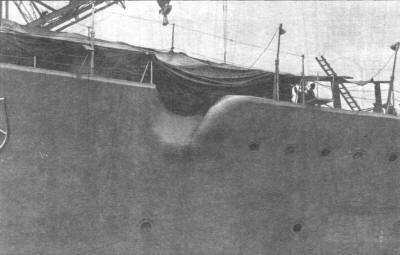
 В августе носовую часть переделали, увеличили самолетный ангар, установили треногую грот-мачту.
В августе носовую часть переделали, увеличили самолетный ангар, установили треногую грот-мачту.
2 сентября "Scharnhorst" совершил короткий испытательный пробег, после которого пришлось провести ряд работ с трубками перегревателей котлов. Перейдя вместе с "Gneisenau" на Балтику, он во время учебных стрельб получил повреждения ангара и гидросамолета на средней катапульте (от дульных газов), а также испытывал сложности с центральной турбиной. После двухнедельного ремонта на верфи (тогда же установили радар) "Scharnhorst" вернулся в Северное море. Произведенного в чин контр-адмирала Отто Цилиакса на посту командира корабля сменил капитан цур зее Курт Хоффманн.

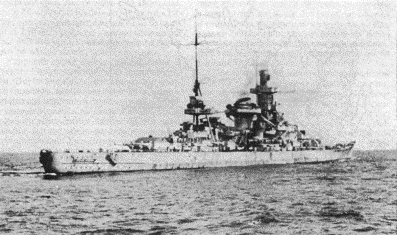






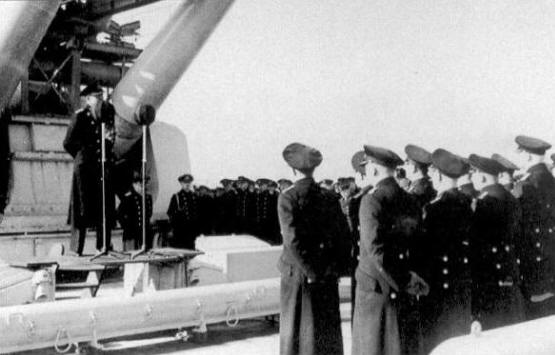
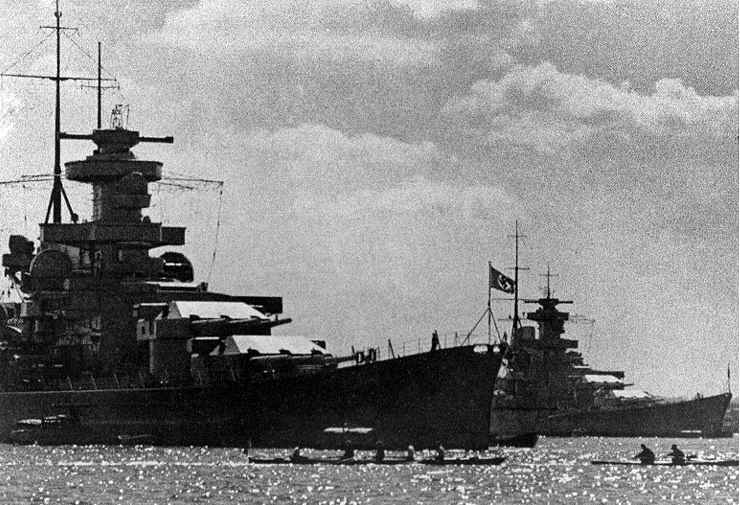
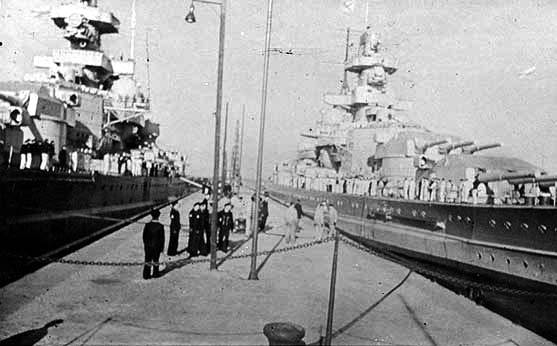
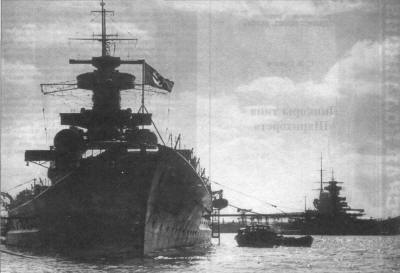
| В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ |
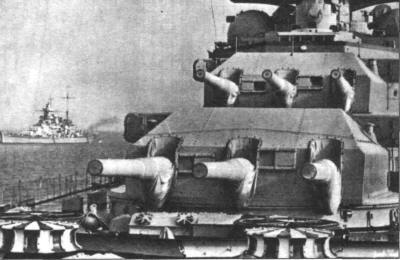 1 сентября 1939 года "Gneisenau" встретил в полной боевой готовности. С корпуса сняли герб и название, убрали пожароопасные шлюпки. В 13.25 3 сентября флот получил сигнал о начале военных действий против Англии, а уже на следующий день "Gneisenau" вместе с еще не вполне готовым к боевым действиям "Scharnhorst" на якорной стоянке в Брунсбюттеле (устье Эльбы) подвергся атаке 14 бомбардировщиков "Веллингтон" ВВС Британии, но без каких-либо повреждений. Зато истребители Люфтваффе сумели сбить два английских самолета.
1 сентября 1939 года "Gneisenau" встретил в полной боевой готовности. С корпуса сняли герб и название, убрали пожароопасные шлюпки. В 13.25 3 сентября флот получил сигнал о начале военных действий против Англии, а уже на следующий день "Gneisenau" вместе с еще не вполне готовым к боевым действиям "Scharnhorst" на якорной стоянке в Брунсбюттеле (устье Эльбы) подвергся атаке 14 бомбардировщиков "Веллингтон" ВВС Британии, но без каких-либо повреждений. Зато истребители Люфтваффе сумели сбить два английских самолета.
8 сентября оба корабля прошли Кильским каналом для учебных стрельб по старому броненосцу "Hessen" и мелкого ремонта на верфи Киля. После пробного выхода в Балтийское море "Gneisenau" 5 октября Кильским каналом вернулся в Северное море, и на нем поднял свой флаг контр-адмирал Боем.
 8 октября "Gneisenau" вместе с легким крейсером "Köln" и девятью эсминцами вышел в море, чтобы отвлечь англо-французские силы, занятые охотой за "Deutschland" и "Admiral Graf Spee". Обнаруженное британской авиаразведкой, это соединение смогло дойти только до о. Утсир около южного побережья Норвегии, а затем вернулось в Киль через Скагеррак и Каттегат. Посланные в атаку 12 "Веллингтонов" цель не обнаружили. В ответ на этот выход британское Адмиралтейство послало в море свой Флот метрополии, который подвергся налетам германской авиации, также безрезультатным.
8 октября "Gneisenau" вместе с легким крейсером "Köln" и девятью эсминцами вышел в море, чтобы отвлечь англо-французские силы, занятые охотой за "Deutschland" и "Admiral Graf Spee". Обнаруженное британской авиаразведкой, это соединение смогло дойти только до о. Утсир около южного побережья Норвегии, а затем вернулось в Киль через Скагеррак и Каттегат. Посланные в атаку 12 "Веллингтонов" цель не обнаружили. В ответ на этот выход британское Адмиралтейство послало в море свой Флот метрополии, который подвергся налетам германской авиации, также безрезультатным.
В октябре к флагману наконец-то присоединился "Scharnhorst". 14 октября он участвовал в торжественной встрече подлодки U-47, потопившей британский линкор "Royal Oak".




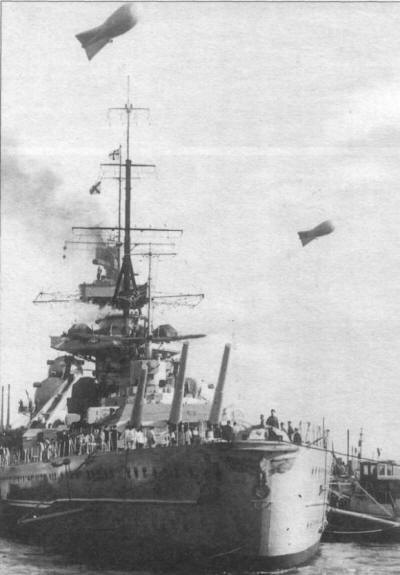

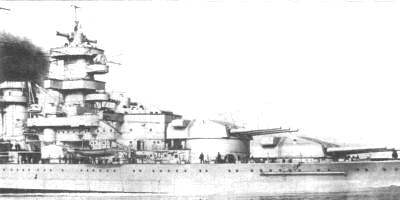
"Gneisenau" (флаг нового командующего линейным флотом вице-адмирала Вильгельма Маршалла) и "Scharnhorst" в сопровождении легких крейсеров "Leipzig", "Köln" и трех эсминцев 21 ноября 1939 года вышли из Вильгельмсхафена для нанесения ударов по британским патрульным судам 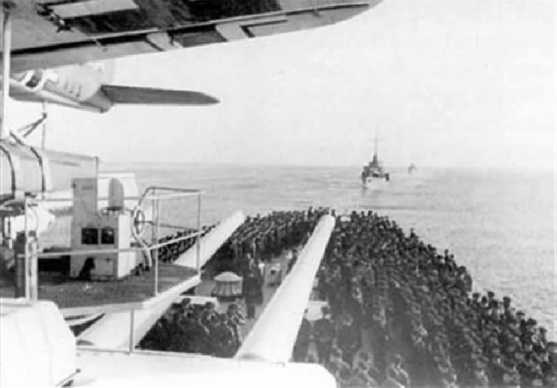 между Исландией и Фарерскими островами.
между Исландией и Фарерскими островами.
Эта операция имела целью отвлечь французские и британские корабли из южной Атлантики, где они сжимали кольцо вокруг рейдера "Admiral Graf Spee". Как только оба линейных крейсера прошли минные поля, легкие корабли из-за сильного шторма вернулись в базу. Строем пеленга, с "Gneisenau" во главе и с "Scharnhorst" в 20 000 м справа сзади, они на 27-узловой скорости устремились в разыгравшееся сильным штормом открытое море. От ударов волн оба корабля получили повреждения корпуса, а в носовые башни и погреба стала поступать вода. Пришлось уменьшить скорость до 12 узлов.
 Вскоре сигнальщики обнаружили на горизонте английские корабли. В 16.07 23 ноября с "Scharnhorst" заметили вспомогательный крейсер "Rawalpindi" — бывший лайнер компании Р&О, вооруженный восемью устаревшими 152-мм орудиями. Этот корабль был крайним с востока в крейсерском патруле, который также включал новый "Newcastle" и устаревшие "Dehli", "Calypso" и "Ceres". В 17.03 "Scharnhorst" открыл огонь по практически беззащитному судну, а спустя восемь минут к нему присоединился "Gneisenau". В 17.06 залп 283-мм снарядов попал в надстройку вспомогательного крейсера, убив капитана Э. Кеннеди и большинство офицеров. Среди горы обломков начались сильные пожары. Еще через 10 минут огонь германских кораблей превратил "Rawalpindi" в пылающую развалину, медленно погружавшуюся в воду. Всего "Gneisenau" израсходовал 53 283-мм снаряда и 106 —125 150-миллиметровых, а "Scharnhorst", огнем которого управлял корветтен-капитан Доминик, выпустил 89 283-мм и 109 150-мм снарядов, но и сам получил попадание 152-мм снаряда в корму. Имелись раненые и небольшие повреждения от осколков. В 17.16 они прекратили огонь ввиду отсутствия цели - "Rawalpindi" затонул.
Вскоре сигнальщики обнаружили на горизонте английские корабли. В 16.07 23 ноября с "Scharnhorst" заметили вспомогательный крейсер "Rawalpindi" — бывший лайнер компании Р&О, вооруженный восемью устаревшими 152-мм орудиями. Этот корабль был крайним с востока в крейсерском патруле, который также включал новый "Newcastle" и устаревшие "Dehli", "Calypso" и "Ceres". В 17.03 "Scharnhorst" открыл огонь по практически беззащитному судну, а спустя восемь минут к нему присоединился "Gneisenau". В 17.06 залп 283-мм снарядов попал в надстройку вспомогательного крейсера, убив капитана Э. Кеннеди и большинство офицеров. Среди горы обломков начались сильные пожары. Еще через 10 минут огонь германских кораблей превратил "Rawalpindi" в пылающую развалину, медленно погружавшуюся в воду. Всего "Gneisenau" израсходовал 53 283-мм снаряда и 106 —125 150-миллиметровых, а "Scharnhorst", огнем которого управлял корветтен-капитан Доминик, выпустил 89 283-мм и 109 150-мм снарядов, но и сам получил попадание 152-мм снаряда в корму. Имелись раненые и небольшие повреждения от осколков. В 17.16 они прекратили огонь ввиду отсутствия цели - "Rawalpindi" затонул.
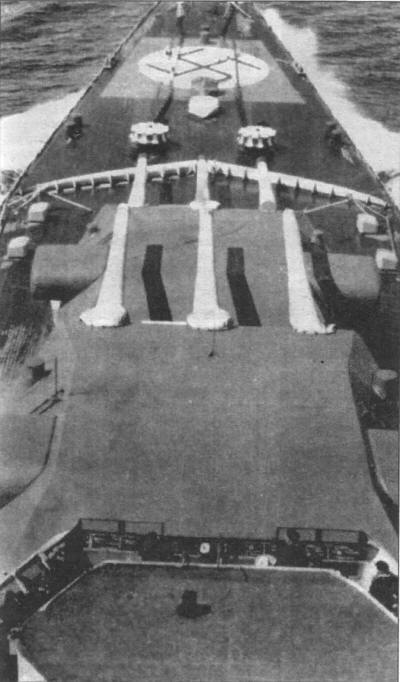 Вице-адмирал Маршалл приказал "Scharnhorst" подобрать уцелевших британских моряков. Однако появившийся вскоре "Newcastle" заставил немцев прервать это занятие и под прикрытием дымовой завесы быстро покинуть поле боя. Они легли курсом на север, чтобы, дождавшись плохой погоды, вернуться в базу. Из-за плохой видимости противники так и не смогли точно узнать друг друга. Англичане посчитали, что "Rawalpindi" потопил "Deutschland" с помощью крейсера "Emden", поэтому они и бросили на помощь сначала только легкие крейсера, вооруженные 152-мм артиллерией. Немцы же, не зная, какие силы перед ними, упустили прекрасную возможность вслед за "Rawalpindi" расправиться с четверкой крейсеров.
Вице-адмирал Маршалл приказал "Scharnhorst" подобрать уцелевших британских моряков. Однако появившийся вскоре "Newcastle" заставил немцев прервать это занятие и под прикрытием дымовой завесы быстро покинуть поле боя. Они легли курсом на север, чтобы, дождавшись плохой погоды, вернуться в базу. Из-за плохой видимости противники так и не смогли точно узнать друг друга. Англичане посчитали, что "Rawalpindi" потопил "Deutschland" с помощью крейсера "Emden", поэтому они и бросили на помощь сначала только легкие крейсера, вооруженные 152-мм артиллерией. Немцы же, не зная, какие силы перед ними, упустили прекрасную возможность вслед за "Rawalpindi" расправиться с четверкой крейсеров.
За такую нерешительность, а также за большой расход снарядов при потоплении вспомогательного судна вице-адмирал Маршалл затем подвергся резкой критике со стороны командования, хотя немецкая пропаганда поспешила объявить этот поход крупным успехом германского оружия. Обратный путь проходил в такую же штормовую погоду, и корабли снова получили повреждения: вода заливала носовые башни, а также — через щели между деформированными листами обшивки — носовые кубрики экипажа. Из-за недостаточной высоты борта линейные крейсера большую часть перехода принимали воду всей носовой частью, ледяные потоки заливали даже мостики и платформы носовой надстройки, так что управление пришлось перенести в боевую рубку. Союзники послали в погоню мощные силы из линкоров и линейных крейсеров ("Hood", "Dunkerque", "Nelson", "Rodney"), но рейдеры, пройдя проливом между Бергеном и Шетландскими островами, 27 ноября благополучно вернулись в Вильгельмсхафен для ремонта штормовых повреждений. Тогда же на "Scharnhorst" произвели ремонт котлов, на "Gneisenau", перешедшем в Киль, в течение семинедельного ремонта на военной верфи снова переделали нос, увеличив развал шпангоутов и подъем форштевня. В ноябре на него назначили нового командира — Харальда Нетцбандта.
Англичане не хотели смириться с тем, что безнаказанно упустили немецкие рейдеры и 17 декабря предприняли налет на Вильгельмсхафен силами 24 бомбардировщиков "Веллингтон". Стоявший там "Scharnhorst" в течение 8 минут вел неэффективную стрельбу своими зенитными автоматами (мешали краны и здания верфи), зато 10 самолетов сбили "мессершмитты".



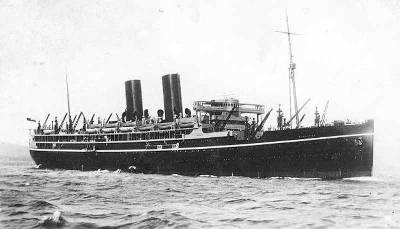
11 января 1940 года "Scharnhorst" перешел в Киль, где соединился с "Gneisenau" для учений и артиллерийской практики, которая началась 15 января. Но слишком холодная зима заставила корабли вернуться в главную базу. Преодолевая толстый лед в Кильском канале, 4 февраля "Gneisenau" и днем позже "Scharnhorst" вышли в Вильгельмсхафен. Для "Gneisenau" двухсуточный переход не прошел бесследно, и 10 — 15 февраля ему пришлось ремонтировать в доке ледовые повреждения, в частности, оба внешних винта. Тогда же для целей идентификации крыши башен окрасили в желтый цвет.







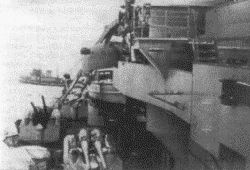
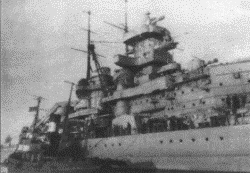








| ОПЕРАЦИИ В СЕВЕРНОМ МОРЕ В 1940 г. |
18 февраля 1940 г. "Gneisenau", "Scharnhorst", тяжелый крейсер "Admiral Hipper" и два эсминца вышли из устья реки Яде для атаки британских конвоев в Норвегию и обратно. Достигнув прохода у Шетландских островов и не встретив ни одного судна, командующий операцией адмирал Маршалл 20 февраля повел соединение в базу.
 Обе главные боевые единицы Кригсмарине полтора месяца простояли на якорях в Вильгельмсхафене, проводя различные тренировки. Во время учений 6 марта разбился один из самолетов "Scharnhorst" и, хотя повреждения удалось исправить, оба летчика погибли. "Gneisenau" же около месяца провел на верфи, где с его кормовой башни сняли катапульту, а с кормовой надстройки — самолетный кран.
Обе главные боевые единицы Кригсмарине полтора месяца простояли на якорях в Вильгельмсхафене, проводя различные тренировки. Во время учений 6 марта разбился один из самолетов "Scharnhorst" и, хотя повреждения удалось исправить, оба летчика погибли. "Gneisenau" же около месяца провел на верфи, где с его кормовой башни сняли катапульту, а с кормовой надстройки — самолетный кран.
 Вторжение в Норвегию (операция "Везерюбунг").
Вторжение в Норвегию (операция "Везерюбунг").
7 апреля 1940 года "Gneisenau" (флаг вице-адмирала Гюнтера Лютьенса), "Scharnhorst", "Admiral Hipper" и 14 эсминцев на 24-узловой скорости шли вдоль побережья Норвегии, направляясь к Тронхейму и Нарвику. Вторжение планировалось начать силами флота и армии одновременно с севера и юга (Осло). На борту "Admiral Hipper" и эсминцев находились десантные войска, а линейные крейсера осуществляли прикрытие высадки. Как только попытались увеличить ход до 27 узлов, на "Scharnhorst" вышел из строя паровой клапан, что привело к 15-минутной остановке левого вала. Спустя пару часов немецкую эскадру, направлявшуюся к Нарвику и Тронхейму, атаковали 12 бомбардировщиков "Бленхейм" 107-й эскадрильи королевских ВВС. Идущие строем фронта оба линкора и тяжелый крейсер открыли зенитный огонь из всех стволов. Шума и дыма было много, чего нельзя сказать о попаданиях в самолеты. Те ответили той же монетой — все 40 бомб упали мимо. Еще трем эскадрильям помешали выйти в атаку немецкие истребители прикрытия Bf-110, которым удалось сбить два "Веллингтона".
 Но английские летчики сообщили о местонахождении противника, и в 20.15 Флот метрополии вышел в море, предполагая, что немцы собираются мощными силами напасть на судоходство в северной Атлантике. К вечеру погода испортилась, разыгрался 8-балльный шторм, и пришлось включить радары. Снова немецкие корабли начали страдать от океанской волны, с трудом удерживая 9 узлов.
Но английские летчики сообщили о местонахождении противника, и в 20.15 Флот метрополии вышел в море, предполагая, что немцы собираются мощными силами напасть на судоходство в северной Атлантике. К вечеру погода испортилась, разыгрался 8-балльный шторм, и пришлось включить радары. Снова немецкие корабли начали страдать от океанской волны, с трудом удерживая 9 узлов.
Около 8 часов утра 8 апреля приблизительно в 100 милях от Тронхейма эсминец "Berndt von Arnim" в разрыве снежных шквалов обнаружил британский эсминец "Glowworm", который отстал от своего соединения (линейный крейсер "Renown", легкий крейсер "Birmingham" и эсминцы), находившегося несколько к западу от Тронхейма. После скоротечного боя, в котором приняли участие "Admiral Hipper" и 4 эсминца, "Glowworm" в 9.24 пошел ко дну, пытаясь перед гибелью протаранить немецкий крейсер. "Admiral Hipper" не получил серьезных повреждений и вместе с четырьмя эсминцами направился в Тронхейм. Около 21 часа оставшиеся 10 эсминцев с десантом отделились для атаки Нарвика.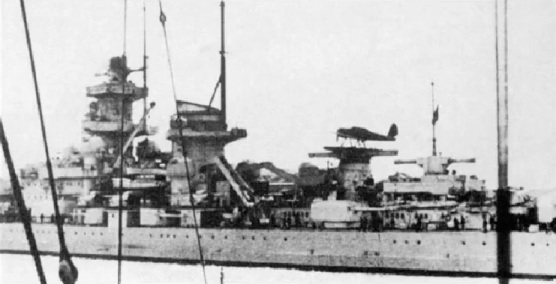
"Scharnhorst" и "Gneisenau" заняли позицию к западу от Вест-фиорда. На "Scharnhorst" вода через воздухозаборник попала в КО №2, и скорость пришлось уменьшить до 7 узлов. Ночью вода через вентиляционные шахты проникла в топливные цистерны "Gneisenau", сделав непригодными 470 кубометров нефти. Низкая облачность, частый дождь и снежные заряды сильно ограничивали видимость, особенно в западном направлении, откуда и мог появиться неприятель. Корабли Лютьенса находились в 50 милях к западу от южной оконечности Лофотенских островов, курс 310°, скорость 12 узлов.
 Бой с линейным крейсером "Renown".
Бой с линейным крейсером "Renown".
В 4.30 9 апреля радар на "Gneisenau" обнаружил крупную цель в 25 км по корме и на кораблях объявили боевую тревогу. Все еще не доверяя радару, командир "Gneisenau" капитан цур зее Харальд Нетцбандт приказал артиллерийскому офицеру фон Бухка проверить контакт дальномерами. Радары "Scharnhorst" все еще не давали контакта, а дождь и низкая облачность ограничивали видимость. Около 5.00 штурман "Scharnhorst" в зеркале секстана обнаружил вспышку от огня тяжелых орудий, а спустя 5 минут сигнальщики увидели силуэт крупного корабля. Это был "Renown", который с дистанции 11 800 м открыл огонь по "Gneisenau" из 381-мм орудий. Немцы ответили минутой позже, а в 5.18 "Renown" перенес огонь на "Scharnhorst". Лютьенс приказал повернуть от противника, но Нетцбандт попросил у адмирала разрешения довернуть на 20 градусов влево, чтобы могли стрелять носовые башни. Артиллерийская дуэль спорадически продолжалась до 6 часов, а затем, после 20-минутной паузы, до 7.15.
приказал артиллерийскому офицеру фон Бухка проверить контакт дальномерами. Радары "Scharnhorst" все еще не давали контакта, а дождь и низкая облачность ограничивали видимость. Около 5.00 штурман "Scharnhorst" в зеркале секстана обнаружил вспышку от огня тяжелых орудий, а спустя 5 минут сигнальщики увидели силуэт крупного корабля. Это был "Renown", который с дистанции 11 800 м открыл огонь по "Gneisenau" из 381-мм орудий. Немцы ответили минутой позже, а в 5.18 "Renown" перенес огонь на "Scharnhorst". Лютьенс приказал повернуть от противника, но Нетцбандт попросил у адмирала разрешения довернуть на 20 градусов влево, чтобы могли стрелять носовые башни. Артиллерийская дуэль спорадически продолжалась до 6 часов, а затем, после 20-минутной паузы, до 7.15.
Через 5 минут после открытия огня "Gneisenau" с помощью радара добился двух попаданий в противника. Один 283-мм снаряд пробил опору треногой фок-мачты "Renown" и улетел за борт, так и не взорвавшись. Второй ударил в правый борт в районе кормовой башни "Y" между верхней и главной палубами — над отделением рулевых машин, пролетел через весь корабль и, пробив левый борт, также упал в море.
Почти одновременно и "Gneisenau" получил два 381-мм снаряда. Первый пробил башенку директора (КДП), повредил множество электрокабелей и улетел за борт без разрыва. Осколками убило старшего артиллерийского офицера фрегаттен-капитана Х.-Г. фон Бухка и 5 матросов, ранило 8 или 9 человек, уничтожило оптические дальномеры носовых 150-мм орудий, башня директора оказалась сдвинутой в корму.
Второй снаряд повредил кормовую башню 283-мм орудий, которая замолчала до конца боя (по другим данным, в корабль попал один 381-мм снаряд и два среднего калибра). После попаданий "Gneisenau" прекратил огонь и увеличил скорость. Немцы уже определили, что "Renown" сопровождается восемью эсминцами, которые торпедами могли добить их корабли, если бы те получили повреждения или снизили скорость. "Gneisenau" выпустил 60 283-мм и 8 150-мм снарядов (по другим данным, соответственно 53 и 10), а "Scharnhorst" 195 283-мм снарядов (почти все бронебойные) и несколько 150-мм. 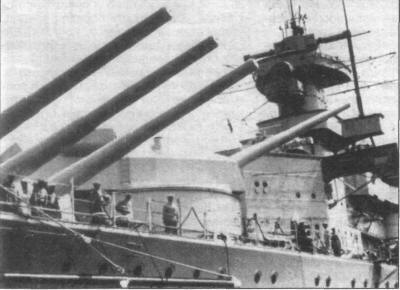 Последний так и не добился попаданий, возможно, из-за вышедшего из строя радара. Расход боезапаса на "Renown" оказался много больше: около 230 381-мм и 1065 114-мм (многовато ради двух-трех попаданий, даже принимая во внимание погоду и частую смену курса противником).
Последний так и не добился попаданий, возможно, из-за вышедшего из строя радара. Расход боезапаса на "Renown" оказался много больше: около 230 381-мм и 1065 114-мм (многовато ради двух-трех попаданий, даже принимая во внимание погоду и частую смену курса противником).
Немецкие корабли на высокой скорости вышли из боя. Несмотря на сделанные модификации корпусов, в штормовом море они брали носом огромные массы воды, которая каскадами проникала в главную палубу и развернутые за левый траверз носовые башни. Из-за проникновения воды в электроцепи подъемника боезапаса носовой башни "Gneisenau" возникло короткое замыкание. И на "Scharnhorst" носовая башня вышла из строя под ударами тяжелых волн. Вода проникала в башню через отверстия для выброса стреляных гильз, кожухи дальномеров и амбразуры орудий. В цепях электромоторов подачи боезапаса из-за попадания соленой воды произошло короткое замыкание. Когда "Scharnhorst" попытался увеличить ход до самого полного, пришлось остановить правую турбину, из-за чего скорость снизилась до 25 узлов.
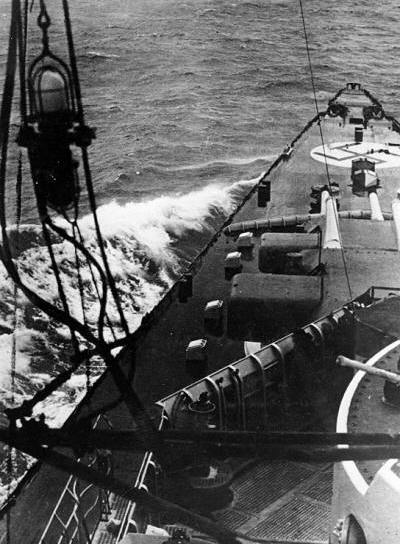 "Renown" и его эсминцы бросились в погоню, ведя непрерывный огонь из орудий среднего калибра. Частые вспышки выстрелов с эсминцев заставили немцев предположить, что их преследует мощное соединение. Тем не менее, им удалось увеличить дистанцию и уйти сначала на север, а потом на запад — подальше в Северный Ледовитый океан, где они оставались несколько дней, прежде чем рискнули вернуться в Германию. За это время на "Scharnhorst" удалось устранить неполадки механизмов и он смог дать 28,5 узла. 12 апреля линейные крейсера в Северном море соединились с "Admiral Hipper" и в 22.12 пришли в Вильгельмсхафен. На конечном участке пути англичане бросили против ускользавшего противника более 90 бомбардировщиков, но те не смогли обнаружить цель, а появившиеся немецкие истребители сбили из них не менее десятка.
"Renown" и его эсминцы бросились в погоню, ведя непрерывный огонь из орудий среднего калибра. Частые вспышки выстрелов с эсминцев заставили немцев предположить, что их преследует мощное соединение. Тем не менее, им удалось увеличить дистанцию и уйти сначала на север, а потом на запад — подальше в Северный Ледовитый океан, где они оставались несколько дней, прежде чем рискнули вернуться в Германию. За это время на "Scharnhorst" удалось устранить неполадки механизмов и он смог дать 28,5 узла. 12 апреля линейные крейсера в Северном море соединились с "Admiral Hipper" и в 22.12 пришли в Вильгельмсхафен. На конечном участке пути англичане бросили против ускользавшего противника более 90 бомбардировщиков, но те не смогли обнаружить цель, а появившиеся немецкие истребители сбили из них не менее десятка.
Бой с "Renown" заставил немецкие силы дальнего прикрытия уйти на север, оставив назначенный им для патрулирования район у Лофотенских островов. В результате англичанам удалось 10 и 13 апреля внезапно напасть на находившиеся в Нарвике эсминцы. Гибель этих 10 современных кораблей стала первым серьезным ударом для Кригсмарине.
"Scharnhorst" надо было серьезно ремонтировать носовую башню и энергетическую установку. Но все надежды его командира о постановке в док похоронил приказ ОКМ, запрещавший начинать любой ремонт, требующий более 6 часов. 1 мая корабль перешел в Везермюнде, а спустя 9 дней — на Балтику, чтобы в спокойной обстановке пройти курс боевой подготовки, необходимый для 87 вновь прибывших офицеров и старшин. После недели пребывания в районе Готенхафена (Гдыня) "Scharnhorst" отозвали в Киль на долгожданный ремонт. Верфь Дойче Верке запросила на работы 12 суток, но командующий флотом потребовал закончить все к 31 мая. Дело в том, что к этому времени из тяжелых немецких кораблей в строю оставались только "Scharnhorst" и "Gneisenau" ("Lützow" чинил торпедное повреждение, "Admiral Scheer" проходил плановый ремонт), а события в Норвегии требовали присутствия кораблей Кригсмарине у ее берегов. Поднапрягшись, верфь уложилась в указанный срок.
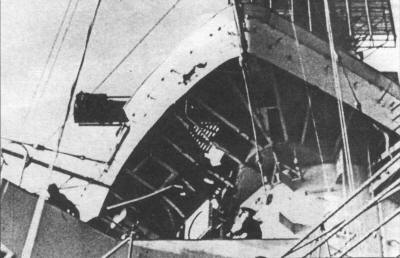
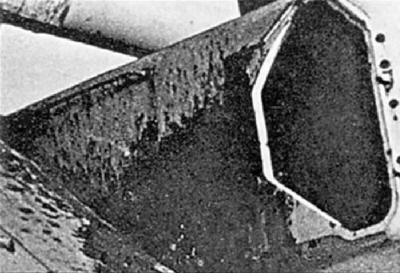
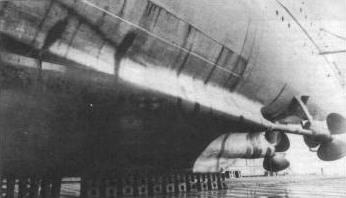 "Gneisenau" после ремонта боевых повреждений 26 — 29 апреля прошел докование в сухом доке Бремерхафена. А уже 5 мая при переходе на Балтику из Северного моря он в 11.45 подорвался у устья р. Эльба на магнитной мине. Скорость корабля была 22 узла, глубина моря 24 м. Силой взрыва, который произошел в 21 метре с левой раковины корабля, броню пояса около кормовой башни вдавило внутрь, во многих местах разорвало листы обшивки. Водой затопило коридор левого гребного вала, несколько кладовых и соседних с ними пустых отсеков. Корабль получил крен на левый борт в полградуса и небольшой дифферент на корму.
"Gneisenau" после ремонта боевых повреждений 26 — 29 апреля прошел докование в сухом доке Бремерхафена. А уже 5 мая при переходе на Балтику из Северного моря он в 11.45 подорвался у устья р. Эльба на магнитной мине. Скорость корабля была 22 узла, глубина моря 24 м. Силой взрыва, который произошел в 21 метре с левой раковины корабля, броню пояса около кормовой башни вдавило внутрь, во многих местах разорвало листы обшивки. Водой затопило коридор левого гребного вала, несколько кладовых и соседних с ними пустых отсеков. Корабль получил крен на левый борт в полградуса и небольшой дифферент на корму.
Серьезные повреждения нанесло и сотрясение от взрыва: вышли из строя подшипники турбины низкого давления правого борта, некоторые вспомогательные устройства, включая конденсорные насосы, трансформаторы прожекторов, фундаменты которых не рассчитывались на такие ударные нагрузки. Повреждены были кормовые дальномеры и оптические приборы целеуказания, вышли из строя почти все автоматические выключатели главных и вспомогательных механизмов. Резкая деформация корпуса приподняла и заклинила вращающуюся структуру кормовой башни и только энергичные усилия экипажа позволили ввести ее в строй в течение часа. Силой удара срезало болты крепления барбетов бортовых 150-мм башен, что сделало их непригодными для стрельбы. В строю из средней артиллерии остались только четыре палубные установки за щитами. Из-за отключения энергии на 18 минут было утрачено управление рулем. Такие сильные повреждения объяснялись тем, что взрыв произошел на мелкой воде и слишком близко к корпусу корабля.
Тем не менее, прекрасная выучка экипажа позволила спустя всего 5 часов привести корабль в Киль и уже в 17.13 поставить в плавучий док. Ремонт проходил до 21 мая, после чего "Gneisenau" вышел в пробный поход по восточной Балтике. 27 мая он вернулся в Киль, полностью готовый к бою.
"Gneisenau", "Scharnhorst",
"Admiral Hipper" и четыре эсминца вышли 4 июня 1940 года для атаки морских сил противника в районе Харстада у берегов Норвегии. Операцию планировалось провести в тесном взаимодействии с Люфтваффе, поэтому для лучшей идентификации крыши башен на немецких кораблях окрасили в красный цвет. На первом этапе эскадру сопровождали два тральщика и два миноносца типа "Jaguar". 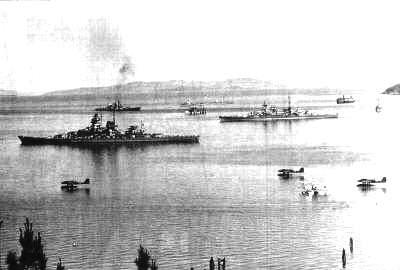 7 июня германские корабли встретились с танкером "Ditmarschen", чтобы "Admiral Hipper" и эсминцы смогли пополнить запасы топлива. На следующий день в 5.55 "Admiral Hipper" обнаружил и потопил британский эскортный траулер "Jupiter", а "Gneisenau"; огнем 150-мм орудий (расход 113 снарядов) поджег танкер "Oil Pioneer", который около 8.00 добили торпедой с эсминца. Для обнаружения конвоев с "Admiral Hipper" и "Gneisenau" поднялись гидросамолеты, и вскоре те донесли об обнаружении крейсера и торгового судна к югу от германского соединения, а пассажирского и госпитального судов — к северу. "Admiral Hipper" и эсминцы послали на север, где они перехватили и потопили 19 500-тонное пассажирское судно "Orama", сумев также заглушить посылаемые им в эфир сигналы бедствия. Госпитальное судно "Atlantis" немцы не атаковали.
7 июня германские корабли встретились с танкером "Ditmarschen", чтобы "Admiral Hipper" и эсминцы смогли пополнить запасы топлива. На следующий день в 5.55 "Admiral Hipper" обнаружил и потопил британский эскортный траулер "Jupiter", а "Gneisenau"; огнем 150-мм орудий (расход 113 снарядов) поджег танкер "Oil Pioneer", который около 8.00 добили торпедой с эсминца. Для обнаружения конвоев с "Admiral Hipper" и "Gneisenau" поднялись гидросамолеты, и вскоре те донесли об обнаружении крейсера и торгового судна к югу от германского соединения, а пассажирского и госпитального судов — к северу. "Admiral Hipper" и эсминцы послали на север, где они перехватили и потопили 19 500-тонное пассажирское судно "Orama", сумев также заглушить посылаемые им в эфир сигналы бедствия. Госпитальное судно "Atlantis" немцы не атаковали.
После этих действий адмирал Маршалл решил отправить испытывавшие недостаток топлива эсминцы и "Admiral Hipper" на заправку в Тронхейм, а сам с двумя линейными крейсерами отправился в район Харстада. Здесь, у берегов Норвегии, "Scharnhorst" и "Gneisenau" добились своего наибольшего за всю войну успеха.



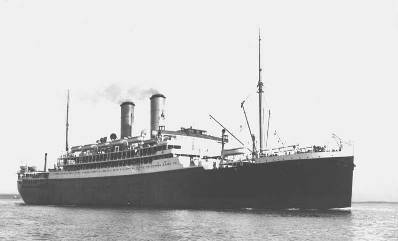
8 июня в 16.46 наблюдатель на фор-марсе "Scharnhorst" обнаружил дым по пеленгу 60°, а спустя 24 минуты его старший артиллерист фрегаттен-капитан Лёвиш доложил, что удерживает в прицеле авианосец типа "Ark Royal".
Фактически это был авианосец "Glorious" в сопровождении эсминцев "Acasta" и
"Ardent", который эвакуировал из Норвегии 2 истребительных эскадрилий (10 "Гладиаторов" из 263-й и 10 "Харрикейнов" из 46-й).  Конечно, он не мог использовать эти сухопутные самолеты для атаки противника (да и что могли сделать истребители с линкорами?), но по непонятной причине ни один из его торпедоносцев (в ангаре он имел 6 "Суордфишей", не считая морских "Си Гладиаторов") не был готов к старту. А без готовых ударных самолетов этот корабль был практически беззащитен, имея в бортовом залпе всего 8 120-мм пушек в дополнение к такому же их числу на двух эсминцах. Немцы сомкнули интервал, довели скорость до 29 узлов и, эффектно развернувшись на 16 румбов, бросились на пересечку курса противника. Шедший головным "Gneisenau" открыл огонь главным калибром по авианосцу, а вспомогательным левого борта по ближайшему эсминцу "Ardent".
Конечно, он не мог использовать эти сухопутные самолеты для атаки противника (да и что могли сделать истребители с линкорами?), но по непонятной причине ни один из его торпедоносцев (в ангаре он имел 6 "Суордфишей", не считая морских "Си Гладиаторов") не был готов к старту. А без готовых ударных самолетов этот корабль был практически беззащитен, имея в бортовом залпе всего 8 120-мм пушек в дополнение к такому же их числу на двух эсминцах. Немцы сомкнули интервал, довели скорость до 29 узлов и, эффектно развернувшись на 16 румбов, бросились на пересечку курса противника. Шедший головным "Gneisenau" открыл огонь главным калибром по авианосцу, а вспомогательным левого борта по ближайшему эсминцу "Ardent".  Спустя 4 минуты к флагману огонь своего ГК присоединил "Scharnhorst", чьи 150-мм орудия обрушились на эсминец "Acasta". "Glorious" повернул на юго-запад, а эсминцы попытались прикрыть его дымовой завесой. Выпущенные "Ardent" 4 торпеды немцы вовремя заметили и смогли уклониться. Хотя дым и мешал стрельбе, немецкие корабли, используя в помощь оптическим дальномерам свои радары, быстро превратили авианосец в груду обломков. Вскоре в бой вступили и 105-мм пушки. Начиная с 17.38 в "Glorious" с дистанции около 23 000 м один за другим попали три снаряда: первый разрушил надстройку, другой взорвался на полетной палубе, уничтожив несколько "Харрикейнов". Начавшийся пожар помешал закончить вооружение торпедами "Суордфишей". Третий снаряд уничтожил всех и вся на мостике.
Спустя 4 минуты к флагману огонь своего ГК присоединил "Scharnhorst", чьи 150-мм орудия обрушились на эсминец "Acasta". "Glorious" повернул на юго-запад, а эсминцы попытались прикрыть его дымовой завесой. Выпущенные "Ardent" 4 торпеды немцы вовремя заметили и смогли уклониться. Хотя дым и мешал стрельбе, немецкие корабли, используя в помощь оптическим дальномерам свои радары, быстро превратили авианосец в груду обломков. Вскоре в бой вступили и 105-мм пушки. Начиная с 17.38 в "Glorious" с дистанции около 23 000 м один за другим попали три снаряда: первый разрушил надстройку, другой взорвался на полетной палубе, уничтожив несколько "Харрикейнов". Начавшийся пожар помешал закончить вооружение торпедами "Суордфишей". Третий снаряд уничтожил всех и вся на мостике.
В 17.52 "Glorious" пылал как огромный костер, но продолжал держать высокую скорость. Выскочивший из-за дыма "Ardent" в самоубийственной атаке выпустил последние 4 торпеды, от которых немцы также увернулись. Тут же снаряды всех калибров стали поражать эсминец, он остановился весь в огне и с большим креном и в 18.22 пошел ко дну.
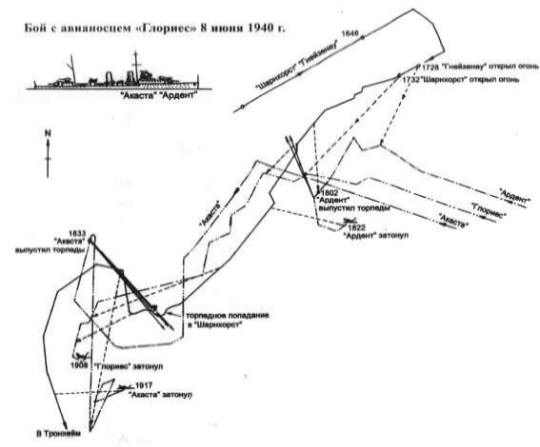 "Acasta" достаточно долго ловко избегал смертоносных залпов и в 18.33, как раз перед попаданием в него первого снаряда, сумел выпустить 4 торпеды. "Gneisenau" от них уклонился, но спустя 6 минут одна из торпед попала в корму "Scharnhorst", который резко снизил скорость. Около 19.08 "Glorious" перевернулся и затонул; всего на 9 минут пережил его доблестный "Acasta", до конца выполнивший свой долг эсминца сопровождения. Поскольку "Glorious" постоянно радировал свое место, призывая на помощь корабли Флота метрополии, германские корабли поспешили укрыться в Тронхейме. Интересно, что это было первое столкновение линкоров с авианосцем и единственное, в котором первые одержали верх.
"Acasta" достаточно долго ловко избегал смертоносных залпов и в 18.33, как раз перед попаданием в него первого снаряда, сумел выпустить 4 торпеды. "Gneisenau" от них уклонился, но спустя 6 минут одна из торпед попала в корму "Scharnhorst", который резко снизил скорость. Около 19.08 "Glorious" перевернулся и затонул; всего на 9 минут пережил его доблестный "Acasta", до конца выполнивший свой долг эсминца сопровождения. Поскольку "Glorious" постоянно радировал свое место, призывая на помощь корабли Флота метрополии, германские корабли поспешили укрыться в Тронхейме. Интересно, что это было первое столкновение линкоров с авианосцем и единственное, в котором первые одержали верх.
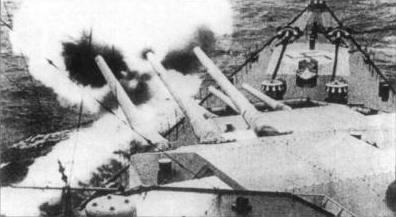







Торпедное повреждение "Scharnhorst".
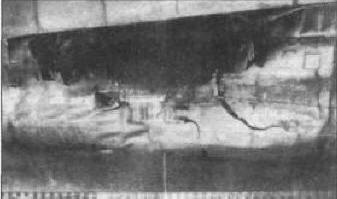 Несмотря на резкий отворот одна из торпед в 18.39 под углом 15 градусов ударила в правый борт у башни "Caesar" в трех метрах под главным поясом — в самое уязвимое место. Повреждение оказалось очень серьезным. Боевое отделение и погреба заполнились дымом, прислугу башни пришлось эвакуировать. Командир корабля капитан цур зее Хоффманн отдал приказ на затопление погребов, но после доклада об отсутствии опасности пожара его отменил. Бортовую обшивку, принявшую на себя удар, разрушило на площади 6x14 метров. Но взрыв оказался столь мощным, что большая часть его энергии пришлась на внутреннюю структуру, разорвав противоторпедную переборку и загнув ее верхнюю часть внутрь на 1,7 м. Переборка была повреждена на 10 м, считая от бортовой брони на уровне платформы над коридором гребного вала. Поврежденными оказались две траверзных переборки, батарейная палуба и палуба первой платформы. Чуть меньше пострадали шельф под броню и соседние элементы структуры корпуса.
Несмотря на резкий отворот одна из торпед в 18.39 под углом 15 градусов ударила в правый борт у башни "Caesar" в трех метрах под главным поясом — в самое уязвимое место. Повреждение оказалось очень серьезным. Боевое отделение и погреба заполнились дымом, прислугу башни пришлось эвакуировать. Командир корабля капитан цур зее Хоффманн отдал приказ на затопление погребов, но после доклада об отсутствии опасности пожара его отменил. Бортовую обшивку, принявшую на себя удар, разрушило на площади 6x14 метров. Но взрыв оказался столь мощным, что большая часть его энергии пришлась на внутреннюю структуру, разорвав противоторпедную переборку и загнув ее верхнюю часть внутрь на 1,7 м. Переборка была повреждена на 10 м, считая от бортовой брони на уровне платформы над коридором гребного вала. Поврежденными оказались две траверзных переборки, батарейная палуба и палуба первой платформы. Чуть меньше пострадали шельф под броню и соседние элементы структуры корпуса.
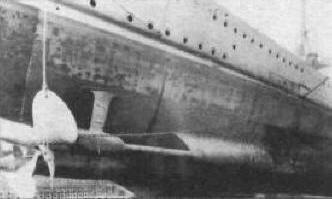 Попадание пришлось в место прохода гребного вала через противоторпедную переборку, где ее эластичность была недостаточной из-за дополнительных подкреплений. Сказалось и недостаточно надежное соединение переборки с броневой палубой, что не позволило напряжениям от взрыва распространиться на большую площадь жестких элементов структуры корпуса. Переборка начала эластично выгибаться, но верхнее ее крепление не выдержало, что привело к большим затоплениям внутреннего объема: вода частично заполнила 22 главных водонепроницаемых отсека, а всего 30 отсеков в районе взрыва приняли 2500 т. "Scharnhorst" получил крен на правый борт в 3 градуса и осел кормой на 3 м. При взрыве погибло 48 членов экипажа.
Попадание пришлось в место прохода гребного вала через противоторпедную переборку, где ее эластичность была недостаточной из-за дополнительных подкреплений. Сказалось и недостаточно надежное соединение переборки с броневой палубой, что не позволило напряжениям от взрыва распространиться на большую площадь жестких элементов структуры корпуса. Переборка начала эластично выгибаться, но верхнее ее крепление не выдержало, что привело к большим затоплениям внутреннего объема: вода частично заполнила 22 главных водонепроницаемых отсека, а всего 30 отсеков в районе взрыва приняли 2500 т. "Scharnhorst" получил крен на правый борт в 3 градуса и осел кормой на 3 м. При взрыве погибло 48 членов экипажа.
Большие затопления и повреждения сказались на энергетической установке. Была уничтожена часть правого гребного вала, которая проходила через нижние отсеки противоторпедной защиты около башни "Caesar", а весь коридор его быстро заполнила вода. Там остался один из матросов, и, когда другой, пытаясь его спасти, открыл водонепроницаемую дверь, кормовое машинное отделение, дававшее энергию на средний гребной вал, стало быстро затапливаться. Сохранить его в строю, мгновенно остановив турбины, оказалось невозможным. Кожух одной из турбин, вращавшейся на полной мощности, остыл так быстро, что лопатки ротора врезались в его внутреннюю поверхность. Пришлось перекрыть все паропроводы этого отделения. Корабль остался только с левым работающим валом.
Вышла из строя и башня "Caesar", некоторые отсеки под ее погребами заполнило водой, большая часть оборудования в погребах оказалась поврежденной. Отдельные заряды в гильзах и футлярах загорелись, многие оказались испорченными. В погребе находилось 283 собранных снаряда и заряда в гильзах, готовых к подаче в башню, другие снаряды без зарядов лежали на загрузочной платформе в нескольких метрах от места удара торпеды. Кормовая 150-мм башня правого борта вышла из строя из-за затопления подбашенных помещений и повреждения электросистем. Отказала и система управления огнем кормовой группы 105-мм орудий.
На пути в Тронхейм корабль с трудом мог держать 20 узлов. Для предотвращения дальнейших повреждений корпуса стали использовать кранцевые маты, однако это мало что давало, и приказ отменили. Оба корабля достигли Тронхейма около полуночи 9 июня. Там на швартовах стояло ремонтное судно "Huascaran", экипаж которого приступил к временному ремонту "Scharnhorst".
10 июня самолет-разведчик Берегового командования Королевских ВВС обнаружил немецкие корабли и на следующий день дюжина бомбардировщиков "Гудзон" ("Хадсон") с высоты 4570 м сбросила 36 227-кг бронебойных бомб по "Scharnhorst", ни одна из которых не достигла цели. Два самолета немцы сбили. Адмирал Маршалл с "Gneisenau", "Admiral Hipper" и четырьмя эсминцами снова вышел на поиски торговых судов, но, убедившись, что все конвои имеют сильное прикрытие, 11 числа вернулся в Тронхейм.
Затем настала очередь британского соединения в составе линкора "Nelson" и авианосца "Ark Royal", которые 13 июня находились в 170 милях от Тронхейма. Поднятые в воздух 15 бомбардировщиков "Скьюа" были перехвачены германскими истребителями, и англичане потеряли восемь машин. Остальные прорвались к цели, но в "Scharnhorst" попала всего одна бомба, которая, к тому же, не взорвалась, хотя и пробила верхнюю палубу.
Ремонт турбин среднего вала "Scharnhorst" занял 10 суток. Отремонтировать правый вал можно было только в сухом доке, поскольку предполагалось, что его погнуло и винт при вращении будет задевать корпус. На пробах 18 июня при скорости свыше 13 узлов наблюдалась такая вибрация, что оставалось надеяться только на два вала и максимальную скорость в 24 узла. 20 июня корабль вышел в Германию в сопровождении эскорта. На следующий день соединение у о. Утсир обнаружили самолеты британского Берегового командования и около 15.00 шесть торпедоносцев "Суордфиш" 821-й и 823-й эскадрилий Королевского флота вышли в атаку, которую немцы легко отразили зенитным огнем. Английские летчики не имели практики, и эта атака крупного корабля была их первой в жизни. Все торпеды пошли практически параллельно курсу кораблей, которым ничего не стоило от них уклониться, сбив при этом два торпедоносца зенитками. Почти тут же четыре "Гудзона" с большой высоты со столь же большой неточностью сбросили 227-кг бомбы. Две из атакующих машин погибли, две с трудом вернулись на базу, имея тяжелые повреждения. Спустя полтора часа над соединением появилось девять "Бофортов", вооруженных 227-кг бронебойными бомбами, но и они были отбиты зенитным огнем и истребителями, потеряв три самолета. А последнюю атаку со все тем же результатом провели еще шесть "Гудзонов". Отражая атаки, "Scharnhorst" выпустил 900 - 105-мм снарядов и 3600 мелких. К вечеру воздушное прикрытие состояло из 10 "мессершмиттов" (Bf-109), двух "хейнкелей-111", летающей лодки "Do-18" и двух бортовых "Arado-196". Вскоре немцы перехватили британское сообщение, из которого стало понятно, что в море находятся крупные силы Флота метрополии. "Scharnhorst" получил приказ укрыться в порту Ставангер. В этот момент некоторые британские корабли находились всего в 35 милях от него. 22 июня "Scharnhorst" вышел из Ставангера в Киль, где в плавучем доке "С" следующие шесть месяцев проходил ремонт, часто прерываемый налетами британской авиации. 21 ноября корабль вышел в пробное плавание по Балтике, но 19 декабря вернулся в Киль, чтобы в плавучем доке "В" еще четверо суток заканчивать ремонтные работы.
Торпедирование "Gneisenau" подводной лодкой.
 "Gneisenau", "Admiral Hipper" и четыре эсминца под командованием адмирала Гюнтера Лютьенса 20 июня вышли в Норвежское море и взяли курс на Исландию. Германский морской штаб намеревался этой операцией создать у англичан впечатление прорыва крупных рейдеров через пролив между Фарерами и Исландией, а в это время провести "Scharnhorst" из Норвегии в Германию на ремонт.
"Gneisenau", "Admiral Hipper" и четыре эсминца под командованием адмирала Гюнтера Лютьенса 20 июня вышли в Норвежское море и взяли курс на Исландию. Германский морской штаб намеревался этой операцией создать у англичан впечатление прорыва крупных рейдеров через пролив между Фарерами и Исландией, а в это время провести "Scharnhorst" из Норвегии в Германию на ремонт.
Когда германское соединение находилось примерно в 40 милях к северо-западу от Хальтена в условиях плохой видимости, британская подлодка "Clyde" выпустила по "Gneisenau" полный залп из носовых аппаратов. Наблюдатели увидели торпеды слишком поздно — всего в 300 м от борта.  Две прошли перед самым носом, а третья, несмотря на резко положенный на борт руль, попала в правый борт в 16 м от форштевня и очень близко к началу носового противоосколочного пояса. Броня повреждена не была, но носовая оконечность пострадала очень серьезно. Взрыв 365 кг торпекса на 3 м ниже ватерлинии разорвал листы обшивки с обоих бортов и повредил шпангоуты, так что нос держался на честном слове. Пробоина с правого борта имела длину 15 м и высоту 6 — 10 м. Имелась большая пробоина и с левого борта, в кормовых частях образовались значительные повреждения обшивки. Вода затопила водонепроницаемые отсеки XX и XXI, скорость пришлось уменьшить из-за риска потерять большую часть носа. Боеспособность корабля и механизмы не пострадали, так что он 21 июня смог дойти до Тронхейма. Лодка донесла о координатах германского соединения, которое затем подверглось налетам авиации британского Берегового командования, в результате чего один из эсминцев получил серьезные повреждения.
Две прошли перед самым носом, а третья, несмотря на резко положенный на борт руль, попала в правый борт в 16 м от форштевня и очень близко к началу носового противоосколочного пояса. Броня повреждена не была, но носовая оконечность пострадала очень серьезно. Взрыв 365 кг торпекса на 3 м ниже ватерлинии разорвал листы обшивки с обоих бортов и повредил шпангоуты, так что нос держался на честном слове. Пробоина с правого борта имела длину 15 м и высоту 6 — 10 м. Имелась большая пробоина и с левого борта, в кормовых частях образовались значительные повреждения обшивки. Вода затопила водонепроницаемые отсеки XX и XXI, скорость пришлось уменьшить из-за риска потерять большую часть носа. Боеспособность корабля и механизмы не пострадали, так что он 21 июня смог дойти до Тронхейма. Лодка донесла о координатах германского соединения, которое затем подверглось налетам авиации британского Берегового командования, в результате чего один из эсминцев получил серьезные повреждения.
 В Тронхейме рабочие ремонтного корабля "Huascaran" временно заделали пробоины на "Gneisenau", наварив поверх металлические полосы для дополнительной прочности. Работы закончили 19 июля. На переходе в Киль 25 — 27 июля корабль сопровождали "Admiral Hipper" (отделился для выполнения другого задания), легкий крейсер "Nürnberg", четыре эсминца и шесть миноносцев. На перехват англичане послали мощное соединение Флота метрополии (линейные крейсера "Repulse" и "Renown", крейсера и эсминцы), но оно не смогло обнаружить противника. Только подлодке "Swordfish" удалось потопить один из миноносцев эскорта ("Luchs"), остальные германские корабли благополучно прибыли в Киль 28 июля.
В Тронхейме рабочие ремонтного корабля "Huascaran" временно заделали пробоины на "Gneisenau", наварив поверх металлические полосы для дополнительной прочности. Работы закончили 19 июля. На переходе в Киль 25 — 27 июля корабль сопровождали "Admiral Hipper" (отделился для выполнения другого задания), легкий крейсер "Nürnberg", четыре эсминца и шесть миноносцев. На перехват англичане послали мощное соединение Флота метрополии (линейные крейсера "Repulse" и "Renown", крейсера и эсминцы), но оно не смогло обнаружить противника. Только подлодке "Swordfish" удалось потопить один из миноносцев эскорта ("Luchs"), остальные германские корабли благополучно прибыли в Киль 28 июля.
Ремонт "Gneisenau" фирмой Ховальд Верфт в Киле длился пять месяцев.
 Для верфи это была первая работа на крупном боевом корабле, и рабочие проявили к морякам исключительную любезность. Например, они убрали штатные подпорки и стойки из кают младшего офицерского состава в средней части корабля, так надоевшие экипажу. Это серьезное нарушение впоследствии дало о себе знать. В то же время для сокращения срока ввода корабля в строй на нем решили не переделывать ангар и грот-мачту, как это уже было сделано на "Scharnhorst".
Для верфи это была первая работа на крупном боевом корабле, и рабочие проявили к морякам исключительную любезность. Например, они убрали штатные подпорки и стойки из кают младшего офицерского состава в средней части корабля, так надоевшие экипажу. Это серьезное нарушение впоследствии дало о себе знать. В то же время для сокращения срока ввода корабля в строй на нем решили не переделывать ангар и грот-мачту, как это уже было сделано на "Scharnhorst".






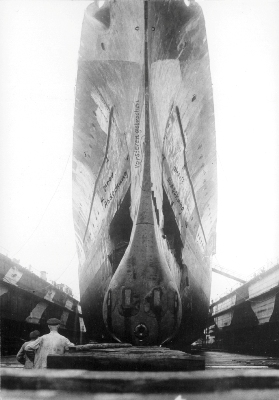
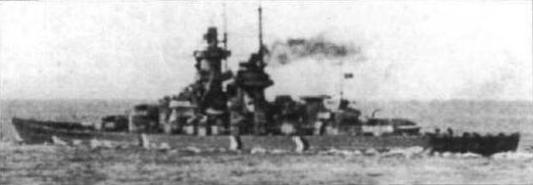 До 21 октября "Gneisenau" находился в доке "D" военно-морской базы, а 14 ноября вышел на Балтику для тренировок и учений, снова вернувшись в Киль 19 декабря. Входе учений оба линейных крейсера "отстрелялись" по кораблю-цели "Hessen", отрабатывали тактическое взаимодействие с крейсером "Nürnberg" и 2-й флотилией миноносцев. Но совместные учения с подлодками показали неудовлетворительную работу сонаров.
До 21 октября "Gneisenau" находился в доке "D" военно-морской базы, а 14 ноября вышел на Балтику для тренировок и учений, снова вернувшись в Киль 19 декабря. Входе учений оба линейных крейсера "отстрелялись" по кораблю-цели "Hessen", отрабатывали тактическое взаимодействие с крейсером "Nürnberg" и 2-й флотилией миноносцев. Но совместные учения с подлодками показали неудовлетворительную работу сонаров.
| АТЛАНТИЧЕСКИЙ ПОХОД 1941 г. (ОПЕРАЦИЯ "БЕРЛИН") |
Попытка выхода в декабре 1940 г.
 28 декабря 1940 года "Gneisenau" и "Scharnhorst" под командованием адмирала Лютьенса вышли в Северную Атлантику для операций против британского судоходства. Жестокий шторм в Северном море заставил корабли идти малым ходом; "Gneisenau" получил серьезные повреждения корпуса как раз в тех местах, где в ходе ремонта сняли стойки и подпорки. Под ударами тяжелых волн погнулись шпангоуты за обшивкой и палубные бимсы, главная палуба и обшивка в носу в нескольких местах искривились. Из-за больших напряжений, которым подвергался корпус на огромных волнах, вышли из строя системы управления огнем, включая зенитные калибры.
28 декабря 1940 года "Gneisenau" и "Scharnhorst" под командованием адмирала Лютьенса вышли в Северную Атлантику для операций против британского судоходства. Жестокий шторм в Северном море заставил корабли идти малым ходом; "Gneisenau" получил серьезные повреждения корпуса как раз в тех местах, где в ходе ремонта сняли стойки и подпорки. Под ударами тяжелых волн погнулись шпангоуты за обшивкой и палубные бимсы, главная палуба и обшивка в носу в нескольких местах искривились. Из-за больших напряжений, которым подвергался корпус на огромных волнах, вышли из строя системы управления огнем, включая зенитные калибры.
Хотя с "Scharnhorst" непогода обошлась менее жестоко, кораблям пришлось повернуть назад: "Scharnhorst" вернулся в Готенхафен (польский порт Гдыня), а "Gneisenau" — в Киль. Из-за тяжелых штормовых повреждений командир "Gneisenau" капитан цур зее Отто Фаин (назначен в августе) потребовал снова переделать носовую часть корабля, что специалисты военной верфи выполнили в рекордный срок.



"Scharnhorst" вернулся в Киль 19 января, а через три дня оба корабля снова под командой Лютьенса вышли из Киля в Атлантику для выполнения операции "Berlin". Во время прохода проливами Каттегат и Скагеррак их обнаружила английская агентура в Дании, и Флот метрополии в ночь на 26 января вышел из Скапа-Флоу, чтобы блокировать проход Фареры-Исландия. Немецкие радары вовремя обнаружили прямо по курсу большое число кораблей (это были линкоры "Nelson", "Rodney", "Repulse", 8 крейсеров и 11 эсминцев), и Лютьенс приказал изменить курс. На повороте германские корабли с дистанции 5000 м обнаружил легкий крейсер "Nayad". Он доложил командованию и следил за немцами, пока те не скрылись за снежным зарядом. К сожалению англичан, командующий Флотом метрополии адмирал сэр Джон Тови счел это сообщение ошибочным и прекратил поиск.
После дозаправки топливом к востоку от о. Ян-Майен с танкера "Adria" ("Scharnhorst" принял 1700 м³) немцы повернули на юг и на высокой скорости устремились к Датскому проливу — воротам в Атлантику. Они вышли на оперативный простор после 3 часов 3 февраля, когда удачно миновали последний британский крейсерский патруль. Чтобы еще более запутать англичан, 1 февраля из Бреста в свою вторую "атлантическую" операцию вышел "Admiral Hipper", который должен был действовать против конвоев на маршруте Гибралтар-Фритаун.
Утром 6 февраля 1941 года оба линейных крейсера дозаправились с танкера "Slettstadt" к югу от мыса Фаруэлл ("Gneisenau" принял 1515 м³ топлива), а на следующий день приступили к поиску судов.  Качка была настолько сильной (шторм доходил до 10 баллов), что на "Gneisenau" при резком крене один из унтер-офицеров размозжил голову о башню. Корабли снизили ход, чтобы уменьшить дискомфорт экипажа и снизить риск повреждений.
Качка была настолько сильной (шторм доходил до 10 баллов), что на "Gneisenau" при резком крене один из унтер-офицеров размозжил голову о башню. Корабли снизили ход, чтобы уменьшить дискомфорт экипажа и снизить риск повреждений.
В 8.35 8 февраля с "Gneisenau" заметили мачты конвоя НХ-106, шедшего из Галифакса, и корабли приготовились к атаке. "Scharnhorst" послали вперед, чтобы атаковать с севера, но в 9.47 его сигнальщики усмотрели в охранении конвоя старый дредноут "Ramillies", вооруженный восемью 381-мм орудиями. Узнав о присутствии столь мощного прикрытия, адмирал Лютьенс отменил атаку конвоя, поскольку имел приказ не ввязываться в бой с линейными кораблями. Тем не менее, к 9.50 "Scharnhorst" сблизился с конвоем до 23 000 м, пытаясь отвлечь на себя корабли охранения, чтобы "Gneisenau" смог атаковать оставшиеся без защиты суда. Но Лютьенс прямым приказом отменил эту попытку и вернул "Scharnhorst" к флагману.
 Оба корабля после этого ушли на северо-запад к проливу Дэвиса, а после нескольких дней безрезультатного крейсерства в том районе спустились на юг. Штормовая погода препятствовала наблюдению за морем, поврежденные вентиляционные раструбы не обеспечивали нормальную работу в машинно-котельных отделениях, на открытых постах зенитных батарей просто невозможно было находиться. Скорость снова снизили, чтобы уменьшить заливаемость носовой оконечности и надстроек. Когда погода несколько улучшилась, 14 и 15 февраля корабли снова провели дозаправку с танкеров "Slettstadt" ("Gneisenau" принял 2550 м³) и "Esso Hamburg".
Оба корабля после этого ушли на северо-запад к проливу Дэвиса, а после нескольких дней безрезультатного крейсерства в том районе спустились на юг. Штормовая погода препятствовала наблюдению за морем, поврежденные вентиляционные раструбы не обеспечивали нормальную работу в машинно-котельных отделениях, на открытых постах зенитных батарей просто невозможно было находиться. Скорость снова снизили, чтобы уменьшить заливаемость носовой оконечности и надстроек. Когда погода несколько улучшилась, 14 и 15 февраля корабли снова провели дозаправку с танкеров "Slettstadt" ("Gneisenau" принял 2550 м³) и "Esso Hamburg".






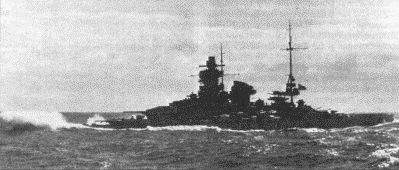
 Только 22 февраля приблизительно в 500 милях к востоку от о. Ньюфаундленд обнаружили идущий на запад конвой транспортов в балласте. Увидев германские корабли, суда бросились врассыпную. Используя для поиска разбежавшейся "добычи" бортовые самолеты, "Gneisenau" и "Scharnhorst" смогли потопить всего пять судов общим водоизмещением 25 874 брт: первый, как и подобает флагману, записал на свой счет четыре — транспорты "Trelawney" (4689 брт), "Kantara" (3327 брт), "E. D. Haff" (6219 брт) и "Harlesden" (5483 брт) — а "Scharnhorst" достался только танкер "Lustrous" (6156 брт). Некоторые из них успели послать в эфир сообщение о германских рейдерах, заставив их сменить район действий.
Только 22 февраля приблизительно в 500 милях к востоку от о. Ньюфаундленд обнаружили идущий на запад конвой транспортов в балласте. Увидев германские корабли, суда бросились врассыпную. Используя для поиска разбежавшейся "добычи" бортовые самолеты, "Gneisenau" и "Scharnhorst" смогли потопить всего пять судов общим водоизмещением 25 874 брт: первый, как и подобает флагману, записал на свой счет четыре — транспорты "Trelawney" (4689 брт), "Kantara" (3327 брт), "E. D. Haff" (6219 брт) и "Harlesden" (5483 брт) — а "Scharnhorst" достался только танкер "Lustrous" (6156 брт). Некоторые из них успели послать в эфир сообщение о германских рейдерах, заставив их сменить район действий.



 Адмирал Лютьенс перенес операции в юго-восточную часть северной Атлантики, чтобы перекрыть маршрут конвоев Кейптаун — Гибралтар в точке к северу от м. Верде-Айлендс. Перед приходом в этот район корабли заправились топливом у Азорских островов 27 — 28 февраля с танкеров "Ermland" и "Breme".
Адмирал Лютьенс перенес операции в юго-восточную часть северной Атлантики, чтобы перекрыть маршрут конвоев Кейптаун — Гибралтар в точке к северу от м. Верде-Айлендс. Перед приходом в этот район корабли заправились топливом у Азорских островов 27 — 28 февраля с танкеров "Ermland" и "Breme".
7 марта недалеко от берега Африки наблюдатели "Scharnhorst" обнаружили линейный корабль "Malaya", также вооруженный восемью 381-мм орудиями, а за горизонтом — мачты, по меньшей мере, 12 торговых судов. Лютьенс снова приказал "Scharnhorst" отойти на соединение с флагманом, шедшим в 40 милях позади. Отдавая такой приказ, Лютьенс, очевидно, руководствовался опытом Ютландского боя. "Ramillies" и "Malaya" со скоростью 23 —25 узлов не могли догнать 30-узловые германские корабли, но высокая скорость — слишком хрупкое преимущество в бою. Единственное попадание 381-мм снаряда могло его лишить.
 Замеченные 12 торговых судов входили в состав конвоя SL-67, направлявшегося в Великобританию. Чтобы избежать боя с линкором, Лютьенс решил выйти в хвост конвоя и навести на него подводные лодки, отправив радиограмму в Берлин. Германское военно-морское командование направило к конвою субмарины U-124 и U-105, которые за ночь 7 — 8 марта пустили ко дну судов на 28 488 брт. Немецкие рейдеры также были обнаружены гидросамолетом с одного из кораблей эскорта, и "Malaya" сблизился с ними на 24 000 м. Немецкие 283-мм орудия уже доставали до противника, но Лютьенс не решился на артиллерийскую дуэль.
Замеченные 12 торговых судов входили в состав конвоя SL-67, направлявшегося в Великобританию. Чтобы избежать боя с линкором, Лютьенс решил выйти в хвост конвоя и навести на него подводные лодки, отправив радиограмму в Берлин. Германское военно-морское командование направило к конвою субмарины U-124 и U-105, которые за ночь 7 — 8 марта пустили ко дну судов на 28 488 брт. Немецкие рейдеры также были обнаружены гидросамолетом с одного из кораблей эскорта, и "Malaya" сблизился с ними на 24 000 м. Немецкие 283-мм орудия уже доставали до противника, но Лютьенс не решился на артиллерийскую дуэль.
В центральной Атлантике, разгром конвоя 15-16 марта
 Местом дальнейших операций он избрал центральную часть Атлантики. По пути к месту заправки 9 марта рейдеры потопили одиночный греческий пароход "Marathon" с грузом угля для Александрии, имевший несчастье наткнуться на "Scharnhorst".
Местом дальнейших операций он избрал центральную часть Атлантики. По пути к месту заправки 9 марта рейдеры потопили одиночный греческий пароход "Marathon" с грузом угля для Александрии, имевший несчастье наткнуться на "Scharnhorst".
Линейные крейсера 12 марта заправились и получили необходимые припасы с вооруженных кораблей снабжения "Uckermark" (бывший "Altmark") и "Ermland". В тот же день все четыре корабля двинулись на север, образовав поисковую линию шириной 120 миль. Спустя трое суток они перехватили несколько танкеров, из которых "Gneisenau" один потопил (британский 6197-тонный "Simnia") и три захватил в качестве призов (норвежские 5684-тонный "Bianca" и 6405-тонный "Polycarb", 8046-тонный "San Casimiro"). "Scharnhorst" отправил на дно "British Strength" (7139 т) и "Athelfoam" (6554 т). Рейдеры продолжили движение на север, надеясь найти конвои, следующие в Британию из Галифакса.  Тем временем британские линкоры "Rodney", "Nelson" и новейший "King George V" ожидали немцев в северных водах Атлантики, рассчитывая, что те, исчерпав запас автономности, скоро вынуждены будут прорываться домой.
Тем временем британские линкоры "Rodney", "Nelson" и новейший "King George V" ожидали немцев в северных водах Атлантики, рассчитывая, что те, исчерпав запас автономности, скоро вынуждены будут прорываться домой.





Утром 16 марта линейные крейсера обнаружили еще несколько отставших от конвоев судов. Тут уж рейдеры порезвились вволю, как лисы в курятнике. "Gneisenau" потопил шесть транспортов: "Empire Industry" (3648 т), норвежский "Granli" (1577 т), "Royal Crown" (4364 т), "Myson" (4564 т), "Rio Dorado" (4507 т) и датский "Chilean Reefer" (1739т), а "Scharnhorst" — четыре: "Mangkai" (8290 т), "Silverfir" (4347 т), "Sardinian Prince" (3200 т), "Demeterton" (5200 т). Но одно из судов успело радировать о нападении и в данный район полным ходом направились "Rodney" и "King George V".










Последним столкновением стал бой с небольшим фруктовозом "Chilean Reefer", который мастерски избегал огня "Gneisenau" и постоянно радировал открытым текстом свое точное местонахождение. В конце концов, транспорт, поставив дымзавесу, повернул на линейный крейсер, ведя огонь из единственного палубного орудия. Такое яростное сопротивление убедило немцев, что перед ними, как минимум, вспомогательный крейсер. Поэтому они решили добить его с дальней дистанции, выпустив 73 283-мм снаряда — больше, чем затратив на потопление остальных судов за все время крейсерства. 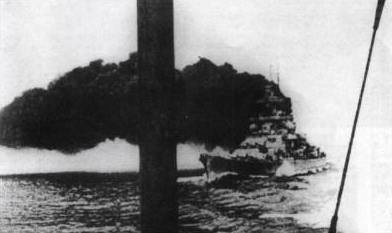
 Всего за 15 — 16 марта немцы потопили или захватили 16 судов. Захваченные три судна под конвоем "Ermland" и "Uckermark" отправили в Брест.
Всего за 15 — 16 марта немцы потопили или захватили 16 судов. Захваченные три судна под конвоем "Ermland" и "Uckermark" отправили в Брест.
Доблестный "Chilean Reefer" еще сражался, когда на экране радара "Gneisenau" появились отметки неопознанного крупного корабля. Немцы на большой скорости скрылись в дождевом шквале. С "Rodney", а это был он, успели заметить флагман Лютьенса и около 21.00 даже запросили прожектором: "What ship?" ("Что за корабль?"). Командир "Gneisenau" капитан цур зее Отто Фаин приказал ответить: "HMS Emerald" (корабль его величества "Emerald" — этот крейсер входил в состав Флота метрополии и вполне мог оказаться в северной Атлантике). После этого, не дожидаясь нового запроса, резко положив руль на борт, немецкий корабль на полном ходу удалился от грозного противника. Истина англичанам открылась буквально через несколько минут, когда "Rodney" наткнулся на обломки тонущего транспорта и начал спасать его экипаж. Капитан судна после слов благодарности сказал: "Нас только что потопил "Gneisenau"...
 Адмирал Лютьенс приказал проложить курс на Брест, понимая, что кольцо вокруг его кораблей сужается и шансов на дальнейший успех не много. Германский морской штаб полагал, что дальнейшее присутствие в океане линейных крейсеров, потревоживших "осиное гнездо" британских поисковых групп, осложнит возвращение в Германию "Admiral Hipper" и "Admiral Scheer", также находящихся на "большой дороге" в Атлантике. К тому же, на "Scharnhorst" начались проблемы с котлами — частые выходы из строя трубок перегревателей.
Адмирал Лютьенс приказал проложить курс на Брест, понимая, что кольцо вокруг его кораблей сужается и шансов на дальнейший успех не много. Германский морской штаб полагал, что дальнейшее присутствие в океане линейных крейсеров, потревоживших "осиное гнездо" британских поисковых групп, осложнит возвращение в Германию "Admiral Hipper" и "Admiral Scheer", также находящихся на "большой дороге" в Атлантике. К тому же, на "Scharnhorst" начались проблемы с котлами — частые выходы из строя трубок перегревателей.
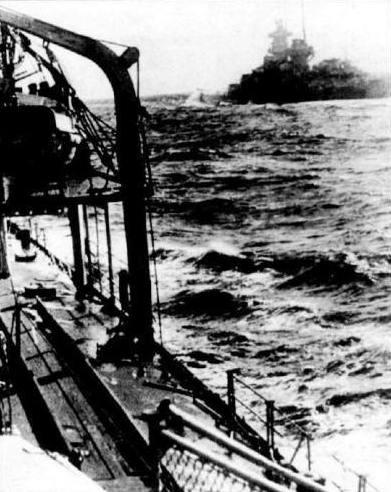 Вечером 20 марта разведывательный биплан "Суордфиш", поднятый с авианосца "Ark Royal", обнаружил германские корабли в 700 милях от Бреста. Лютьенс тут же повернул на север и держался этого курса, пока самолет не исчез за горизонтом, а затем снова повернул на восток. "Ark Royal" находился всего в 160 милях от немецкого соединения, но приближающаяся темнота и плохая погода сделали невозможным подъем самолетов для нанесения удара. На следующий день самолет британского Берегового командования обнаружил оба немецких корабля в 200 милях от Бреста, а 22 марта они благополучно достигли этого французского порта, ускользнув от погони Флота метрополии. В ходе двухмесячного крейсерства "Gneisenau" и "Scharnhorst" потопили и захватили 22 судна общим тоннажем 115 335 брт (на счету первого 14 судов и 66 449 брт), большинство из которых шли в балласте. Дополнительным успехом операции можно считать возвращение "Admiral Scheer". Увлекшись охотой за линейными крейсерами, англичане просто "прозевали" одиночный рейдер, который проскользнул домой по тому же маршруту, что и в Атлантику — вокруг Исландии и Британских островов.
Вечером 20 марта разведывательный биплан "Суордфиш", поднятый с авианосца "Ark Royal", обнаружил германские корабли в 700 милях от Бреста. Лютьенс тут же повернул на север и держался этого курса, пока самолет не исчез за горизонтом, а затем снова повернул на восток. "Ark Royal" находился всего в 160 милях от немецкого соединения, но приближающаяся темнота и плохая погода сделали невозможным подъем самолетов для нанесения удара. На следующий день самолет британского Берегового командования обнаружил оба немецких корабля в 200 милях от Бреста, а 22 марта они благополучно достигли этого французского порта, ускользнув от погони Флота метрополии. В ходе двухмесячного крейсерства "Gneisenau" и "Scharnhorst" потопили и захватили 22 судна общим тоннажем 115 335 брт (на счету первого 14 судов и 66 449 брт), большинство из которых шли в балласте. Дополнительным успехом операции можно считать возвращение "Admiral Scheer". Увлекшись охотой за линейными крейсерами, англичане просто "прозевали" одиночный рейдер, который проскользнул домой по тому же маршруту, что и в Атлантику — вокруг Исландии и Британских островов.
Следующая аналогичная операция под названием "Рейнюбунг" была предпринята в мае. В ней приняли участие новейший линкор "Bismarck" (флаг адмирала Лютьенса) и тяжелый крейсер "Prinz Eugen". На этот раз англичане были начеку и перехватили противника на выходе из Датского пролива. В бою 24 мая "Bismarck" потопил "Hood" и повредил другой линкор — "Prince of Wales", потратив всего 93 380-мм снаряда. Но затем Королевский флот устроил настоящую охоту за обидчиком и, в конце концов, задействовав почти все наличные силы, ему удалось отправить "Bismarck" на дно. "Prinz Eugen" удалось прорваться в Брест, где он присоединился к "Scharnhorst" и "Gneisenau".

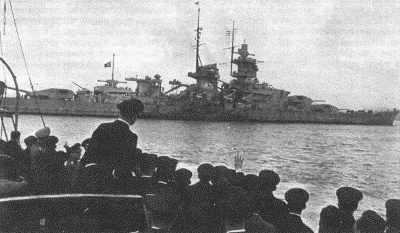


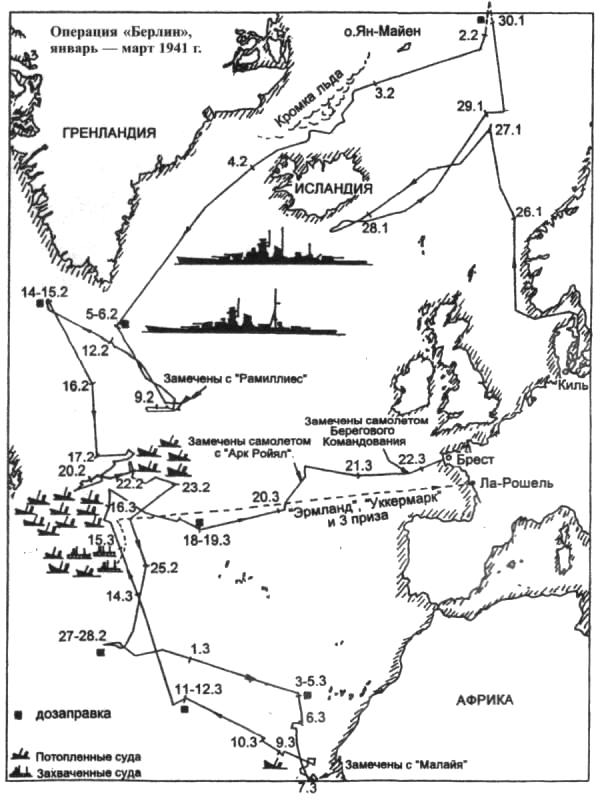
| БРЕСТСКИЙ ОТРЯД И ПРОРЫВ В ГЕРМАНИЮ |

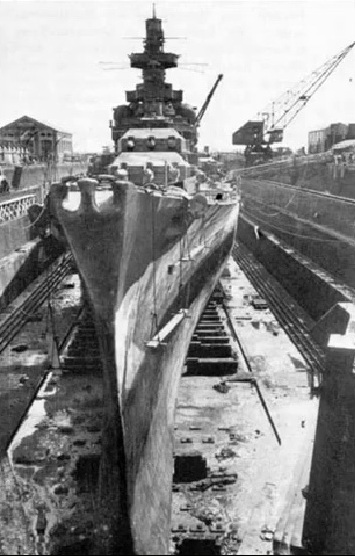 Остаток года "Scharnhorst" и "Gneisenau" провели на военной верфи Бреста, которую немцы частично восстановили после захвата и укомплектовали рабочими с военной верфи Вильгельмсхафена.
Остаток года "Scharnhorst" и "Gneisenau" провели на военной верфи Бреста, которую немцы частично восстановили после захвата и укомплектовали рабочими с военной верфи Вильгельмсхафена.
После прихода немецких линейных крейсеров в Брест англичане, опасаясь их нового выхода в океан, приступили к регулярным налетам на эту базу, используя специальные 227-кг бронебойные бомбы. Достаточно привести только цифры: с 27 марта по 7 мая самолеты Командования Бомбардировочной Авиации и Берегового командования Великобритании сбросили на Брест 1013 тонн бомб и выставили 201 магнитную мину. Особенно массированными были налеты в ночь на 31 марта и 5 апреля. В ходе последнего одна 227-кг бомба упала в воду в 4 м от "Gneisenau", стоявшего в сухом доке, но не взорвалась. Сразу же корабль вывели из дока и поставили на швартовую бочку гавани Бреста.

 Повреждение "Gneisenau" авиаторпедой 6 апреля.
Повреждение "Gneisenau" авиаторпедой 6 апреля.
 Окруженный противоторпедными сетями и молом "Gneisenau" 6 апреля подвергся атаке четырех торпедоносцев "Бофорт".Только один из самолетов обнаружил линейный крейсер и выпустил торпеду, после чего был сразу сбит. Торпеда с боеголовкой в 204 кг тринитротолуола попала в правый борт перед кормовой башней главного калибра (отсеки IV и V). В результате взрыва корабль принял 3050 т воды, накренился на 2 градуса и осел кормой на 1,2 м. Наружная обшивка была повреждена на площади 210 м², в районе взрыва разрушило первую продольную переборку, броневую противоторпедную, тонкие продольные и поперечные переборки, деформировало внутреннее дно, верхнюю и среднюю платформы.
Окруженный противоторпедными сетями и молом "Gneisenau" 6 апреля подвергся атаке четырех торпедоносцев "Бофорт".Только один из самолетов обнаружил линейный крейсер и выпустил торпеду, после чего был сразу сбит. Торпеда с боеголовкой в 204 кг тринитротолуола попала в правый борт перед кормовой башней главного калибра (отсеки IV и V). В результате взрыва корабль принял 3050 т воды, накренился на 2 градуса и осел кормой на 1,2 м. Наружная обшивка была повреждена на площади 210 м², в районе взрыва разрушило первую продольную переборку, броневую противоторпедную, тонкие продольные и поперечные переборки, деформировало внутреннее дно, верхнюю и среднюю платформы.  Попадание пришлось в особенно уязвимое место, где через нижнюю часть противоторпедной защиты рядом с кормовой башней проходил внешний гребной вал. Коридор правого вала разрушило на длине 36 м. Ослабли все набивочные сальники в неповрежденных кормовых переборках, что привело к обширным затоплениям соседних с коридором отсеков, из-за чего вышел из строя и средний гребной вал.
Попадание пришлось в особенно уязвимое место, где через нижнюю часть противоторпедной защиты рядом с кормовой башней проходил внешний гребной вал. Коридор правого вала разрушило на длине 36 м. Ослабли все набивочные сальники в неповрежденных кормовых переборках, что привело к обширным затоплениям соседних с коридором отсеков, из-за чего вышел из строя и средний гребной вал. 
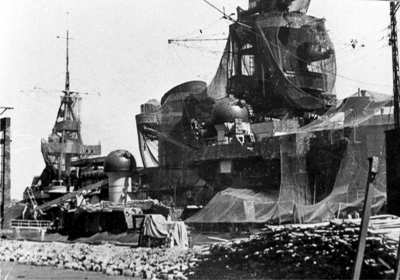 На момент атаки водяные и топливные цистерны были заполнены на 80%. В зоне взрыва топливные цистерны оказались разрушены и смесь нефти с соленой забортной водой проникла в центральный пост управления, кормовой пост гирокомпаса и кормовой пост управления стрельбой; часть оборудования в них вышла из строя. Погреба кормовой башни затопило только водой, что значительно упростило ее откачку. От сотрясения пострадали некоторые трансформаторы, артиллерийские телефоны, оптические приборы, гирокомпасы и другое мелкое электрооборудование. Поскольку вода просачивалась через сальниковые коробки, экипаж для сохранения водонепроницаемости широко использовал различные непористые материалы. Воду, поступившую через сальники вала в машинное отделение № 3, стали откачивать двумя насосами. После частичного восстановления водонепроницаемости к кораблю подошел спасательный буксир, который мощными помпами помог взять затопления под контроль. "Gneisenau" снова ввели в сухой док № 9 для ремонта, который длился несколько месяцев.
На момент атаки водяные и топливные цистерны были заполнены на 80%. В зоне взрыва топливные цистерны оказались разрушены и смесь нефти с соленой забортной водой проникла в центральный пост управления, кормовой пост гирокомпаса и кормовой пост управления стрельбой; часть оборудования в них вышла из строя. Погреба кормовой башни затопило только водой, что значительно упростило ее откачку. От сотрясения пострадали некоторые трансформаторы, артиллерийские телефоны, оптические приборы, гирокомпасы и другое мелкое электрооборудование. Поскольку вода просачивалась через сальниковые коробки, экипаж для сохранения водонепроницаемости широко использовал различные непористые материалы. Воду, поступившую через сальники вала в машинное отделение № 3, стали откачивать двумя насосами. После частичного восстановления водонепроницаемости к кораблю подошел спасательный буксир, который мощными помпами помог взять затопления под контроль. "Gneisenau" снова ввели в сухой док № 9 для ремонта, который длился несколько месяцев.
 Повреждение "Gneisenau" авиабомбами 10 апреля.
Повреждение "Gneisenau" авиабомбами 10 апреля.
В ночь на 10 апреля 47 британских бомбардировщиков сбросили на верфь Бреста около 46 тонн 227-кг бронебойных бомб. "Scharnhorst" избежал повреждений, но в "Gneisenau" попало четыре бомбы — с правого борта у носовой надстройки. Близкие попадания в набережную засыпали корабль массой осколков. Одна бомба взорвалась на нижней бронепалубе, другая без взрыва поразила боевую рубку, третья пробила надстройку, верхнюю и батарейную палубы и взорвалась на нижней броневой, а четвертая пробила верхнюю палубу и, не взорвавшись, застряла в обломках на батарейной палубе, образовавшихся после взрыва третьей бомбы.
Всего на корабле погибло 72 человека, а из 90 раненых 16 позже умерли. Зенитным огнем удалось сбить всего один "Веллингтон".
Главную бронепалубу повредило незначительно. Внешнюю продольную переборку с правого борта около башни "Bruno" выпучило наружу с разрывом ряда сварных швов, что явилось результатом плохого качества сварки.  Осколками повредило некоторые броневые плиты барбета, другие покоробило от сотрясения. Частично затопило пост управления зенитным огнем и центральный пост автоматического управления, но механизмы и орудия повреждений избежали.
Осколками повредило некоторые броневые плиты барбета, другие покоробило от сотрясения. Частично затопило пост управления зенитным огнем и центральный пост автоматического управления, но механизмы и орудия повреждений избежали.
Взрыв бомбы в надстройке привел к большому числу раненых и убитых, а также вывел из строя множество электрических цепей в носовой части корабля. Без электропитания остались гирокомпасы, сварочные трансформаторы, кубрики и лазареты в носовой части, серьезно повредило системы управления огнем и внутренней связи. Носовые отсеки заполнились густым токсичным газом, затруднявшим борьбу с огнем. Из предосторожности затопили погреба башни "Bruno", но как только пожары погасили, воду откачали.
 Когда на борт флагмана 14 апреля прибыл адмирал Лютьенс, специалисты оценили ремонт в 4 месяца. Основную трудность представляла замена правого гребного вала. Параллельно ремонту повреждений на "Gneisenau" и текущему ремонту котлов на "Scharnhorst" решили провести модернизацию обоих кораблей, включавшую замену систем управления стрельбой и установку радаров, торпедных аппаратов и дополнительных 20-мм автоматов (14 на "Gneisenau" и 18 на "Scharnhorst"). Бой с "Chilean Reefer" убедил адмирала Лютьенса в необходимости топить торговые суда торпедами, и корабли получили по два трехтрубных 533-мм аппарата — по бортам, перед кормовой группой 150-мм орудий. Катапульту над ангаром сняли, а все оборудование ангара заменили новым. Эти работы помешали обоим кораблям принять участие в апрельской операции "Bismarck" и "Prinz Eugen".
Когда на борт флагмана 14 апреля прибыл адмирал Лютьенс, специалисты оценили ремонт в 4 месяца. Основную трудность представляла замена правого гребного вала. Параллельно ремонту повреждений на "Gneisenau" и текущему ремонту котлов на "Scharnhorst" решили провести модернизацию обоих кораблей, включавшую замену систем управления стрельбой и установку радаров, торпедных аппаратов и дополнительных 20-мм автоматов (14 на "Gneisenau" и 18 на "Scharnhorst"). Бой с "Chilean Reefer" убедил адмирала Лютьенса в необходимости топить торговые суда торпедами, и корабли получили по два трехтрубных 533-мм аппарата — по бортам, перед кормовой группой 150-мм орудий. Катапульту над ангаром сняли, а все оборудование ангара заменили новым. Эти работы помешали обоим кораблям принять участие в апрельской операции "Bismarck" и "Prinz Eugen".
С начала июня налеты возобновились и самый массированный из них состоялся 24 июля 1941 года. "Gneisenau", надежно замаскированный сетями, больше повреждений не получал. "Scharnhorst" в Бресте не было. Он к этому времени закончил ремонт корпуса (9 июня), артиллерии (13-го, включая установку торпедных аппаратов) и механизмов (18-го). Назначенные на следующий день ходовые испытания пришлось отложить из-за недостаточного воздушного прикрытия. Только 21 июля "Scharnhorst" в сопровождении 5-й флотилии эсминцев вышел в Ла-Паллис для испытаний, на которых свободно развил 30 узлов. Затем наступил черед торпедных стрельб и других упражнений, необходимых для застоявшегося в брестской мышеловке экипажа.
 Перед возвращением в Брест корабль стал на якорь в Ла-Паллисе. Англичане, почти ежедневно производившие аэрофотосъемку Бреста, вскоре обнаружили, что штатное место "Scharnhorst" занято танкером и еще двумя судами, пришвартованными друг к другу, чтобы с воздуха создать эффект крупного корабля. Все силы разведывательной авиации бросили на поиск, и уже 23 июля один из "Спитфайров" обнаружил стоявшего на якоре "беглеца". Подготовленные для очередного рейда на Брест тяжелые бомбардировщики перенацелили на Ла-Паллис. Первые шесть "стирлингов" не добились попаданий, также как 30 ночных устаревших "Уитли". Не удалась и попытка семи "Бофортов" обставить линкор магнитными минами. И только произведенная днем 24 июля с высоты 3000 — 3700 м атака 15 "Галифаксов", вооруженных 227-кг фугасными и 454-кг бронебойными бомбами (по другим данным, первые были полубронебойными, а вторые весили 908 кг), дала результат.
Перед возвращением в Брест корабль стал на якорь в Ла-Паллисе. Англичане, почти ежедневно производившие аэрофотосъемку Бреста, вскоре обнаружили, что штатное место "Scharnhorst" занято танкером и еще двумя судами, пришвартованными друг к другу, чтобы с воздуха создать эффект крупного корабля. Все силы разведывательной авиации бросили на поиск, и уже 23 июля один из "Спитфайров" обнаружил стоявшего на якоре "беглеца". Подготовленные для очередного рейда на Брест тяжелые бомбардировщики перенацелили на Ла-Паллис. Первые шесть "стирлингов" не добились попаданий, также как 30 ночных устаревших "Уитли". Не удалась и попытка семи "Бофортов" обставить линкор магнитными минами. И только произведенная днем 24 июля с высоты 3000 — 3700 м атака 15 "Галифаксов", вооруженных 227-кг фугасными и 454-кг бронебойными бомбами (по другим данным, первые были полубронебойными, а вторые весили 908 кг), дала результат.
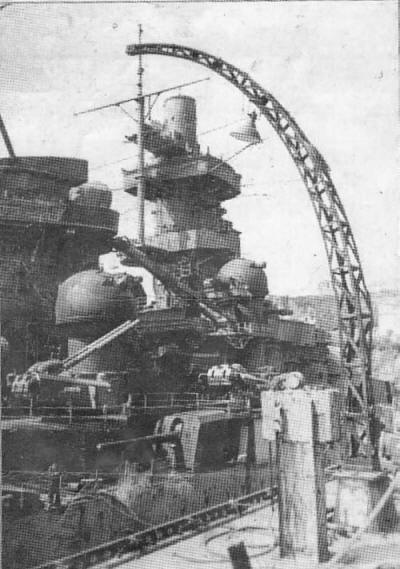 Повреждения "Scharnhorst" от бомб 24 июля 1941 года.
Повреждения "Scharnhorst" от бомб 24 июля 1941 года.
Самолеты обнаружили с дистанции 200 — 250 км, а первые из них появились над целью спустя 28 минут — в 14.13. Из сброшенных девятью самолетами 15 бронебойных и 53 фугасных бомб пять (соответственно 3 и 2) в 14.16 одновременно поразили корабль в правый борт — почти по прямой линии, параллельной диаметральной плоскости. Над кораблем поднялись сполохи пламени и столбы смешанной с нефтью воды. Пять машин немцы сбили и еще одна разбилась при посадке.
Первая 227-кг бомба ударила сбоку от боевой рубки, чуть впереди от 150-мм башни. Она прошла верхнюю и среднюю палубы и взорвалась на броневой, которая осталась неповрежденной. От взрыва образовалась трещина в палубе первой платформы, которую в месте взрыва сильно вспучило. Плиту бортовой брони, в которой пробило небольшое отверстие, выдавило наружу на 200 мм. В месте соединения противоторпедной переборки с главной бронепалубной ослабли заклепки, через которые начала течь вода. Боезапас к 150-мм орудиям, находившийся всего в трех метрах от места взрыва, не пострадал. Осколочные повреждения оказались незначительными.
Бомба весом 454 кг, попав между 105-мм и 150-мм установками, в 3,5 м от кромки палубы, пробила верхнюю, нижнюю броневую палубы и первую платформу, но, будучи отклоненной противоторпедной переборкой, пробила днище и ушла в воду без разрыва. Через пробоину корабль принял небольшое количество воды. Осколками пробило бортовые цистерны. Отделение генераторов № 4 заполнилось водой, вышли из строя несколько электроустановок, а осколки и забортная вода повредили кабели, идущие в боевой пост управления, посты управления стрельбой носовых зенитных батарей и башни "Anton".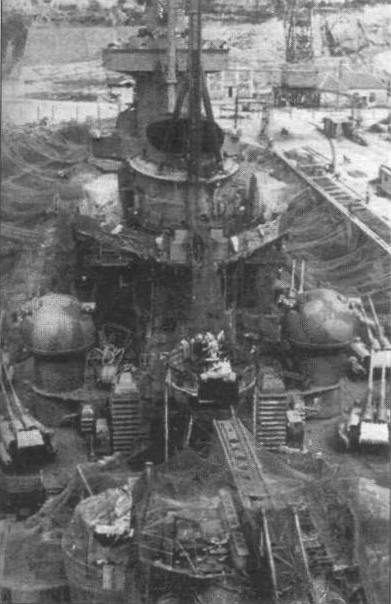
Вторая 454-кг бомба попала посередине между 150-мм и 105-мм орудиями в 2,6 м от кромки палубы, и также пробила все палубы, прежде чем вышла в воду через бортовую обшивку под броневым поясом с правого борта, тоже не взорвавшись. Затопило пять отсеков на протяжении 10 м. В некоторых помещениях погасло освещение, начались течи в погреба 150-мм боезапаса, осколки повредили жилые помещения.
Третья 454-кг бомба попала чуть сзади кормовой башни и в трех метрах от кромки борта, пробила верхнюю палубу и бортовую обшивку. Как позже выяснилось, и она ушла в воду без разрыва. Бортовую обшивку повредило весьма серьезно, а 10 водонепроницаемых отсеков, включая часть коридора правого гребного вала, заполнило водой. Затопило также погреба башни "Caesar" и вывело из строя ее подъемник боезапаса.
Еще одна 227-кг бомба упала перед носовой башней в трех метрах от кромки борта. Она пробила две палубы и взорвалась на главной броневой, проделав в ней небольшое отверстие и повредив место присоединения противоторпедной переборки. Осколки перебили несколько шпангоутов. Палубы вокруг пробоин вспучило и сильно испещрило осколками, затопило несколько отсеков у борта, повредило трубы отопления, питьевой воды и канализации под батарейной и средней палубами. Вышли из строя подъемники 37-мм боезапаса, хотя сам боезапас не пострадал. Согласно другим данным, бомбы попали в районах шпангоутов 133, 52 (обе фугасные), 120, 87 и 40.
Корабль получил крен 8 градусов на правый борт, поскольку затопило большинство отсеков системы контрзатопления. Количество принятой воды достигло 3000 т (из них 1200 т в результате контрзатопления), осадка кормой увеличилась на 3 м. Временно вышли из строя носовая и кормовая башни главного калибра, а также половина зенитной артиллерии. Несколько начавшихся мелких пожаров были быстро погашены. Погибло два члена экипажа и 15 получили ранения. От более тяжелых повреждений спасло то, что 454-кг бомбы не взорвались.
Благодаря организованной борьбе за живучесть крен и дифферент исправили довольно быстро. Пар в котлах подняли вообще в рекордное время. Осадка осталась на метр больше, но к 19.30 корабль смог выйти в Брест, развив скорость 25 узлов. На рассвете эсминец эскорта обнаружил и сбил британский разведывательный самолет. Когда 25 июля "Scharnhorst" прибыл в Брест, единственным видимым свидетельством повреждений осталась увеличенная осадка, из-за чего иллюминаторы в корме оказались почти у самой воды. Но невидимые глазу повреждения оказались очень серьезными. Кроме работ по корпусу, требовалось заменить около 50 км кабелей системы управления огнем и 150 км силовых кабелей. Для адмирала Редера это был тяжелый удар: все три тяжелых корабля в Бресте вышли из строя, "Lützow" и "Admiral Scheer" ремонтировались в метрополии, а "Tirpitz" еще не прошел положенных испытаний. Ремонт "Scharnhorst" занял 4 месяца. За это время на корабле установили новый радар в корме, а выходную мощность носового радара увеличили до 10 кВт.
Очередной всплеск активности англичан пришелся на декабрь, когда они, задетые удачей японцев в Пёрл-Харборе, снова стали посылать на Брест по сотне самолетов зараз и те добросовестно высыпали из своих люков по 100 — 150 тонн металла и взрывчатки. Но результат оставался тот же — мимо.

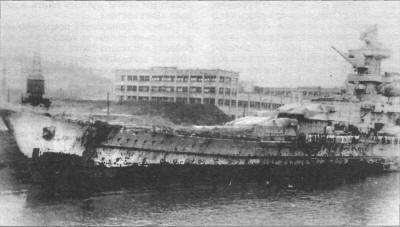
После того, как Германия и Италия 11 декабря 1941 года объявили войну США, для надводных кораблей оставалось мало шансов на успешные действия в Атлантике. Кроме того, "Gneisenau", "Scharnhorst" и присоединившийся к ним после гибели "Bismarck" "Prinz Eugen" имели большие перемены в личном составе, и требовалось время на учения и тренировки, чтобы выйти в дальний поход по Атлантике. Для перехода в Норвегию через Датский пролив или между Фарерами и Исландией все три корабля нуждались в дозаправке в море, а почти все немецкие корабли снабжения в Атлантике уже были перетоплены. Перед самой гибелью "Bismarck" с потопленной лодки U-100 англичане достали некоторые немецкие секретные коды, знание которых позволило потопить в мае — июне 1941 года основную массу немецких "снабженцев". К тому же, Гитлер 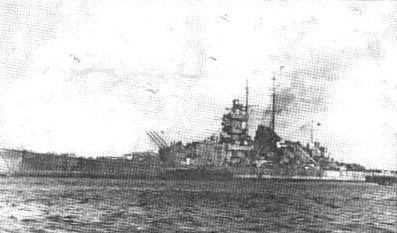 больше не хотел рисковать большими кораблями в Атлантике, считая более важной оборону Норвегии. Имея в виду возросшую эффективность радара и разведывательной авиации, командование флота предложило Гитлеру вернуть все три тяжелых корабля через Английский Канал — наиболее дерзкий и рискованный вариант прорыва. Германское военно-морское командование предвидело, что северные воды станут наиболее важным театром действий, особенно со вступлением в войну США и с ростом числа конвоев в СССР. Ремонт "Gneisenau" к тому времени закончили, и оставаться в Бресте, английские налеты на который становилось все ожесточеннее и точнее, было опасно. 18 декабря корабль получил осколочные повреждения от нескольких попаданий бомб в сухой док, 23 декабря он стал вдоль мола для проверки электронных систем, и в течение недели его привели в полную боевую готовность.
больше не хотел рисковать большими кораблями в Атлантике, считая более важной оборону Норвегии. Имея в виду возросшую эффективность радара и разведывательной авиации, командование флота предложило Гитлеру вернуть все три тяжелых корабля через Английский Канал — наиболее дерзкий и рискованный вариант прорыва. Германское военно-морское командование предвидело, что северные воды станут наиболее важным театром действий, особенно со вступлением в войну США и с ростом числа конвоев в СССР. Ремонт "Gneisenau" к тому времени закончили, и оставаться в Бресте, английские налеты на который становилось все ожесточеннее и точнее, было опасно. 18 декабря корабль получил осколочные повреждения от нескольких попаданий бомб в сухой док, 23 декабря он стал вдоль мола для проверки электронных систем, и в течение недели его привели в полную боевую готовность.
 "Scharnhorst" 30 декабря чуть было не заперло в доке, когда у его ворот взрывом тяжелой бомбы опрокинуло плавучий кран. Через несколько дней загорелись растянутые над кораблем камуфляжные сети, но крупных неприятностей удалось избежать.
"Scharnhorst" 30 декабря чуть было не заперло в доке, когда у его ворот взрывом тяжелой бомбы опрокинуло плавучий кран. Через несколько дней загорелись растянутые над кораблем камуфляжные сети, но крупных неприятностей удалось избежать.
К концу 1941 года закончили разработку предварительных планов по возвращению "Gneisenau", "Scharnhorst" и "Prinz Eugen" в Германию для службы в Норвегии, названной Гитлером "зоной судьбы". Повреждения, полученные "Gneisenau" при налетах на Брест, показали, что Люфтваффе не в состоянии обеспечить надежное воздушное прикрытие этих кораблей в базе. 6 января 1942 года при очередном налете бомба взорвалась между бортом "Gneisenau" и стенкой сухого дока. Осколки пробили в некоторых местах внешнюю обшивку в районе ватерлинии, что привело к затоплению нескольких бортовых отсеков. Починка заняла 10 суток.
 На совещании высшего командного состава флота и воздушных сил в штаб-квартире у Гитлера 12 января приняли окончательное решение о прорыве "брестской эскадры". При планировании операции, получившей название "Церберус", соблюдались все меры предосторожности и дезинформации о возможных перемещениях этих кораблей. В конце месяца назначенный командующим операцией вице-адмирал Отто Цилиакс (кстати, первый командир "Scharnhorst") получил детально разработанный план прорыва.
На совещании высшего командного состава флота и воздушных сил в штаб-квартире у Гитлера 12 января приняли окончательное решение о прорыве "брестской эскадры". При планировании операции, получившей название "Церберус", соблюдались все меры предосторожности и дезинформации о возможных перемещениях этих кораблей. В конце месяца назначенный командующим операцией вице-адмирал Отто Цилиакс (кстати, первый командир "Scharnhorst") получил детально разработанный план прорыва.
Вечером 26 января "Gneisenau" вышел в море для проверки механизмов и артиллерийских учений, и спустя несколько дней он был полностью готов к переходу через Английский Канал. "Scharnhorst" 15 января вышел из дока, погрузил боезапас и 3 февраля в течение 10 часов был в море для испытаний и артиллерийской практики. Остальную подготовку к прорыву пришлось проводить в гавани.
В первые дни февраля в ночное время началось траление прохода в Английском Канале, которое англичане так и не обнаружили. Зато переход флотилии эсминцев в Брест они засекли, что дало основание предположить о готовящемся выходе немецкой эскадры в Атлантику.
 Около 23.00 11 февраля 1942 года немцы начали одну из самых дерзких операций Второй мировой войны. Выход "Scharnhorst" (флаг Цилиакса), "Gneisenau" и "Prinz Eugen" на два часа задержал воздушный налет на Брест, так что корабли вошли в Канал сразу после полуночи. На 27-узловой скорости они прошли вдоль французского побережья, и в 06.30 около Шербура к ним присоединилась флотилия миноносцев. Чтобы дезориентировать английские радары, самолеты Люфтваффе кружились над самыми мачтами своих кораблей. Тесное взаимодействие флота и авиации обеспечивалось генералом Адольфом Галландом, который на каждый крупный корабль назначил для связи офицера Люфтваффе. Затем немецкие самолеты мешали работе британских радаров, сбрасывая отражатели из фольги. В 13.00 эскадра без сопротивления прошла скалы Дувра, но спустя 34 минуты ее атаковали шесть торпедоносцев "Суордфиш" в сопровождении истребителей "Spitfire". Мощное воздушное прикрытие связало боем "Спитфайры", а тихоходные торпедоносцы подверглись атакам других самолетов и яростному зенитному огню кораблей. Все шесть самолетов были сбиты, так и не добившись попаданий. Флагман открыл огонь по одному из "Суордфишей" с дистанции около 1 км. Самолет упал в воду примерно в ста метрах от левого борта корабля, но успел выпустить торпеду, от которой удалось уклониться резким отворотом.
Около 23.00 11 февраля 1942 года немцы начали одну из самых дерзких операций Второй мировой войны. Выход "Scharnhorst" (флаг Цилиакса), "Gneisenau" и "Prinz Eugen" на два часа задержал воздушный налет на Брест, так что корабли вошли в Канал сразу после полуночи. На 27-узловой скорости они прошли вдоль французского побережья, и в 06.30 около Шербура к ним присоединилась флотилия миноносцев. Чтобы дезориентировать английские радары, самолеты Люфтваффе кружились над самыми мачтами своих кораблей. Тесное взаимодействие флота и авиации обеспечивалось генералом Адольфом Галландом, который на каждый крупный корабль назначил для связи офицера Люфтваффе. Затем немецкие самолеты мешали работе британских радаров, сбрасывая отражатели из фольги. В 13.00 эскадра без сопротивления прошла скалы Дувра, но спустя 34 минуты ее атаковали шесть торпедоносцев "Суордфиш" в сопровождении истребителей "Spitfire". Мощное воздушное прикрытие связало боем "Спитфайры", а тихоходные торпедоносцы подверглись атакам других самолетов и яростному зенитному огню кораблей. Все шесть самолетов были сбиты, так и не добившись попаданий. Флагман открыл огонь по одному из "Суордфишей" с дистанции около 1 км. Самолет упал в воду примерно в ста метрах от левого борта корабля, но успел выпустить торпеду, от которой удалось уклониться резким отворотом.
Но в 14.31 в 30 м от левого борта "Scharnhorst" напротив башни "Bruno" взорвалась одна из магнитных мин, поставленных британскими самолетами на глубине 38 м несколькими днями ранее. На корабле из-за повреждения предохранителей вышли из строя электрические системы, оставив все помещения без освещения на 20 минут. Оставшиеся без питания аварийные выключатели на котлах и турбинах не позволили сразу остановить турбины.
 Пока "Scharnhorst" стоял без движения, вице-адмирал Отто Цилиакс перенес флаг на эсминец Z-29. При этом на эсминце, подошедшем близко к борту линкора на сильном волнении, оторвало крыло мостика, которое зацепилось за надстройки "Scharnhorst". Взрыв мины образовал обширную пробоину в районе башни "Bruno", в 30 водонепроницаемых отсеках пяти главных отсеков на длине 40 м, набралось около 1220 т воды, корабль получил крен на левый борт в 1 градус и дифферент на нос в 1 м. Повреждения от удара также оказались серьезные. Башню "Bruno" временно заклинило с серьезным повреждением главного электромотора. Заклинило также носовые 150-мм башню и одиночную 150-мм установку левого борта, повредило 105-мм установку № 2. Было уничтожено несколько трансформаторов и некоторое оборудование систем управления стрельбой. Из-за слабых фундаментов, не рассчитанных на такие ударные нагрузки, вышли из строя подшипники питательных насосов и турбогенераторов, что вынудило корабль остановиться. Из-за подшипников вышли из строя все турбогенераторы, за исключением находившихся в отделении №4. На короткое время вышли из строя кормовой гирокомпас, директор и эхолот.
Пока "Scharnhorst" стоял без движения, вице-адмирал Отто Цилиакс перенес флаг на эсминец Z-29. При этом на эсминце, подошедшем близко к борту линкора на сильном волнении, оторвало крыло мостика, которое зацепилось за надстройки "Scharnhorst". Взрыв мины образовал обширную пробоину в районе башни "Bruno", в 30 водонепроницаемых отсеках пяти главных отсеков на длине 40 м, набралось около 1220 т воды, корабль получил крен на левый борт в 1 градус и дифферент на нос в 1 м. Повреждения от удара также оказались серьезные. Башню "Bruno" временно заклинило с серьезным повреждением главного электромотора. Заклинило также носовые 150-мм башню и одиночную 150-мм установку левого борта, повредило 105-мм установку № 2. Было уничтожено несколько трансформаторов и некоторое оборудование систем управления стрельбой. Из-за слабых фундаментов, не рассчитанных на такие ударные нагрузки, вышли из строя подшипники питательных насосов и турбогенераторов, что вынудило корабль остановиться. Из-за подшипников вышли из строя все турбогенераторы, за исключением находившихся в отделении №4. На короткое время вышли из строя кормовой гирокомпас, директор и эхолот.
 Возможно, из-за плохого качества сварки в киле и обшивке днища перед носовой башней образовались трещины и раковины. То же, но из-за плохого качества отливки, произошло с клюзовой трубой правого борта.
Возможно, из-за плохого качества сварки в киле и обшивке днища перед носовой башней образовались трещины и раковины. То же, но из-за плохого качества отливки, произошло с клюзовой трубой правого борта.
Спустя 18 минут после взрыва запустили первую турбину, через 6 минут - вторую и в 15.01 — третью, что позволило дать ход в 27 узлов. Вскоре после этого двухмоторный бомбардировщик сбросил несколько бомб в 90 м от левого борта, которые не причинили повреждений. Чуть позже "Scharnhorst" в течение 10 минут атаковали 12 "бофортов", но их отогнали зенитный огонь и истребители Люфтваффе. Затем удалось уклониться от торпеды, сброшенной самолетом с кормового угла. Было еще несколько воздушных атак, но интенсивный огонь зениток и умелое маневрирование свели на нет все усилия англичан. Стволы зенитных автоматов раскалились докрасна, один даже разорвало, а у нескольких других заклинило приводы горизонтальной наводки.
Воздушным атакам подвергались и ушедшие вперед "Gneisenau", "Prinz Eugen" и пять эсминцев. В 14.45 пять двухмоторных истребителей-бомбардировщиков "Уирлвинд" попытались выйти в атаку, но были отогнаны немецкими истребителями.  В течение двух последующих часов истребителями и зенитным огнем отбили еще несколько воздушных налетов. Всего в атаках на соединение участвовало 242 английских самолета, из которых на цель смогли выйти всего 39. Хотя в крупные корабли попаданий не было, два корабля эскорта получили осколочные повреждения и были вынуждены искать убежища в базах.
В течение двух последующих часов истребителями и зенитным огнем отбили еще несколько воздушных налетов. Всего в атаках на соединение участвовало 242 английских самолета, из которых на цель смогли выйти всего 39. Хотя в крупные корабли попаданий не было, два корабля эскорта получили осколочные повреждения и были вынуждены искать убежища в базах.
В 16.17 пять британских эсминцев вышли в безрезультатную атаку на соединение "Gneisenau" с дистанции 3700 м. Линейный крейсер открыл огонь из 283-мм орудий полными залпами, затем к нему присоединились 203-мм орудия "Prinz Eugen".  Один из эсминцев — "Warchester" — сблизился на дистанцию 200 м, но пораженный 283-мм и 203-мм снарядами остановился, оказавшись в течение 10 минут под концентрированным огнем немецких кораблей. На "Gneisenau" из-за сильного ветра, гнавшего собственный дым в сторону цели, с трудом различали всплески от своих снарядов, что, возможно, спасло "Warchester" от гибели. Тем не менее, он получил тяжелые повреждения надстроек, лишился обеих мачт. Несколько 283-мм снарядов прошили его корпус насквозь, оставив в бортах огромные пробоины. Сильный обстрел и плохая погода помешали британским эсминцам провести решительную атаку.
Один из эсминцев — "Warchester" — сблизился на дистанцию 200 м, но пораженный 283-мм и 203-мм снарядами остановился, оказавшись в течение 10 минут под концентрированным огнем немецких кораблей. На "Gneisenau" из-за сильного ветра, гнавшего собственный дым в сторону цели, с трудом различали всплески от своих снарядов, что, возможно, спасло "Warchester" от гибели. Тем не менее, он получил тяжелые повреждения надстроек, лишился обеих мачт. Несколько 283-мм снарядов прошили его корпус насквозь, оставив в бортах огромные пробоины. Сильный обстрел и плохая погода помешали британским эсминцам провести решительную атаку.
Эта группа эсминцев собиралась в большой спешке, в нее вошли два корабля 16-й флотилии из Гарвича и четыре из 21-й флотилии из Ширнесса. Один эсминец из-за проблем с подшипниками гребного вала остался позади.  Следует также отметить, что Флот метрополии вышел из Скапа-Флоу к Хваль-фиорду, Исландия, чтобы занять наилучшую позицию для перехвата немцев, если бы те попытались прорываться через северную Атлантику. Ядро этих сил составили линкоры "King George V" и "Rodney", а также авианосец "Victorious".
Следует также отметить, что Флот метрополии вышел из Скапа-Флоу к Хваль-фиорду, Исландия, чтобы занять наилучшую позицию для перехвата немцев, если бы те попытались прорываться через северную Атлантику. Ядро этих сил составили линкоры "King George V" и "Rodney", а также авианосец "Victorious".
Тем временем давший ход "Scharnhorst" отстал от главных сил на 23 км. В 16.08 состоялась атака, в которой приняли участие около 100 бомбардировщиков "Гудзон" и "Бофорт". Снова попаданий в корабли не было, а, по меньшей мере, пять самолетов немцы сбили.
В 18.06 один из британских торпедоносцев прорвался сквозь плотный зенитный огонь, но выпущенная им торпеда шла близко к поверхности и корабль без труда от нее уклонился. С наступлением темноты соединение в течение 30 минут подвергалось атаке бомбардировщиков "Веллингтон", которых удалось отогнать, сбив несколько машин. .jpg) Налеты несколько задержали продвижение немецкого соединения, так что британская авиация успела поставить мины в устье Эльбы и на подходе к Кильскому каналу.
Налеты несколько задержали продвижение немецкого соединения, так что британская авиация успела поставить мины в устье Эльбы и на подходе к Кильскому каналу.
На одной из мин, сброшенных несколькими днями ранее, около Терсхеллинга (Голландия) в 19.55 и подорвался шедший 27-узловой скоростью "Gneisenau". Взрыв пришелся перед кормовой башней, в результате в корпусе образовалось несколько вмятин, некоторые сварные швы и листы обшивки дали трещины. Произошла потеря мощности средней турбины, и командир приказал остановить корабль. Коридор правого гребного вала оказался затопленным, центровка вала нарушенной, из-за чего разбило некоторые набивочные сальники. Началась фильтрация забортной воды внутрь корпуса, но крен и дифферент оказались незначительными. Щели в сальниках быстро заделали непористым материалом, а поступившую воду стали откачивать помпами. От удара вышла из строя часть навигационного оборудования, но орудия и механизмы не пострадали. Через 30 минут корабль дал ход и на малой скорости продолжил движение.  В 3.50 вместе с двумя эсминцами "Gneisenau" стал на якорь в Гельголандской бухте.
В 3.50 вместе с двумя эсминцами "Gneisenau" стал на якорь в Гельголандской бухте.
К 18.00 "Scharnhorst" подошел к побережью Голландии. В 19.16 за его кормой упало несколько бомб, сброшенных с большой высоты. А в 21.34 с правого борта на глубине 24 м взорвалась еще одна магнитная мина. На две минуты вышли из строя гирокомпасы и освещение. Снова пришлось остановить все турбины: левую и среднюю заклинило, а правая оказалась почти не поврежденной.
 Около кормовой установки 105-мм зениток образовалась большая пробоина. Десять помещений в четырех главных водонепроницаемых отсеках приняли около 300 т воды. Крепления паропроводов в машинном отделении правого борта не выдержали удара и из-за образовавшихся утечек пара соответствующие котлы пришлось отключить. Фундаментные болты внешних подшипников гребного вала разрушились. Пришлось идти только под средней турбиной на скорости 10 узлов, пока не дали часть нагрузки на правый вал, после чего скорость довели до 14 узлов. Крен на левый борт, образовавшийся после первого взрыва, выровнялся, но осадка увеличилась еще больше. Правую турбину запустили в 22.11, но левая требовала ремонта на верфи. Дополнительные повреждения получили электрические системы, из-за выхода из строя автоматического оборудования переключатели не работали 30 минут, вышло из строя отделение генераторов № 5, а отделение № 2 с трудом поддерживало устойчивую подачу тока. Механизмы и вращающиеся части башен главного калибра из-за сильного удара получили незначительные повреждения, чуть серьезнее повредило несколько 105-мм установок.
Около кормовой установки 105-мм зениток образовалась большая пробоина. Десять помещений в четырех главных водонепроницаемых отсеках приняли около 300 т воды. Крепления паропроводов в машинном отделении правого борта не выдержали удара и из-за образовавшихся утечек пара соответствующие котлы пришлось отключить. Фундаментные болты внешних подшипников гребного вала разрушились. Пришлось идти только под средней турбиной на скорости 10 узлов, пока не дали часть нагрузки на правый вал, после чего скорость довели до 14 узлов. Крен на левый борт, образовавшийся после первого взрыва, выровнялся, но осадка увеличилась еще больше. Правую турбину запустили в 22.11, но левая требовала ремонта на верфи. Дополнительные повреждения получили электрические системы, из-за выхода из строя автоматического оборудования переключатели не работали 30 минут, вышло из строя отделение генераторов № 5, а отделение № 2 с трудом поддерживало устойчивую подачу тока. Механизмы и вращающиеся части башен главного калибра из-за сильного удара получили незначительные повреждения, чуть серьезнее повредило несколько 105-мм установок.
В 8.00 13 февраля "Scharnhorst" встретил несколько задержавший его продвижение лед в устье реки Яде. Вице-адмирал Цилиакс снова перенес на него флаг; днем корабль пришел в Вильгельмсхафен, где его поставили в док для осмотра корпуса. Оказалось, что повреждения не настолько серьезные, чтобы корабль долго держать на верфи в Вильгельмсхафене, которая была слишком близко от авиабаз англичан и подвергалась частым налетам. Поэтому корабль для ремонта повреждений перешел в Киль.
Успеху прорыва во многом способствовало взаимодействие с Люфтваффе, которые выделили для воздушного прикрытия 252 истребителя. Это был один из немногих случаев, когда германские флот и авиация так хорошо действовали вместе, что почувствовали и англичане, потерявшие в налетах на прорывавшуюся "брестскую эскадру" более 40 самолетов.
 "Gneisenau" покинул якорную стоянку, чтобы вместе с "Prinz Eugen" перейти в Киль. Вход в Кильский канал был блокирован тяжелым льдом, из-за чего оба корабля задержались в Брунсбюттеле. При маневрировании в гавани "Gneisenau" ударился о подводную скалу, получив пробоину перед выходом правого вала из корпуса. Снова затопило коридор гребного вала, а при маневрировании во льдах повредило лопасти гребного винта, который требовалось заменить.
"Gneisenau" покинул якорную стоянку, чтобы вместе с "Prinz Eugen" перейти в Киль. Вход в Кильский канал был блокирован тяжелым льдом, из-за чего оба корабля задержались в Брунсбюттеле. При маневрировании в гавани "Gneisenau" ударился о подводную скалу, получив пробоину перед выходом правого вала из корпуса. Снова затопило коридор гребного вала, а при маневрировании во льдах повредило лопасти гребного винта, который требовалось заменить.
В конце концов, "Gneisenau" прошел в Киль, где на военной верфи начал ремонт.


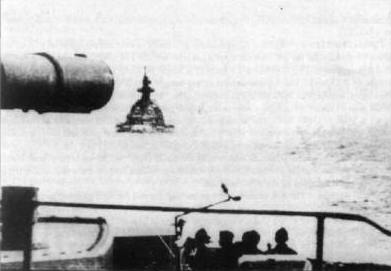








| "GNEISENAU". ФИНАЛ СЛУЖБЫ |
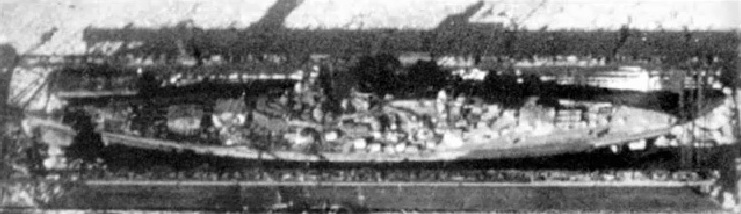 В конце концов, "Gneisenau" прошел в Киль, где на военной верфи начал ремонт. Командиром корабля стал капитан цур зее Рудольф Петере. В это время у немцев в строю флота находились всего один линкор ("Tirpitz") и два линейных крейсера, причем оба последних были на ремонте на одной и той же верфи.
В конце концов, "Gneisenau" прошел в Киль, где на военной верфи начал ремонт. Командиром корабля стал капитан цур зее Рудольф Петере. В это время у немцев в строю флота находились всего один линкор ("Tirpitz") и два линейных крейсера, причем оба последних были на ремонте на одной и той же верфи.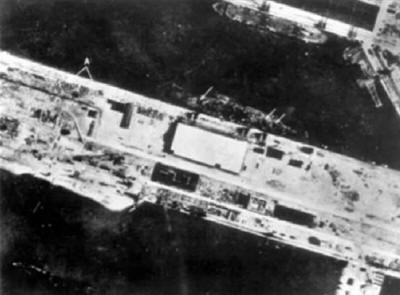
Гросс-адмирал Эрих Редер настаивал на скорейшем завершении работ, чтобы сосредоточить в Норвегии хотя бы два капитальных корабля. Весь персонал Кораблестроительного отдела, имевший отношение к ремонту, послали на Кильскую верфь, чтобы ускорить дело. Германское Береговое командование заявило, что противовоздушная оборона вокруг Киля более, чем достаточная, чтобы прикрыть оба ремонтировавшихся корабля.
Работы на "Gneisenau" закончились 26 февраля, а выход в Норвегию намечался на 6 марта. Корабль погрузил боезапас и был готов к доковым испытаниям. Однако в ночь на 27 февраля его атаковали британские бомбардировщики. Одна 454-кг бронебойная бомба под углом 20 градусов к вертикали ударила в верхнюю палубу между правым и средним орудиями носовой башни, в полутора метрах от диаметральной плоскости. Она взорвалась в неприкрытом отверстии небольшого вентилятора и раскаленный осколок воспламенил несколько зарядов в погребе. В результате взрыва серьезно пострадали башня и погреб, а пожар охватил заряды в отделении готового боезапаса. Силой взрыва сбросило крышу башни, а всю вращающую структуру приподняло на полметра, а затем бросило на роликовый погон.  Это выяснили при обследовании повреждений, когда оказалось, что некоторые боевые посты, обычно не мешавшие вращению башни, оказались поврежденными. Дальнейшая проверка показала, что ролики, по которым при повороте катилась башня, выскочили из неподвижной обоймы и в беспорядке лежали на ней. Боезапас в погребах не взорвался, но в соседних с ними топливных цистернах начались пожары. Вентиляционная система в этой части корабля была полностью уничтожена, бронированный люк подачи воздуха разрушен, пострадали многие плиты башенной брони. Огромная температура от горящей нефти и 230 зарядов главного калибра нарушила структурные свойства материала обшивки и броневых плит на большой площади в районе башни "Anton", что требовало их полной замены. Пожар полностью опустошил башню, но губительного взрыва удалось избежать частичным затоплением снарядных погребов. Вне башни и погребов деформировало нижнюю броневую палубу, бимсы и настил верхней палубы вспучило кверху, противоторпедную переборку избороздило складками и трещинами, а слабые места ее соединений разрушило. Повреждены оказались все соседние палубы, платформы и переборки. Из-за интенсивной борьбы с огнем носовая часть корабля на длине 42 метра оказалась заполненной водой.
Это выяснили при обследовании повреждений, когда оказалось, что некоторые боевые посты, обычно не мешавшие вращению башни, оказались поврежденными. Дальнейшая проверка показала, что ролики, по которым при повороте катилась башня, выскочили из неподвижной обоймы и в беспорядке лежали на ней. Боезапас в погребах не взорвался, но в соседних с ними топливных цистернах начались пожары. Вентиляционная система в этой части корабля была полностью уничтожена, бронированный люк подачи воздуха разрушен, пострадали многие плиты башенной брони. Огромная температура от горящей нефти и 230 зарядов главного калибра нарушила структурные свойства материала обшивки и броневых плит на большой площади в районе башни "Anton", что требовало их полной замены. Пожар полностью опустошил башню, но губительного взрыва удалось избежать частичным затоплением снарядных погребов. Вне башни и погребов деформировало нижнюю броневую палубу, бимсы и настил верхней палубы вспучило кверху, противоторпедную переборку избороздило складками и трещинами, а слабые места ее соединений разрушило. Повреждены оказались все соседние палубы, платформы и переборки. Из-за интенсивной борьбы с огнем носовая часть корабля на длине 42 метра оказалась заполненной водой.
Энергетическая установка не пострадала, но из-за затоплений лишились энергии якорные устройства, отливные забортные и пожарные насосы, другое электрооборудование. Часть электросистем удалось восстановить силами экипажа еще до начала ремонта. Наиболее серьезной оказалась потеря пожарных насосов, способных быстро погасить пожар в погребах.
При взрыве погибло 112 человек и еще 21 ранило. При ремонте следовало заменить башню "Anton", ее погреба, а также множество плит закаленной брони, листов обшивки и переборок. По оценкам, ремонт требовал два года, и долгий выход "Gneisenau" из строя стал серьезным ударом для германского флота.
 Поскольку повреждения корабля оказались значительными и их ремонт требовал длительного времени, специалисты флота начали проработку проекта перевооружения "Gneisenau" шестью 380-мм орудиями вместо девяти 283-миллиметровых. Такая замена планировалась и ранее, но помешала начавшаяся война, а также возникавшая при этом перегрузка, сопровождавшаяся уменьшением высоты борта и увеличением дифферента на нос, если носовую часть корпуса не подвергать решительной переделке. Но теперь, с повреждением именно носовой части, ситуация изменилась. Расчеты показали, что при соответствующем удлинении носа перевооружение никак не скажется на осадке и дифференте. Более детальные проработки перевооружения "Gneisenau" шестью 380-мм 52-калиберными орудиями, проведенные в течение 1942 года, показали следующее:
Поскольку повреждения корабля оказались значительными и их ремонт требовал длительного времени, специалисты флота начали проработку проекта перевооружения "Gneisenau" шестью 380-мм орудиями вместо девяти 283-миллиметровых. Такая замена планировалась и ранее, но помешала начавшаяся война, а также возникавшая при этом перегрузка, сопровождавшаяся уменьшением высоты борта и увеличением дифферента на нос, если носовую часть корпуса не подвергать решительной переделке. Но теперь, с повреждением именно носовой части, ситуация изменилась. Расчеты показали, что при соответствующем удлинении носа перевооружение никак не скажется на осадке и дифференте. Более детальные проработки перевооружения "Gneisenau" шестью 380-мм 52-калиберными орудиями, проведенные в течение 1942 года, показали следующее:
- необходимо значительно повысить мощность электросети;
- необходимо подкрепить барбеты башен главного калибра;
- новые башни, устанавливаемые на существующие барбеты, нужно еще спроектировать и изготовить;
- следует изменить системы подачи боезапаса и управления артогнем;
- для получения дополнительного запаса плавучести и смещения центра плавучести к носу корпус необходимо удлинить.
Что и говорить, переделки значительные. Возрастающие нагрузки в электроцепях требовали прокладки новых кабелей. Для сохранения принятого в германском флоте 100%-го дублирования электроснабжения следовало повысить мощность генераторов путем замены их приводных двигателей. Тем не менее, проект переделки утвердили. Фирма Круппа спроектировала и изготовила одну башню, которая удовлетворяла всем требованиям. Еще две башни находились в производстве, когда в феврале 1943 года работы приказали прекратить. Так как башни и орудия к ним оказались готовыми раньше планируемого срока, их решили использовать в береговой обороне.
Перевооружение утяжеляло носовую часть корабля, что планировали компенсировать удлинением корпуса на 10 м. Новый нос не имел бульба и напоминал носовую часть проектируемых линейных крейсеров типа "О". Изменение формы корпуса и увеличение длины по ватерлинии в основном снимали проблемы увеличения осадки и дифферента, а смещение центра плавучести к носу уменьшало дифферент при полной нагрузке. Увеличенный корпус давал и дополнительный внутренний объем, но здесь больших преимуществ (например, увеличить запас топлива) получить не удавалось снова из-за проблем с дифферентом. Новый нос по проекту должен был вытеснять воды даже меньше, чем до этого. Еще ранее между самолетным ангаром и кормовой боевой рубкой планировалось установить треногую мачту, которую даже изготовили в Киле. Но из-за недостатка времени перед отправкой корабля в Норвегию ее так и не поставили. А затем в корабль попала эта злополучная бомба.
Хотя планировалось изменить только главный калибр, рассматривались и варианты замены среднего калибра. Немцы уже закончили разработку удачного универсального 128-мм орудия, намного превосходящего старое 105-мм. За счет снятия всех 150-мм и 105-мм установок удавалось разместить 22 128-мм ствола в 11-ти закрытых башнях, а число 20-мм автоматов повышалось до 58 (7x4, 30x1). Правда, все 37-мм спарки при этом снимались. Но такое перевооружение требовало большого объема работ и времени, а приоритетом в получении 128-миллиметровок пользовались армия и Люфтваффе. Поэтому решили оставить на "Gneisenau" 150-мм и 105-мм батареи, увеличив только число 20-мм автоматов, так как прорыв через Английский Канал продемонстрировал важность сильной ПВО кораблей.
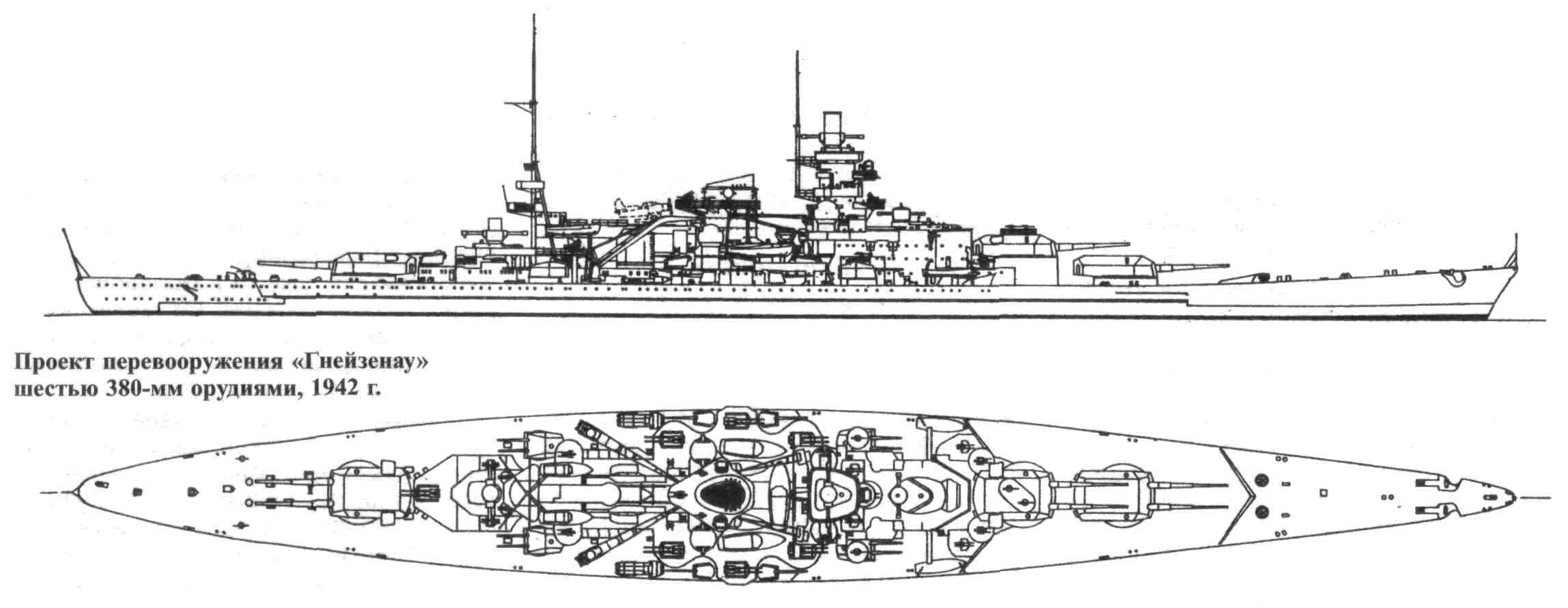
Германский морской штаб одобрил реконструкцию "Gneisenau" и его перевооружение 380-мм орудиями сразу же после окончания проектных исследований в начале 1942 года. Необходимый плавучий док перевели в Гдыню, как только позволила ледовая обстановка на Балтике. За ним должен был последовать и "Gneisenau". План работ по замене вооружения выглядел так:
- снятие башни "Anton" до выхода в Гдыню;
- замена старой носовой секции новой, на 10 м длиннее и с усиленной конструкцией;
- замена 9 283-мм орудий в строенных башнях на 6 380-мм в спаренных башнях;
- замена мачты на трубе более массивной треногой грот-мачтой, установленной за ангаром, как на "Scharnhorst".
 24 марта 1942 года "Gneisenau" посетил адмирал Редер, который в обращении к экипажу сказал, что их корабль станет более мощным. 4 апреля "Gneisenau" в сопровождении ледокола "Kastor" и старого линкора "Schlesien" вышел в Гдыню, куда прибыл через двое суток, несмотря на тяжелый лед по маршруту. Там носовую часть отрезали по 185-му шпангоуту (нумерация у немцев с кормы), сняли часть палубной и бортовой брони, а также противоторпедные переборки в районе башни "Anton". Демонтировали и остальные башни.
24 марта 1942 года "Gneisenau" посетил адмирал Редер, который в обращении к экипажу сказал, что их корабль станет более мощным. 4 апреля "Gneisenau" в сопровождении ледокола "Kastor" и старого линкора "Schlesien" вышел в Гдыню, куда прибыл через двое суток, несмотря на тяжелый лед по маршруту. Там носовую часть отрезали по 185-му шпангоуту (нумерация у немцев с кормы), сняли часть палубной и бортовой брони, а также противоторпедные переборки в районе башни "Anton". Демонтировали и остальные башни.
По расчетам, замена орудий требовала 75 000 человеко-часов, а установка нового носа еще 45 000 — при условии одновременного использования 300 рабочих с возможным увеличением до 500. По вспомогательным работам рабочие верфи помогали экипажу лишь отчасти. Необходимые материалы должны были поставить субподрядчики. Фирма Круппа отвечала за изготовление новых башен, отличавшихся от башен "Bismarck" и "Tirpitz", поскольку сохранялись старые барбеты. Орудия и башни уже были готовы, не хватало только внутренних механизмов, арматуры, башенных приборов и устройств, оборудования для систем управления огнем.
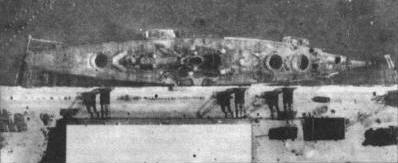 Имелись определенные опасения по поводу больших продольных габаритов новых башен, особенно башни "Bruno", задний свес которой мог задевать носовую надстройку, и ее пришлось бы несколько переделать. Элементы крепления башен проверялись на верфи Дойче Верке в Киле, где определилась необходимость в дополнительных подкреплениях, чтобы выдерживать отдачу 380-мм орудий. В результате специалисты рекомендовали подкрепить фундаменты под старыми барбетами.
Имелись определенные опасения по поводу больших продольных габаритов новых башен, особенно башни "Bruno", задний свес которой мог задевать носовую надстройку, и ее пришлось бы несколько переделать. Элементы крепления башен проверялись на верфи Дойче Верке в Киле, где определилась необходимость в дополнительных подкреплениях, чтобы выдерживать отдачу 380-мм орудий. В результате специалисты рекомендовали подкрепить фундаменты под старыми барбетами.
 Часто приходится слышать неверное утверждение, что "Scharnhorst" и "Gneisenau" с самого начала проектировали под 380-мм орудия. Действительно, диаметры барбетов и роликовых погонов трехорудийных 283-мм башен почти соответствовали двухорудийным 380-мм башням. Впервые возможность такой замены немцы рассматривали в 1935 году, установив, что она вполне осуществима. Если бы работы на "Gneisenau" закончили, он с вооружением из шести 380-мм орудий напоминал бы британский "Repulse".
Часто приходится слышать неверное утверждение, что "Scharnhorst" и "Gneisenau" с самого начала проектировали под 380-мм орудия. Действительно, диаметры барбетов и роликовых погонов трехорудийных 283-мм башен почти соответствовали двухорудийным 380-мм башням. Впервые возможность такой замены немцы рассматривали в 1935 году, установив, что она вполне осуществима. Если бы работы на "Gneisenau" закончили, он с вооружением из шести 380-мм орудий напоминал бы британский "Repulse".
Еще одним подтверждением целесообразности замены главного калибра могут служить результаты предвоенных обстрелов превращенного в корабль-цель старого броненосца "Hannover" 283-мм и 380-мм снарядами, направлявшимися в машинные и котельные отделения. Когда в машинном отделении взорвался 283-мм снаряд, в нем перебило все паропроводы, то есть в бою его пришлось бы покинуть. Но повреждения машин не были фатальными и их исправили при возвращении корабля-цели на верфь. При взрыве же 380-мм снаряда главную машину уничтожило окончательно, так что ее пришлось полностью заменить на новую. Эти результаты, а также серьезное повреждение "Gneisenau" при налете на Киль в феврале 1942 года и объясняют, почему немцы решились на его перевооружение.
Модернизация увеличивала водоизмещение корабля примерно на 1200 т, но удлинение корпуса позволило бы сохранить осадку и высоту надводного борта и не допустить дифферента на нос за счет смещения центра плавучести относительно центра тяжести.
Все было готово для составления графика поступления материалов. В начале 1943 года на корабль уже можно было ставить новые башни и носовую часть корпуса, но Гитлер, взбешенный неудачной атакой надводных кораблей союзного конвоя в СССР 31 декабря 1942 года, приказал пустить на слом все линейные корабли и крейсера Кригсмарине. Работы на "Gneisenau" остановили, а все материалы отдали на более срочные нужды.
Башни с 283-мм орудиями вскоре увезли с верфи и направили: "Anton" в Голландию, "Bruno" и "Caesar" в Норвегию, где их собирались использовать для береговой обороны Тронхейма и Бергена. Батарея Орландет, обозначенная МКВ 4/507 (Marine-Kanone-Batterie, то есть батарея из морских орудий) под Тронхеймом получила башню "Caesar", а батарея Фиель (МКВ 11/504), ядро которой составила башня "Bruno", охраняла вход в Берген-фиорд.
 До конца войны установили только башню на полуострове Орланд у входа в фиорд Тронхейма на высоте 45 м над уровнем моря. Башенный дальномер сняли, заделав отверстия плитами, а управляли огнем с помощью дальномеров в бронированных куполах, которые располагались на соседних горах. Из-за экстремально низких температур на севере Норвегии башня получила дополнительную теплоизоляцию. После войны батарея перешла к норвежцам, которые, в конце концов, стали использовать ее погреба как склад. Последний залп батарея дала в 1954 году и по настоящее время работает как военный музей. Орудия башни "Anton" установили у Розенбурга (район Хоек ван Холланд) в одиночных башнях типа LC/37. Им довелось сыграть главную роль в экранизации известной повести О. Маклина "Пушки острова Наварон".
До конца войны установили только башню на полуострове Орланд у входа в фиорд Тронхейма на высоте 45 м над уровнем моря. Башенный дальномер сняли, заделав отверстия плитами, а управляли огнем с помощью дальномеров в бронированных куполах, которые располагались на соседних горах. Из-за экстремально низких температур на севере Норвегии башня получила дополнительную теплоизоляцию. После войны батарея перешла к норвежцам, которые, в конце концов, стали использовать ее погреба как склад. Последний залп батарея дала в 1954 году и по настоящее время работает как военный музей. Орудия башни "Anton" установили у Розенбурга (район Хоек ван Холланд) в одиночных башнях типа LC/37. Им довелось сыграть главную роль в экранизации известной повести О. Маклина "Пушки острова Наварон".
Позже с корабля сняли и 150-мм артиллерию: две башни и одноорудийную установку смонтировали на о. Фаньо (Дания), остальные — на побережье Голландии. Предназначенные для "Gneisenau" 380-мм орудия направили на побережье Ютландии, чтобы использовать в береговой обороне, но до конца войны этот проект так и не реализовали.




"Gneisenau": завершение карьеры.
 1 июля 1942 года "Gneisenau" был официально исключён из состава флота, большую часть экипажа перевели на другие корабли, оставив лишь небольшое подразделение для несения повседневной службы и обслуживания зенитных орудий. Оставались на борту и артиллеристы, которые должны были осваивать новые 380-мм орудия.
1 июля 1942 года "Gneisenau" был официально исключён из состава флота, большую часть экипажа перевели на другие корабли, оставив лишь небольшое подразделение для несения повседневной службы и обслуживания зенитных орудий. Оставались на борту и артиллеристы, которые должны были осваивать новые 380-мм орудия.
Но 2 февраля 1943 года, когда, согласно директиве нового командующего Кригсмарине адмирала Карла Дёница, линейные корабли и крейсера следовало разукомплектовать, последние члены экипажа покинули "Gneisenau". Сам корабль вскоре разоружили со снятием части оборудования. Оставшиеся годы войны он простоял в Гдыне как никому не нужный блокшив. При наступлении на город частей Советской Армии "Gneisenau" 28 марта 1945 года затопили в качестве брандера, чтобы загородить фарватер. После войны польское правительство приказало поднять корабль, после чего останки пустить на слом. Работы закончились только 12 сентября 1951 года.


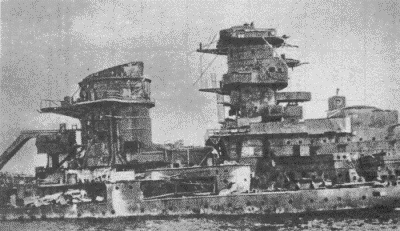








| "SCHARNHORST". ФИНАЛ СЛУЖБЫ |
"Scharnhorst" в норвежских водах.
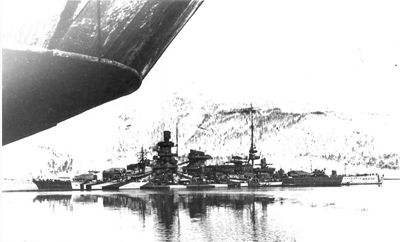 "Scharnhorst" в Киле повезло больше, хотя 12 марта 1942 года и он во время очередного налета получил небольшие повреждения, на борту имелись убитые и раненые. 1 апреля произведенного в чин контр-адмирала Хоффманна на посту командира корабля сменил капитан цур зее Фридрих Хюффмайер. Корабль следовало на 10 недель поставить в док и затем еще 3 недели заканчивать ремонт на плаву. Но из-за угрозы с воздуха плавучий док, где чинился "Scharnhorst", отбуксировали в Кильскую бухту и держали там, пока ПВО базы не усилили дополнительными зенитками и истребителями.
"Scharnhorst" в Киле повезло больше, хотя 12 марта 1942 года и он во время очередного налета получил небольшие повреждения, на борту имелись убитые и раненые. 1 апреля произведенного в чин контр-адмирала Хоффманна на посту командира корабля сменил капитан цур зее Фридрих Хюффмайер. Корабль следовало на 10 недель поставить в док и затем еще 3 недели заканчивать ремонт на плаву. Но из-за угрозы с воздуха плавучий док, где чинился "Scharnhorst", отбуксировали в Кильскую бухту и держали там, пока ПВО базы не усилили дополнительными зенитками и истребителями.
 Это задержало ремонтные работы, и корабль вывели из дока только 16 июня, а предъявили к испытаниям в июле. После их завершения "Scharnhorst" провел еще несколько дней в Киле, меняя трубки в восьми котлах. Обнаружились и неполадки в турбинах, в частности, левой низкого давления.
Это задержало ремонтные работы, и корабль вывели из дока только 16 июня, а предъявили к испытаниям в июле. После их завершения "Scharnhorst" провел еще несколько дней в Киле, меняя трубки в восьми котлах. Обнаружились и неполадки в турбинах, в частности, левой низкого давления.
 16 августа "Scharnhorst" под эскортом вышел в Готенхафен для учений и тренировок. Спустя месяц во время учений с подводными лодками он столкнулся с U-523. Хотя повреждения не были серьезными, корабль пришлось на несколько дней поставить в док. В конце октября в Готенхафене на нем заменили руль. В новой конструкции учли опыт повреждений от торпед "Lützow" и "Prinz Eugen". Проблемы с котлами и турбинами помешали кораблю перейти в Норвегию в течение 1942 года. В декабре "Scharnhorst" имел в действии всего два вала и не мог дать больше 25 узлов. Поэтому ему предписали капитальный ремонт механизмов. Уже в январе 1943 года энергетическую установку ввели в действие, испытания признали удовлетворительными, а сам корабль — готовым к переводу в Норвегию. Несмотря на то, что его по известному приказу Гитлера 1 июля 1943 года должны были разукомплектовать, после больших учений, которыми командовал адмирал Шнивиндт, 7 января "Scharnhorst", "Prinz Eugen" и пять эсминцев вышли в Норвегию (операция "Фронттеатер"). Но после обнаружения активности на аэродромах всего побережья Англии и Шотландии 11 января соединение вернули.
16 августа "Scharnhorst" под эскортом вышел в Готенхафен для учений и тренировок. Спустя месяц во время учений с подводными лодками он столкнулся с U-523. Хотя повреждения не были серьезными, корабль пришлось на несколько дней поставить в док. В конце октября в Готенхафене на нем заменили руль. В новой конструкции учли опыт повреждений от торпед "Lützow" и "Prinz Eugen". Проблемы с котлами и турбинами помешали кораблю перейти в Норвегию в течение 1942 года. В декабре "Scharnhorst" имел в действии всего два вала и не мог дать больше 25 узлов. Поэтому ему предписали капитальный ремонт механизмов. Уже в январе 1943 года энергетическую установку ввели в действие, испытания признали удовлетворительными, а сам корабль — готовым к переводу в Норвегию. Несмотря на то, что его по известному приказу Гитлера 1 июля 1943 года должны были разукомплектовать, после больших учений, которыми командовал адмирал Шнивиндт, 7 января "Scharnhorst", "Prinz Eugen" и пять эсминцев вышли в Норвегию (операция "Фронттеатер"). Но после обнаружения активности на аэродромах всего побережья Англии и Шотландии 11 января соединение вернули.
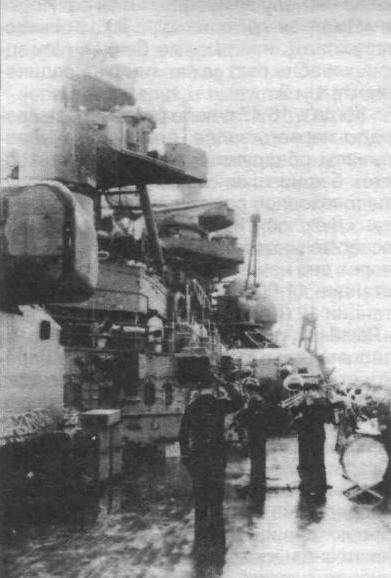 К этому времени англичанам с помощью дешифровальной машинки "Ультра" удалось "расколоть" германские коды и они перехватили сообщение о посылке "Scharnhorst" в Норвегию. Адмиралтейство приказало Береговому командованию принять меры по атаке немецких кораблей.
К этому времени англичанам с помощью дешифровальной машинки "Ультра" удалось "расколоть" германские коды и они перехватили сообщение о посылке "Scharnhorst" в Норвегию. Адмиралтейство приказало Береговому командованию принять меры по атаке немецких кораблей.
23 января "Scharnhorst" снова вернули с перехода (операция "Домино") по той же причине, а во время подготовки к третьему выходу 10 февраля он сел на мель, пытаясь избежать столкновения с подводной лодкой. Пробоину в носу латали в сухом доке 24 — 26 февраля. В это время руководство обсуждало дальнейшую судьбу "Scharnhorst" в свете решения фюрера вывести из строя все крупные корабли. Адмиралы Дёниц и Шнивиндт считали, что его все-таки следует послать в Норвегию, где он с "Tirpitz" составит мощную эскадру, что окажет воздействие не только на противника, но и поднимет дух личного состава Кригсмарине. Вернуться же "Scharnhorst" мог бы вместе с "Tirpitz" (того фюрер наметил вывести из строя осенью) в сентябре или октябре, что позволит сэкономить топливо и число задействованных эскортных кораблей. Эту точку зрения удалось отстоять, но пришлось "пожертвовать" крейсером "Prinz Eugen", которого раньше намеченного времени перевели в учебную эскадру на Балтике.
 "Scharnhorst" в сопровождении четырех эсминцев 8 марта вышел из Готенхафена в Норвегию (операция "Падерборн"). Находясь в Норвежском море у Бергена, корабли 11 марта встретили жестокий шторм, заставивший эсминцы искать убежище в фиордах. "Scharnhorst" продолжил свой путь в одиночестве, сначала на скорости 17 узлов, а после того, как шторм немного стих, на 28 узлах. Орудийные установки левого борта получили небольшие повреждения. Зато плохая погода защитила корабль от британских самолетов. В 16 часов 14 марта линейный крейсер бросил якорь в бухте Боген у Нарвика, а 22 марта он вместе с "Tirpitz" и "Lützow" перешел в Альтен-фиорд, где прошел ремонт штормовых повреждений. В начале апреля "Scharnhorst" и "Tirpitz" проводили различные учения в Ледовитом океане и вместе с девятью эсминцами совершили поход к о. Медвежий. 8 апреля на корабле произошел случайный взрыв в кормовом отделении вспомогательных механизмов над броневой палубой, в результате которого убило и ранило 34 человека. По тревоге затопили погреба башни "Caesar". Последствия взрыва с помощью ремонтного судна устранили за 14 суток, но причину его так и не установили.
"Scharnhorst" в сопровождении четырех эсминцев 8 марта вышел из Готенхафена в Норвегию (операция "Падерборн"). Находясь в Норвежском море у Бергена, корабли 11 марта встретили жестокий шторм, заставивший эсминцы искать убежище в фиордах. "Scharnhorst" продолжил свой путь в одиночестве, сначала на скорости 17 узлов, а после того, как шторм немного стих, на 28 узлах. Орудийные установки левого борта получили небольшие повреждения. Зато плохая погода защитила корабль от британских самолетов. В 16 часов 14 марта линейный крейсер бросил якорь в бухте Боген у Нарвика, а 22 марта он вместе с "Tirpitz" и "Lützow" перешел в Альтен-фиорд, где прошел ремонт штормовых повреждений. В начале апреля "Scharnhorst" и "Tirpitz" проводили различные учения в Ледовитом океане и вместе с девятью эсминцами совершили поход к о. Медвежий. 8 апреля на корабле произошел случайный взрыв в кормовом отделении вспомогательных механизмов над броневой палубой, в результате которого убило и ранило 34 человека. По тревоге затопили погреба башни "Caesar". Последствия взрыва с помощью ремонтного судна устранили за 14 суток, но причину его так и не установили.
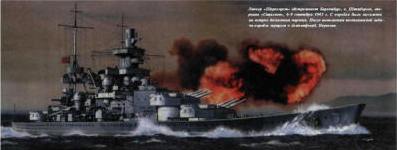 Почти шесть месяцев "Scharnhorst" практически бездействовал, если не считать коротких выходов на учения. Активность гитлеровского флота серьезно ограничивал недостаток топлива. Тем не менее, присутствие столь мощной германской эскадры в Норвегии не позволяло англичанам возобновить проводку конвоев в СССР, пока не начнется полярная ночь. К тому же, немцам удавалось скрывать от противника, что большинство их ударных авиаэскадрилий уже переброшены на Восточный фронт.
Почти шесть месяцев "Scharnhorst" практически бездействовал, если не считать коротких выходов на учения. Активность гитлеровского флота серьезно ограничивал недостаток топлива. Тем не менее, присутствие столь мощной германской эскадры в Норвегии не позволяло англичанам возобновить проводку конвоев в СССР, пока не начнется полярная ночь. К тому же, немцам удавалось скрывать от противника, что большинство их ударных авиаэскадрилий уже переброшены на Восточный фронт.
В июне 1943 года англичане и норвежцы захватили германскую метеостанцию на о. Шпицберген и в течение лета немцы готовили ответную акцию (операция "Айсберг") с привлечением "Tirpitz" и "Scharnhorst". Хотя такие силы казались чрезмерными, это была редкая возможность отработать взаимодействие двух крупнейших кораблей Кригсмарине и поднять моральный дух личного состава в условиях длительного бездействия. 8 сентября "Tirpitz", "Scharnhorst" и 10 эсминцев обстреляли береговые сооружения на Шпицбергене в Свеагрува, одним из залпов подавив батарею из двух 76-мм орудий. Линкоры вели огонь по зданиям, угольным шахтам, топливным танкам, местам строящихся батарей и причальным сооружениям.
На берег высадилось 1000 человек германского десанта, но норвежский гарнизон острова успел уйти в горы. В 11.00 "Scharnhorst" закончил свою миссию. Стрельба его в этой операции была такой отвратительной, что капитан цур зее Хюффмайер немедленно по возвращении в базу вывел свой корабль в море на артиллерийские учения.
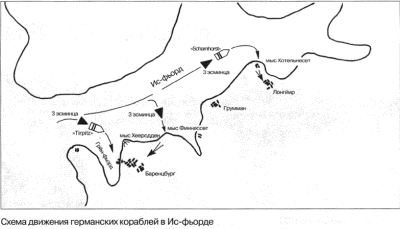 Пока "Scharnhorst" учился стрелять, англичане провели операцию по атаке базы карликовыми подлодками типа "ХЕ". 22 сентября "миджеты" атаковали стоящий в Каафиорде "Tirpitz", повредив ему машины и надолго выведя из строя (по оценкам немецкого штаба — до апреля). Две лодки должны были атаковать и "Scharnhorst", но тот оказался не на своей штатной якорной стоянке, а на швартовах у о. Аарой в ожидании выхода на очередные зенитные стрельбы. После повреждения "Tirpitz" и ухода "Lützow" 23 сентября на плановый ремонт активное ядро германского флота в Арктике сократилось до "Scharnhorst", шести эсминцев 4-й флотилии и 24 подлодок.
Пока "Scharnhorst" учился стрелять, англичане провели операцию по атаке базы карликовыми подлодками типа "ХЕ". 22 сентября "миджеты" атаковали стоящий в Каафиорде "Tirpitz", повредив ему машины и надолго выведя из строя (по оценкам немецкого штаба — до апреля). Две лодки должны были атаковать и "Scharnhorst", но тот оказался не на своей штатной якорной стоянке, а на швартовах у о. Аарой в ожидании выхода на очередные зенитные стрельбы. После повреждения "Tirpitz" и ухода "Lützow" 23 сентября на плановый ремонт активное ядро германского флота в Арктике сократилось до "Scharnhorst", шести эсминцев 4-й флотилии и 24 подлодок.
 Во второй половине 1943 года положение германской армии в России стало критическим. Поскольку угроза со стороны германской эскадры значительно уменьшилась, британское Адмиралтейство, уступая настойчивым требованиям своих русских союзников, согласилось возобновить проводку конвоев в Мурманск и Архангельск. Помня печальный опыт 1942 года, англичане отказались от больших конвоев в 40 судов, а стали делить их надвое. Новый цикл начался 1 ноября отправкой из Архангельска 13 пустых судов (RA-54A), и за полтора месяца удалось без потерь провести три восточных конвоя (JW-54A, JW-54B, JW-55A) и два западных (RA-54A и RA-54B). Конвои сопровождались походным эскортом из эсминцев, фрегатов и корветов, к которому на конечных участках пути присоединялся местный эскорт.
Во второй половине 1943 года положение германской армии в России стало критическим. Поскольку угроза со стороны германской эскадры значительно уменьшилась, британское Адмиралтейство, уступая настойчивым требованиям своих русских союзников, согласилось возобновить проводку конвоев в Мурманск и Архангельск. Помня печальный опыт 1942 года, англичане отказались от больших конвоев в 40 судов, а стали делить их надвое. Новый цикл начался 1 ноября отправкой из Архангельска 13 пустых судов (RA-54A), и за полтора месяца удалось без потерь провести три восточных конвоя (JW-54A, JW-54B, JW-55A) и два западных (RA-54A и RA-54B). Конвои сопровождались походным эскортом из эсминцев, фрегатов и корветов, к которому на конечных участках пути присоединялся местный эскорт.  На самом опасном участке — к югу от о. Медвежий — их сопровождало ближнее прикрытие из крейсеров, а дальнее прикрытие, включавшее линкор, патрулировало от 10 миль к осту до 200 миль к норд-весту от острова, прикрывая сразу оба конвоя, которые встречались как раз в этом районе.
На самом опасном участке — к югу от о. Медвежий — их сопровождало ближнее прикрытие из крейсеров, а дальнее прикрытие, включавшее линкор, патрулировало от 10 миль к осту до 200 миль к норд-весту от острова, прикрывая сразу оба конвоя, которые встречались как раз в этом районе.
Конвой JW-55A немцы обнаружили, но не атаковали, и все 19 судов благополучно достигли Кольского залива и Архангельска. Однако 19 — 20 декабря на совещании у Гитлера главнокомандующий флотом адмирал Дёниц сообщил, что "Scharnhorst" и 4-я флотилия атакуют следующий конвой. После двухдневной дискуссии Гитлер разрешил эту операцию, дав надводным кораблям последний шанс проявить себя. Временный командующий ударным соединением контр-адмирал Эрих Бей (вообще-то он командовал эсминцами и в этой операции заменял отсутствующего адмирала Кюмметца) 22 декабря получил приказ гросс-адмирала Карла Дёница перейти на трехчасовую готовность. Для командира "Scharnhorst" капитана цур зее Фрица Хинтце это был первый выход в море в новой должности.
 Конвой JW-55B из девятнадцати транспортов и танкеров вышел из Лох-Ю 20 декабря под охраной 10 эсминцев, 4 корветов и 3 тральщиков. Навстречу ему вышел конвой RA-55A, который эскортировали 10 эсминцев, 3 корвета и тральщик. В Баренцевом море оба конвоя прикрывались Соединением 1 в составе крейсеров 10-й эскадры вице-адмирала Р. Бернета: флагманский "Belfast", "Sheffild" и тяжелый "Norfolk". Соединение 2 в составе линкора "Duke Of Yorck" (флаг командующего Флотом метрополии адмирала Брюса Фрэйзера), крейсера "Jamaica" и 4 эсминцев должно было прикрывать JW-55B от 27° до 38° O, а затем вернуться в Скапа-Флоу, прикрывая RA-55A. 22 декабря в 400 милях к западу от норвежского порта Тромсё конвой JW-55B обнаружила немецкая авиация. Командующий группой "Север" адмирал Шнивиндт сначала решил, что готовится высадка в Норвегию, но вскоре паника улеглась. Спустя двое суток конвой снова обнаружили к северу от Норвегии и определили, что он направляется в СССР. В Рождество 25 декабря около 9.00 германская подлодка U-601 донесла точные координаты конвоя и адмирал Дёниц приказал выйти на перехват. Его приказ адмиралу Бею содержал следующее:
Конвой JW-55B из девятнадцати транспортов и танкеров вышел из Лох-Ю 20 декабря под охраной 10 эсминцев, 4 корветов и 3 тральщиков. Навстречу ему вышел конвой RA-55A, который эскортировали 10 эсминцев, 3 корвета и тральщик. В Баренцевом море оба конвоя прикрывались Соединением 1 в составе крейсеров 10-й эскадры вице-адмирала Р. Бернета: флагманский "Belfast", "Sheffild" и тяжелый "Norfolk". Соединение 2 в составе линкора "Duke Of Yorck" (флаг командующего Флотом метрополии адмирала Брюса Фрэйзера), крейсера "Jamaica" и 4 эсминцев должно было прикрывать JW-55B от 27° до 38° O, а затем вернуться в Скапа-Флоу, прикрывая RA-55A. 22 декабря в 400 милях к западу от норвежского порта Тромсё конвой JW-55B обнаружила немецкая авиация. Командующий группой "Север" адмирал Шнивиндт сначала решил, что готовится высадка в Норвегию, но вскоре паника улеглась. Спустя двое суток конвой снова обнаружили к северу от Норвегии и определили, что он направляется в СССР. В Рождество 25 декабря около 9.00 германская подлодка U-601 донесла точные координаты конвоя и адмирал Дёниц приказал выйти на перехват. Его приказ адмиралу Бею содержал следующее:
"Операция может быть прервана по Вашему усмотрению. В принципе, Вы должны прервать бой в случае появления превосходящих сил противника. Тактическую ситуацию следует использовать с мастерством и дерзостью. Бой не должен закончиться патом. Следует использовать любую возможность для атаки. Превосходство "Scharnhorst" в орудийной мощи дает лучший шанс на успех, и он должен быть использован. Эсминцы следует использовать позднее. Соответственно проинформируйте экипажи. Я полностью уверен в Вашем наступательном духе".
Приказ был противоречив, так как убеждал Бея атаковать в любом случае, но и требовал прервать бой при появлении сильнейшего противника. Адмирал Бей планировал атаковать конвой около 10 часов 26 декабря, если погода и видимость будут благоприятными, а информация о силах противника верной. Имея всего шесть часов сумерок и только 45 минут светлого времени, бой следовало провести очень быстро. Германское соединение ("Scharnhorst", эсминцы Z-29, Z-30, Z-33, Z-34, Z-38) вышло в море около 19 часов, а в 23.00 норвежский берег скрылся за горизонтом.
 Адмирал Бей поддерживал постоянный контакт со штабом военно-морской группы "Север" и в 3.19 командование флотом передало ему решение германского Адмиралтейства о возвращении эсминцев в случае ухудшения погоды и о действии "Scharnhorst" в одиночку. Англичане смогли перехватить и расшифровать это сообщение, и, когда Бей читал новый приказ, британские адмиралы Бернет и Фрэйзер уже держали в руках его английский перевод. В 7.03 26 декабря немецкое соединение, находясь в 40 милях к юго-западу от о. Медвежий, повернуло к точке, где в утренних сумерках — около 10 часов — по расчетам, должна была состояться встреча с конвоем. Эсминцы вели поиск в 10 милях к юго-западу от "Scharnhorst", экипажи с 03.00 находились в состоянии полной боевой готовности. В штормовом море эсминцам приходилось тяжело и их скорость пришлось уменьшить до 10 узлов.
Адмирал Бей поддерживал постоянный контакт со штабом военно-морской группы "Север" и в 3.19 командование флотом передало ему решение германского Адмиралтейства о возвращении эсминцев в случае ухудшения погоды и о действии "Scharnhorst" в одиночку. Англичане смогли перехватить и расшифровать это сообщение, и, когда Бей читал новый приказ, британские адмиралы Бернет и Фрэйзер уже держали в руках его английский перевод. В 7.03 26 декабря немецкое соединение, находясь в 40 милях к юго-западу от о. Медвежий, повернуло к точке, где в утренних сумерках — около 10 часов — по расчетам, должна была состояться встреча с конвоем. Эсминцы вели поиск в 10 милях к юго-западу от "Scharnhorst", экипажи с 03.00 находились в состоянии полной боевой готовности. В штормовом море эсминцам приходилось тяжело и их скорость пришлось уменьшить до 10 узлов.
На вышедшем 23 декабря из Исландии соединении дальнего прикрытия, находившемся в 270 милях к западу от м. Норд-Кап, адмирал Фрэйзер получил перехват "Ультры", что "Scharnhorst" устремился к конвою. Британская разведка смогла расшифровать приказ — "Остфронт (17.00). "Scharnhorst" выйти в море 25-го в 17 часов" — и адмиралу Фрезеру предложили приготовиться к действиям, чтобы отрезать немецкому линкору путь назад в Норвегию. К 9.25 корабли Фрезера находились в 125 милях к юго-западу от "Scharnhorst", а адмиралу Бернету сообщили о планах Фрезера и о содержании расшифровки "Ультры". Адмирал Фрезер приказал 36-му дивизиону эсминцев из состава эскорта конвоя RA-55A, который благоразумно направили на север от предполагаемого района боя, идти на соединение с конвоем JW-55B ( главной цели "Scharnhorst"). Вице-адмирал Бернет расположил свое соединение между конвоем и возможным направлением появления "Scharnhorst". Командующий советским Северным флотом адмирал А.Головко приказал подводным лодкам Л-20, К-21 и С-102 выйти в район мыса Нордкап и перехватить немецкий рейдер. Одновременно в базе эсминцы прогревали турбины, самолеты на аэродромах вооружались торпедами и бомбами.
 Когда радар "Belfast" в 8.40 26 декабря обнаружил "Scharnhorst" с дистанции 33 000 м по пеленгу 295°, на кораблях ближнего прикрытия сыграли боевую тревогу. Немецкий рейдер в этот момент находился примерно в 32 милях от конвоя, и три британских крейсера начали сближение с противником. "Scharnhorst" пока не подозревал о присутствии британских кораблей, поскольку для большей скрытности не включал свой радар. В 9.21 сигнальщики крейсера "Sheffild" с дистанции 11 000 м по пеленгу 222° заметили германский корабль, а спустя три минуты "Belfast" с дистанции 8600 м открыл огонь осветительными снарядами. В 9.25 первый же залп с крейсера "Norfolk" лег всего в 500 метрах от борта "Scharnhorst", который ответил залпом из башни "Caesar", а затем на 30-узловой скорости стал отходить. "Belfast" и "Sheffild" использовали беспламенный порох, а "Norfolk" — более старый, дававший сильные демаскирующие вспышки. Англичане использовали артиллерийские радары и в этом превосходили противника, имевшего преимущество в скорости и орудийной мощи. В течение 20-минутной перестрелки в "Scharnhorst" попало три 203-мм снаряда. Первый ударил в верхнюю палубу с левого борта между палубной 150-мм установкой и торпедным аппаратом и, не взорвавшись, прошел в кубрик водонепроницаемого отсека IX. Начавшийся там небольшой пожар быстро потушили. Другой снаряд спустя несколько минут попал в носовые дальномеры и засыпал осколками прислугу зенитной артиллерии. Уничтожило антенну носового радара, а осколки проникли в каюту приемной радарной станции, убив там весь персонал. Корабль "ослеп" с носовых углов, примерно 69—80°, так как кормовой радар, расположенный ниже носового, имел ограниченный угол действия вперед. Третий снаряд попал в полубак и взорвался в кубрике.
Когда радар "Belfast" в 8.40 26 декабря обнаружил "Scharnhorst" с дистанции 33 000 м по пеленгу 295°, на кораблях ближнего прикрытия сыграли боевую тревогу. Немецкий рейдер в этот момент находился примерно в 32 милях от конвоя, и три британских крейсера начали сближение с противником. "Scharnhorst" пока не подозревал о присутствии британских кораблей, поскольку для большей скрытности не включал свой радар. В 9.21 сигнальщики крейсера "Sheffild" с дистанции 11 000 м по пеленгу 222° заметили германский корабль, а спустя три минуты "Belfast" с дистанции 8600 м открыл огонь осветительными снарядами. В 9.25 первый же залп с крейсера "Norfolk" лег всего в 500 метрах от борта "Scharnhorst", который ответил залпом из башни "Caesar", а затем на 30-узловой скорости стал отходить. "Belfast" и "Sheffild" использовали беспламенный порох, а "Norfolk" — более старый, дававший сильные демаскирующие вспышки. Англичане использовали артиллерийские радары и в этом превосходили противника, имевшего преимущество в скорости и орудийной мощи. В течение 20-минутной перестрелки в "Scharnhorst" попало три 203-мм снаряда. Первый ударил в верхнюю палубу с левого борта между палубной 150-мм установкой и торпедным аппаратом и, не взорвавшись, прошел в кубрик водонепроницаемого отсека IX. Начавшийся там небольшой пожар быстро потушили. Другой снаряд спустя несколько минут попал в носовые дальномеры и засыпал осколками прислугу зенитной артиллерии. Уничтожило антенну носового радара, а осколки проникли в каюту приемной радарной станции, убив там весь персонал. Корабль "ослеп" с носовых углов, примерно 69—80°, так как кормовой радар, расположенный ниже носового, имел ограниченный угол действия вперед. Третий снаряд попал в полубак и взорвался в кубрике.
 Пытаясь выйти из боя, "Scharnhorst" несколько раз менял курс. В 9.55 адмирал Бей радировал о бое с британскими крейсерами, но спустя несколько минут он смог оторваться от противника, который в штормовом море не мог давать больше 24 узлов. Имея преимущество в 4 — 6 узлов, "Scharnhorst" быстро увеличивал дистанцию от преследователей. В 10.30 36-й дивизион присоединился к крейсерам Бернета, образовав кильватерную колонну слева и спереди от "Belfast".
Пытаясь выйти из боя, "Scharnhorst" несколько раз менял курс. В 9.55 адмирал Бей радировал о бое с британскими крейсерами, но спустя несколько минут он смог оторваться от противника, который в штормовом море не мог давать больше 24 узлов. Имея преимущество в 4 — 6 узлов, "Scharnhorst" быстро увеличивал дистанцию от преследователей. В 10.30 36-й дивизион присоединился к крейсерам Бернета, образовав кильватерную колонну слева и спереди от "Belfast".
Оторвавшись от крейсеров, "Scharnhorst" снова начал поиски конвоя и к 12 часам вышел к северо-востоку от него. Спустя пять минут "Belfast" восстановил радиолокационный контакт с немцами, но только в 12.21 британские крейсера смогли сократить дистанцию. В этот момент "Scharnhorst" обнаружил их своим кормовым радаром, а затем и визуально. Англичане выпустили осветительные снаряды, но линейный крейсер быстро открыл огонь из носовых башен и снова изменил курс на северо-запад, введя в бой кормовую башню. Этот отворот помешал британским эсминцам выйти в торпедную атаку. Три залпа накрыли концевой корабль 36-го дивизиона "Virago", который только что проскочил под носом у крейсеров.
 В 12.23 "Norfolk" получил попадание в район кормовой трубы. Спустя несколько секунд второй 283-мм снаряд ударил в барбет его башни "X", выведя ее из действия. Для предотвращения взрыва погреба башни пришлось затопить. Первое попадание оказалось серьезнее. Снаряд пробил надстройку с правого борта и взорвался у самой обшивки левого борта, разорвав ее на большой площади. Осколки полностью вывели из строя радарную установку, после чего крейсер не мог поддерживать точный огонь. На нем оказалось 7 убитых (1 офицер) и 5 раненых. Башня "В" дала еще 4 залпа, используя старые данные, а потом "Norfolk" временно прекратил огонь. Через несколько минут уже "Sheffild" был засыпан градом крупных осколков. Ошибочный приказ его артиллерийского офицера резко снизил интенсивность огня — вместо стрельбы всем бортом крейсер перешел на побашенную. В 12.41, когда ситуация стала складываться плохо для англичан — все-таки "Scharnhorst" был гораздо сильнее трех крейсеров, адмирал Бей изменил курс и увеличил скорость. Он не хотел продолжать неприятный бой с крейсерами, его целью был конвой. После окончания этой фазы боя с юго-запада подошли корабли адмирала Фрезера, а крейсера Бернета продолжали держаться за пределами огня "Scharnhorst", поддерживая радиолокационный контакт и сообщая координаты противника на свой линкор.
В 12.23 "Norfolk" получил попадание в район кормовой трубы. Спустя несколько секунд второй 283-мм снаряд ударил в барбет его башни "X", выведя ее из действия. Для предотвращения взрыва погреба башни пришлось затопить. Первое попадание оказалось серьезнее. Снаряд пробил надстройку с правого борта и взорвался у самой обшивки левого борта, разорвав ее на большой площади. Осколки полностью вывели из строя радарную установку, после чего крейсер не мог поддерживать точный огонь. На нем оказалось 7 убитых (1 офицер) и 5 раненых. Башня "В" дала еще 4 залпа, используя старые данные, а потом "Norfolk" временно прекратил огонь. Через несколько минут уже "Sheffild" был засыпан градом крупных осколков. Ошибочный приказ его артиллерийского офицера резко снизил интенсивность огня — вместо стрельбы всем бортом крейсер перешел на побашенную. В 12.41, когда ситуация стала складываться плохо для англичан — все-таки "Scharnhorst" был гораздо сильнее трех крейсеров, адмирал Бей изменил курс и увеличил скорость. Он не хотел продолжать неприятный бой с крейсерами, его целью был конвой. После окончания этой фазы боя с юго-запада подошли корабли адмирала Фрезера, а крейсера Бернета продолжали держаться за пределами огня "Scharnhorst", поддерживая радиолокационный контакт и сообщая координаты противника на свой линкор.
С немецких эсминцев видели осветительные снаряды, которые английские крейсера выпускали в утреннем бою, но они находились далеко от "Scharnhorst". Адмирал Бей приказал им идти на северо-восток на соединение с флагманом, но в 11.58 снова послал их на запад для поиска конвоя. После этого уже никакого тактического взаимодействия между "Scharnhorst" и немецкими эсминцами не было. Около 13 часов эсминцы, сами того не зная, прошли всего в 15 000 м к югу от конвоя. Наконец, в 13.43 адмирал Бей приказал им прекратить поиск и возвращаться на базу. На следующий день около 10.00 они вернулись в Каа-фиорд. Их отсутствие в финальной фазе боя у м.Нордкап оказалось фатальным для "Scharnhorst". Ведь при выходе из строя его носового радара эсминцы могли бы своевременно обнаружить противника, помогать флагману отражать торпедные атаки, да и сами представляли бы серьезную опасность для английских кораблей, имея 150-мм орудия и по 8 торпедных аппаратов.
Старший из уцелевших членов экипажа "Scharnhorst" унтер-офицер Вилли Годде, находившийся по боевому расписанию на мостике, так описывал бой с крейсерами: "Вскоре после 12.30 я и некоторые другие заметили впереди тени трех кораблей, о чем незамедлительно донесли командиру. Тревогу уже объявили, поскольку чуть ранее противника обнаружил радар. Однако, до того, как наши орудия открыли огонь, над "Scharnhorst" разорвались осветительные снаряды. Залп противника лег очень близко. Но и наш первый залп из 28-см орудий взял противника в вилку. Я видел, что после трех или четырех залпов на одном из крейсеров в районе кормовой трубы начался сильный пожар, другой крейсер сильно запылал в носу и корме и окутался густым дымом. После следующих залпов я видел попадания в носовую часть третьего крейсера. В один из моментов в небо взметнулся огромный язык пламени, который затем исчез. Наблюдая вокруг крейсера густой дым, я предположил, что он сильно горел. Огонь противника стал ослабевать, а когда мы изменили курс, вражеские крейсера отвернули прочь и скрылись за дождевыми и снежными шквалами. Во время этого боя противник находился впереди с обоих бортов. По этим крейсерам стреляли наши башни "Anton" и "Bruno", к которым изредка присоединялись две носовые 150-мм башни. Я не слышал ни по телефону, ни как-то по-другому о каких-либо попаданиях в нас в этой фазе боя. Хотя противник был едва виден во время первого контакта, на этот раз, в дневных сумерках, мы легко смогли определить, что это были крейсера. Дистанция также была меньше, чем в утреннем бою".
Около 13.15 адмирал Бей решил возвращаться в базу, не ожидая больше каких либо стычек. Экипаж корабля, не кормленный с самого утра, приступил к обеду, но боевая готовность сохранялась. Кормовой радар выключили, чтобы не обнаруживать себя его работой. В 15.25 Бей радировал в штаб группы "Север" предполагаемое время своего возвращения. Он не знал, что идет как раз на пересечку курса "Duke Of Yorck", "Jamaica" и четырех эсминцев, наводившихся на него крейсерами по радио. С уничтоженным носовым радаром и выключенным кормовым, к тому же не способным производить поиск прямо по курсу, "Scharnhorst" шел прямо в ловушку, из которой не было выхода. В 75 кбт сзади (при видимости в 70), как стая гончих, строем фронта, сомкнутым, чтобы не забивать лишними отметками экраны своих радаров, шли крейсера Бернета и 36-й дивизион. Этот своеобразный "гон" продолжался более трех часов. Был момент в начале пятого часа пополудни, когда ситуация могла измениться. "Norfolk" снизил скорость, чтобы потушить пожар, а спустя 7 минут до 8 узлов сбросил скорость "Sheffild", на котором сломался кронштейн левого внутреннего гребного вала. Но уже в 16.17 поисковый радар британского линкора обнаружил противника на дистанции 225 кбт. Смертный приговор "Scharnhorst" был подписан. Фрезер приказал продолжать слежение до тех пор, пока корабли не сблизятся на дистанцию действенного огня.
В 16.32 артиллерийский радар типа 284 на "Duke Of Yorck" нащупал цель в 147 кбт (27 200 м) и спустя 11 минут Фрэйзер приказал "Belfast", единственному крейсеру Бернета, который мог вступить в бой, открыть огонь осветительными снарядами, а своим эсминцам — быть готовыми к торпедной атаке по сигналу адмирала. "Duke Of Yorck" и "Jamaica" легли на курс 80, чтобы использовать и кормовые башни. Немецкий корабль был зажат между Соединениями 1 и 2.
Когда в 16.47 в небе разорвались снаряды первого залпа, англичане с удивлением обнаружили, что на "Scharnhorst" башни главного калибра развернуты в походное положение. Спустя минуту "Duke Of Yorck" открыл стрельбу осветительными 133-мм снарядами, а еще через две начал стрельбу залпами с дистанции 11 000 м. В 16.52 к нему с дистанции 12 000 м присоединился крейсер "Jamaica", добившись накрытия третьим залпом (одно попадание). Хотя "Scharnhorst" и оказался застигнутым врасплох, после разрыва осветительных снарядов он быстро открыл ответный огонь и, не мешкая ни минуты, повернул на север. Дуэль между ним и линкором "Duke Of Yorck" была неравной — немецкие 283-мм снаряды не могли пробить толстую броню, защищавшую жизненно важные части английского линкора. В 16.55 356-мм снаряд первого же залпа попал в правый борт "Scharnhorst" напротив башни "Anton". Башню заклинило с поднятыми орудиями, приводы горизонтальной и вертикальной наводки вышли из строя. В погребах от раскаленных осколков начался пожар, причем осколки пробили и пламянепроницаемую дверь в погреба башни "Bruno". Погреба обеих башен пришлось затопить, но под башней "Bruno" их осушили так быстро, что это почти не сказалось на скорости ее стрельбы. Прислуга на подаче работала по пояс в ледяной воде, пытаясь спасти хотя бы часть боезапаса. Несмотря на повреждения, корабль поддерживал высокую скорость. Второй снаряд повредил вентиляционный канал башни "Bruno", из-за чего ее боевое отделение после каждого открытия орудийного замка заполнялось газами и дымом. Еще один снаряд ударил рядом с башней "Caesar" и пробил в батарейной палубе отверстие диаметром 0,5 м. Отверстие быстро заделали, но отсеки, где разорвался снаряд, затопили водой и не осушили. Осколками изрешетило два самолета, разбило несколько зенитных орудий, уничтожив большую часть их прислуги. После этого капитан цур зее Хинтце приказал уцелевшим укрыться.
Эти попадания пока не представляли опасности для "Scharnhorst". Главное — он сохранял преимущество в скорости и начал отрываться от противника. За ним смог последовать только эсминец "Savage", который немцы никак не могли сбросить "с хвоста", хотя снаряды падали от него всего в 20 метрах. Эсминец подошел настолько близко, что был вынужден отвернуть, так и не получив приказ о торпедной атаке. Попав под обстрел "Belfast" и "Norfolk", "Scharnhorst" повернул на восток и 30-узловым ходом быстро увеличил дистанцию. Фрезер приказал эсминцам провести атаку, но те никак не могли сблизиться с целью. "Savage" и "Saumarez" держались слева сзади, а "Stord" и "Scorpion"—справа сзади от преследуемого противника. В 17.42 из-за увеличившейся дистанции прекратила огонь "Jamaica" и только флагман Фрэйзера продолжал методично выпускать залпы по удаляющемуся "Scharnhorst".
К счастью для англичан, стрельба "Duke Of Yorck" была точной. Одна за другой выходили на немецком корабле орудийные башни, осколки тяжелых снарядов проникали даже в погреба, выбивая работавшую на подаче прислугу. А около 18.00 в правый борт попал снаряд, пробивший тонкий пояс верхней цитадели (45 мм) и батарейную палубу, срикошетировавший вдоль 80-мм нижней бронепалубы, пробивший такой же толщины гласис над котельным отделением № 1, взорвавшись в последнем. На корабле сначала показалось, что это торпедное попадание — настолько сильными были удар и взрыв. Разорвало множество паропроводов четырех находящихся в этом отделении котлов. Осколки снаряда пробили двойное дно, из-за чего отделение затопило до уровня настила пола. Скорость корабля упала до 8 узлов. Аварийные меры были приняты быстро и эффективно, но при задраивании водонепроницаемых дверей и люков в котельном отделении оказались запертыми 25 человек. Давление пара увеличили, и старший механик фрегаттен-капитан Отто Кёниг доложил на мостик: "Могу дать ход 22 узла", на что командир корабля Хинтце ответил: "Браво, держите его!" "Scharnhorst" вел огонь с дистанции 15 000 — 20 000 м и несколькими залпами накрыл "Duke Of Yorck", борт которого засыпало осколками, а прямым попаданием в фок-мачту снесло за борт одну из ее опор и временно вывело из строя артиллерийский радар типа 284. Взобравшемуся на мачту лейтенанту Бейтсу удалось починить перебитый кабель между антенной и экраном радара, и огонь удалось продолжить с прежней эффективностью. Остальные повреждения на английском линкоре оказались от собственного огня: снесенные вентиляционные грибки, попорченная палуба, разбитые шлюпки.
 Артиллерийская дуэль длилась уже почти 90 минут, и "Scharnhorst" получил значительные повреждения. Его надстройки были во многих местах пробиты осколками, а кое-где разрушены прямыми попаданиями 152-мм, 203-мм и 356-мм снарядов. Начались пожары, иногда сопровождавшиеся взрывами. В этих условиях экипаж продолжал квалифицированно и спокойно делать свое дело. Пожар в ангаре, уничтоживший два гидросамолета, погасили через 10 минут, но попытка запустить оставшийся самолет с катапульты не удалась, так как уничтожило запасы сжатого воздуха. Разрушило или вывело из строя почти все артиллерийские установки и торпедный аппарат левого борта. Уцелевшей прислуге приказали укрыться и бороться с пожарами. В 17.30 356-мм снаряды попали в обе носовые 150-мм башни: правую полностью разрушило, причем погибли все люди в башне и на подаче, а левую заклинило. Но и она спустя 10 минут полностью вышла из строя.
Артиллерийская дуэль длилась уже почти 90 минут, и "Scharnhorst" получил значительные повреждения. Его надстройки были во многих местах пробиты осколками, а кое-где разрушены прямыми попаданиями 152-мм, 203-мм и 356-мм снарядов. Начались пожары, иногда сопровождавшиеся взрывами. В этих условиях экипаж продолжал квалифицированно и спокойно делать свое дело. Пожар в ангаре, уничтоживший два гидросамолета, погасили через 10 минут, но попытка запустить оставшийся самолет с катапульты не удалась, так как уничтожило запасы сжатого воздуха. Разрушило или вывело из строя почти все артиллерийские установки и торпедный аппарат левого борта. Уцелевшей прислуге приказали укрыться и бороться с пожарами. В 17.30 356-мм снаряды попали в обе носовые 150-мм башни: правую полностью разрушило, причем погибли все люди в башне и на подаче, а левую заклинило. Но и она спустя 10 минут полностью вышла из строя.
 Торпедный офицер под ураганным огнем храбро бросился к торпедному аппарату левого борта еще до того, как последний вывело из строя. Он смог развернуть аппарат и выпустил две торпеды, а третью заклинило в трубе. По свидетельству очевидцев, этот офицер был убит осколками взорвавшего рядом снаряда или снарядом, попавшим в заклиненную торпеду, которая сдетонировала в аппарате. Попавшим в полубак снарядом разорвало цепь правого якоря, который с остатками цепи упал в море. Вскоре то же случилось с носовым якорем.
Торпедный офицер под ураганным огнем храбро бросился к торпедному аппарату левого борта еще до того, как последний вывело из строя. Он смог развернуть аппарат и выпустил две торпеды, а третью заклинило в трубе. По свидетельству очевидцев, этот офицер был убит осколками взорвавшего рядом снаряда или снарядом, попавшим в заклиненную торпеду, которая сдетонировала в аппарате. Попавшим в полубак снарядом разорвало цепь правого якоря, который с остатками цепи упал в море. Вскоре то же случилось с носовым якорем.
Контр-адмирал Бей теперь точно знал, что его загнали в угол и в 18.24 приказал отправить последнюю радиограмму Гитлеру: "Мы будем сражаться до последнего снаряда".
В 18.42 "Duke Of Yorck" прекратил огонь, выпустив 52 залпа, из которых 31 лег накрытием и дал, по меньшей мере, 13 прямых попаданий. Этими снарядами и снарядами с крейсеров убило и ранило на борту "Scharnhorst" большое количество людей, вывело из строя почти все 150-мм орудия. Однако "Scharnhorst" все еще держал высокую скорость, и адмирал Фрезер, опасаясь, что противнику удастся ускользнуть, отдал приказ эсминцам на торпедную атаку.
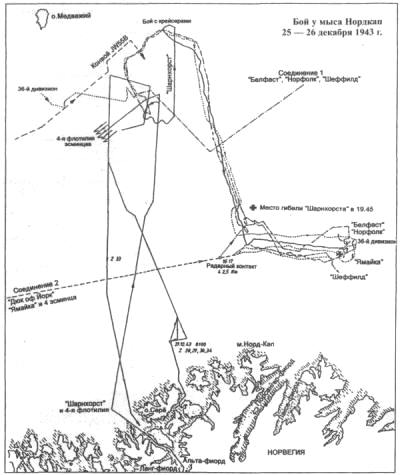 Благодаря падению скорости "Scharnhorst", эсминцам типа "S" из Соединения 2 удалось приблизиться к нему на 60 кабельтовых. Германский корабль уже не имел средств отражения таких атак, что позволило эсминцам подойти на дистанцию торпедного залпа почти без противодействия. Около 18.50 "Stord" и "Scorpion" на правой циркуляции, находясь на обоих крамболах своей жертвы, выпустили по 8 торпед с дистанции 1650 и 1900 м. "Scharnhorst" резко повернул вправо, но три торпеды все же достигли цели. Этим поворотом он подставил борт эсминцам "Savage" и "Saumarez". Первый выпустил восемь торпед, а второй, сблизившись до 1600 м, попал под огонь немногих уцелевших мелких орудий правого борта и одной башни ГК германского корабля. Снаряды пробили на эсминце директор и дальномер, осколки изрешетили борт и надстройки, скорость его упала до 10 узлов. На корабле погибли офицер и 10 матросов, 11 человек было ранено. Кое-как набрали людей для расчета одного торпедного аппарата, второй все равно был разбит. Выпустив четыре торпеды, "Saumarez" отвернул, ставя дымовую завесу. Подожгли даже дымовой буй на корме, после чего команда, решив, что эсминец горит, затопила кормовые погреба.
Благодаря падению скорости "Scharnhorst", эсминцам типа "S" из Соединения 2 удалось приблизиться к нему на 60 кабельтовых. Германский корабль уже не имел средств отражения таких атак, что позволило эсминцам подойти на дистанцию торпедного залпа почти без противодействия. Около 18.50 "Stord" и "Scorpion" на правой циркуляции, находясь на обоих крамболах своей жертвы, выпустили по 8 торпед с дистанции 1650 и 1900 м. "Scharnhorst" резко повернул вправо, но три торпеды все же достигли цели. Этим поворотом он подставил борт эсминцам "Savage" и "Saumarez". Первый выпустил восемь торпед, а второй, сблизившись до 1600 м, попал под огонь немногих уцелевших мелких орудий правого борта и одной башни ГК германского корабля. Снаряды пробили на эсминце директор и дальномер, осколки изрешетили борт и надстройки, скорость его упала до 10 узлов. На корабле погибли офицер и 10 матросов, 11 человек было ранено. Кое-как набрали людей для расчета одного торпедного аппарата, второй все равно был разбит. Выпустив четыре торпеды, "Saumarez" отвернул, ставя дымовую завесу. Подожгли даже дымовой буй на корме, после чего команда, решив, что эсминец горит, затопила кормовые погреба.
Имеющаяся информация о торпедных повреждениях весьма отрывочная. Одна торпеда взорвалась с правого борта напротив башни "Bruno", заклинив в ней приводы горизонтальной и вертикальной наводки, а также главный входной люк, так что прислуга долго не могла выбраться на палубу. Началось затопление погребов. Другая торпеда попала в район котельного отделения левого борта и вызвала некоторое затопление за противоторпедную переборку. Третья ударила в корму с левого борта в то место, где уже несколько отсеков были затоплены, и повредила гребной вал. Четвертая торпеда попала с того же борта в нос. Все торпеды имели 340-кг заряд.
Анализируя повреждения "Scharnhorst" и "Gneisenau" от торпед в предыдущих боях, можно с уверенностью предположить, что и в данном случае имели место значительные затопления внутренних объемов. Очевидно, что торпедное попадание в район башни "Bruno" было очень опасным. Оно вызвало не только мощный удар, но и разрушило ПТЗ, приведя к огромным затоплениям. Система подводной защиты в этом месте была особенно уязвима, не имея из-за острых обводов корпуса достаточной ширины. 340-кг заряда британской торпеды оказалось достаточно и для разрушения защиты в районе котельного отделения. Повреждения там были бы значительнее, если бы слой пустых отсеков в системе противоторпедной защиты, поглотивший большую часть затоплений, оказался заполненным водой.
В результате попаданий торпед скорость "Scharnhorst" упала до 12 узлов, хотя главный механик докладывал, что готов держать 22 узла. "Duke Of Yorck" смог снова сблизиться, теперь уже на "пистолетную" для 356-мм снарядов дистанцию 9100 м. Начался окончательный расстрел германского корабля, который даже не мог достойно отвечать: две его носовых башни заклинило, а третья испытывала нехватку снарядов. Все свободные члены экипажа (вероятно, прислуга 105-мм орудий) работали на передаче боезапаса из погребов башни "Bruno" в башню "Caesar", которая спустя несколько минут возобновила огонь.
По мере заполнения корпуса водой скорость "Scharnhorst" упала до 5 узлов и он почти не слушался руля. Англичане еще после боя с "Bismarck" поняли, что крупный германский корабль потопить только артиллерией невозможно. Поэтому адмирал Фрезер приказал крейсерам добить "Scharnhorst" торпедами.
В 19.25 "Jamaica", до этого давший по врагу 22 бортовых залпа, выпустил две торпеды из левого аппарата (третья труба оказалась неисправной). Спустя две минуты еще три выпустил "Belfast". Затем "Jamaica" развернулась и, сблизившись до 3500 м, через 10 минут выстрелила тремя торпедами с другого борта. Попадания различить было невозможно из-за дыма и тумана. Крейсера оставили арену боя, на которую вышли эсминцы 36-го дивизиона. "Musketeer", пройдя в 900 м от ползущего 3-узловой скоростью "Scharnhorst", выпустил 4 торпеды на правый борт в 19.33 и видел три взрыва между трубой и грот-мачтой. Минутой позже это попытался сделать "Matchless", но огромная волна, накрыв корабль, повредила механизмы наводки аппаратов. Вторая волна, залившая мостик, вывела из строя приборы внутрикорабельной связи, так что приказ повернуть аппараты направо не достиг торпедного офицера. "Matchless" пришлось вернуться, чтобы атаковать левым бортом. "Opportune" разрядил один аппарат в 19.31 с дистанции 1900м, другой — спустя две минуты с 2300 м, и его наблюдатели ясно видели по одному попаданию с каждого залпа в правый борт линейного крейсера между грот-мачтой и трубой. Эффект от их взрыва был незначителен, так как "Scharnhorst" уже глубоко сидел в воде, и торпеды попали в главный броневой пояс. В 19.34 с дистанции 2500 м семь торпед выпустил "Virago", также претендующий на два попадания. После этих атак немецкий корабль практически остановился, окутавшись густым дымом и паром. С английских кораблей мало что можно было разобрать — виднелось тусклое зарево, доносились глухие взрывы. Пелена дыма была настолько плотной, что ее не могли пронзить ни лучи прожекторов, ни осветительные снаряды.
Около 19 часов командир "Scharnhorst" приказал сжечь все секретные документы. Поскольку все остальные орудия уже молчали, он сказал прислуге 150-мм башни № 4: "...все зависит от вас". Корабль кренился на правый борт и погружался носом. Последняя башня 150-мм орудий стреляла, пока у нее не заклинило подъемник боезапаса. Продолжало стрелять 20-мм орудие на крыше башни "Bruno". К 19.40 крен сильно увеличился, а носовая часть почти ушла под воду. Все люки и водонепроницаемые двери подкреплялись, чтобы сдерживать затопление и дать экипажу больше времени для спасения. Однако, торпедные повреждения лишили корабль большей части запаса плавучести.
 В 19.45 "Scharnhorst" носом ушел под воду с медленно вращавшимися винтами. Еще некоторое время из-под воды доносился сильный грохот. Англичане зафиксировали перед затоплением сильный взрыв, приписав его погребам. "Belfast" в 19.48 намеревался провести вторую атаку торпедами, но цель пропала. "Matchless" также не нашел "Scharnhorst" и вместе со "Scorpion" начал подбирать барахтавшихся в ледяной воде людей. До 20.40 "Belfast" и "Norfolk" искали спасшихся. "Scorpion" подобрал 30 человек, и одно время с него видели командира корабля Хинтце и старшего офицера фрегаттен-капитана Ф.Доминика. Но Хинтце умер прежде, чем подошла помощь, а Доминик, хотя и успел схватиться за брошенный линь, не смог взобраться по нему на палубу; его подняли уже мертвым. Из экипажа в 1968 человек спасти удалось только 36.
В 19.45 "Scharnhorst" носом ушел под воду с медленно вращавшимися винтами. Еще некоторое время из-под воды доносился сильный грохот. Англичане зафиксировали перед затоплением сильный взрыв, приписав его погребам. "Belfast" в 19.48 намеревался провести вторую атаку торпедами, но цель пропала. "Matchless" также не нашел "Scharnhorst" и вместе со "Scorpion" начал подбирать барахтавшихся в ледяной воде людей. До 20.40 "Belfast" и "Norfolk" искали спасшихся. "Scorpion" подобрал 30 человек, и одно время с него видели командира корабля Хинтце и старшего офицера фрегаттен-капитана Ф.Доминика. Но Хинтце умер прежде, чем подошла помощь, а Доминик, хотя и успел схватиться за брошенный линь, не смог взобраться по нему на палубу; его подняли уже мертвым. Из экипажа в 1968 человек спасти удалось только 36.
При потоплении "Scharnhorst" англичане израсходовали 446 356-мм снарядов, 161 203-мм, 974 152-мм, 531 133-мм (плюс 155 осветительных) и 83 102-мм, а также 55 торпед, из которых 11 попали в цель: по 2 попадания добились "Jamaica" и "Virago", по 3 — "Musketeer" и "Savage" и 1 — "Scorpion". При стрельбе крупным калибром имелись некоторые трудности с отказом матчасти. Из-за этого, например, в носовой башне "Duke Of Yorck" при 77 данных залпах одно орудие выпустило 71 снаряд, а остальные 47, 6 (!) и 64.
.jpg) Адмирал Фрэйзер был поражен героическими действиями немецкого экипажа. На обратном переходе в Скапа-Флоу из Мурманска, когда "Duke Of Yorck" проходил место гибели "Scharnhorst", он приказал сбросить в воду венок в память о выполнивших свой воинский долг германских моряках.
Адмирал Фрэйзер был поражен героическими действиями немецкого экипажа. На обратном переходе в Скапа-Флоу из Мурманска, когда "Duke Of Yorck" проходил место гибели "Scharnhorst", он приказал сбросить в воду венок в память о выполнивших свой воинский долг германских моряках.
Гибель "Scharnhorst" сами немцы объясняли отсутствием эсминцев эскорта и превосходством британских радаров. После войны адмирал Карл Дёниц писал: "... Операция, предпринятая линейным крейсером "Scharnhorst" и группой эсминцев в декабре, после удачного скрытого начала, казалось, имела все шансы на успех, учитывая дислокацию противника и погодные условия. Но она провалилась, очевидно, из-за недооценки локальной ситуации, и "Scharnhorst" был потерян..."
Как мы теперь знаем, операция не имела скрытого начала, так как "Ультра" расшифровала германские коды. Командующие обеими британскими боевыми группами были достаточно хорошо информированы о планируемых передвижениях "Scharnhorst" и в таких условиях могли подготовить свои ответные действия.
Так или иначе, "Scharnhorst" стал последним кораблем Кригсмарине, предпринявшим наступательные действия. Его гибель положила конец исходящей от немецкого надводного флота угрозе и серьезно пошатнула положение Германии в Норвегии.
|
|
|
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ |
|
| на немецком | |
| 1 | Groner E., Mickel P., Mrva F. - Die Deutschen Kriegsschiffe.1815-1945. Vol. 1., Bernard & Graefe Verlag, Munchen, De, 1982. |
| 2 | Breyer, Siegfried: Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 1905–1970. J. F. Lehmanns Verlag, München 1970 |
| 3 | Breyer, Siegfried Schlachtschiff Scharnhorst. Friedberg: Podzun-Pallas-Verlag. 1987. |
| 4 | Elfrath, Ulrich: De Deutsche Kriegsmarine 1935-1945, Weltbild Verlag, Augsburg, 1994. |
| 5 | Hansen H.J. - Die Schiffe der deutschen Flotten 1848-1945, Weltbild Verlag GmbH, Augsburg, De, 1998. |
| на английском | |
| 6 | Breyer, Siegfried Battleships and Battlecruisers 1905—1970. (Doubleday and Company; Garden City, New York, 1973) |
| 7 | Busch, Fritz-Otto The Sinking of the Scharnhorst. (Robert Hale, London, 1956) |
| 8 | Campbell, John. "Germany 1906–1922". In Sturton, Ian. Conway's All the World's Battleships: 1906 to the Present. London: Conway Maritime Press. 1987. |
| 9 | Garzke, Willliam H., Jr. and Robert O. Dulin, Jr. Battleships: Axis and Neutral Battleships in World War II. (Naval Institute Press, Annapolis, 1985). |
| 10 | Williamson, Gordon: German Battleships 1939-45. //New Wanguard N71, Osprey, Oxford, 2003. |
| на русском | |
| 11 | Балакин С. - Сверхрейдеры фюрера. // журнал "Моделист-конструктор".-1996.-№4. |
| 12 | Иванов С. В. и др. - Линкоры Кригсмарине. // периодич. издание "Война на море".-2005.-№3. |
| 13 | Малов А., Патянин С., Сулига С. - Линкоры фюрера. Яуза/Арсенал-коллекция., М. 2008. |
| 14 | Патянин С. В. - Корабли второй мировой войны ВМФ Германии, часть 1. // периодич. издание "Морская коллекция".-2005.-№8. |
| 15 | Патянин С., Морозов М., Нагирняк В. - Кригсмарине. Яуза/Арсенал-коллекция., М. 2009. |
| 16 | Платонов А. В., Апальков Ю. В. - Боевые корабли Германии 1939 - 1945 гг. ? |
| 17 | Сулига С. В. - Линкоры типа "Scharnhorst". // журнал "Морская коллекция".-Специальный выпуск №1. 2002. |
| 18 | Сулига С. В. - Линкоры "Шарнхорст" и "Гнейзенау". Яуза/Арсенал-коллекция., М. 2006. |
| 19 | Тарас А. Е. - Энциклопедия броненосцев и линкоров. М., 2002. |
| + | |
| некоторые материалы с интернет-форумов | |
 Scharnhorst
Scharnhorst 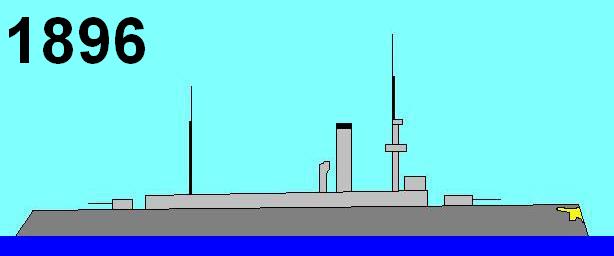
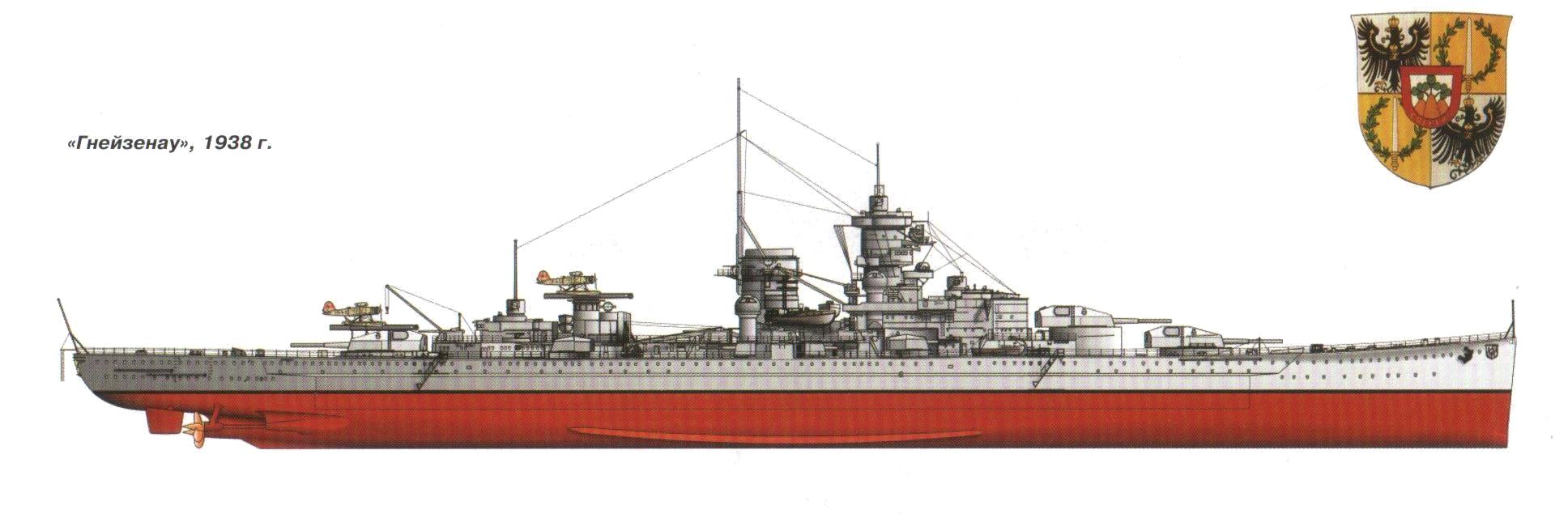
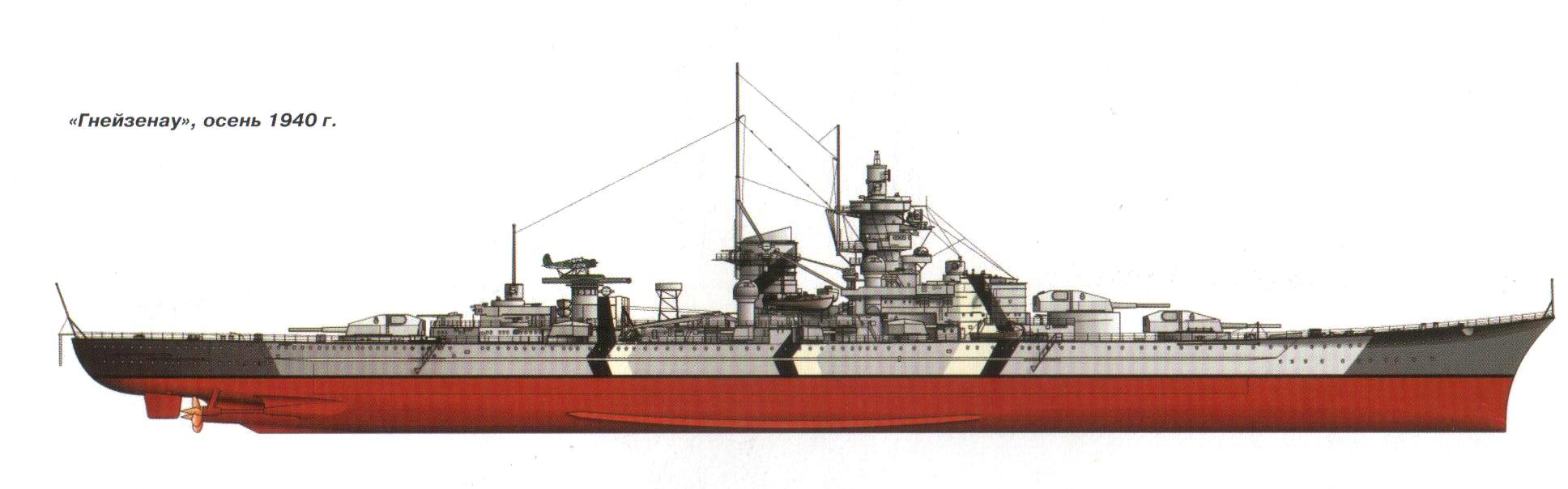
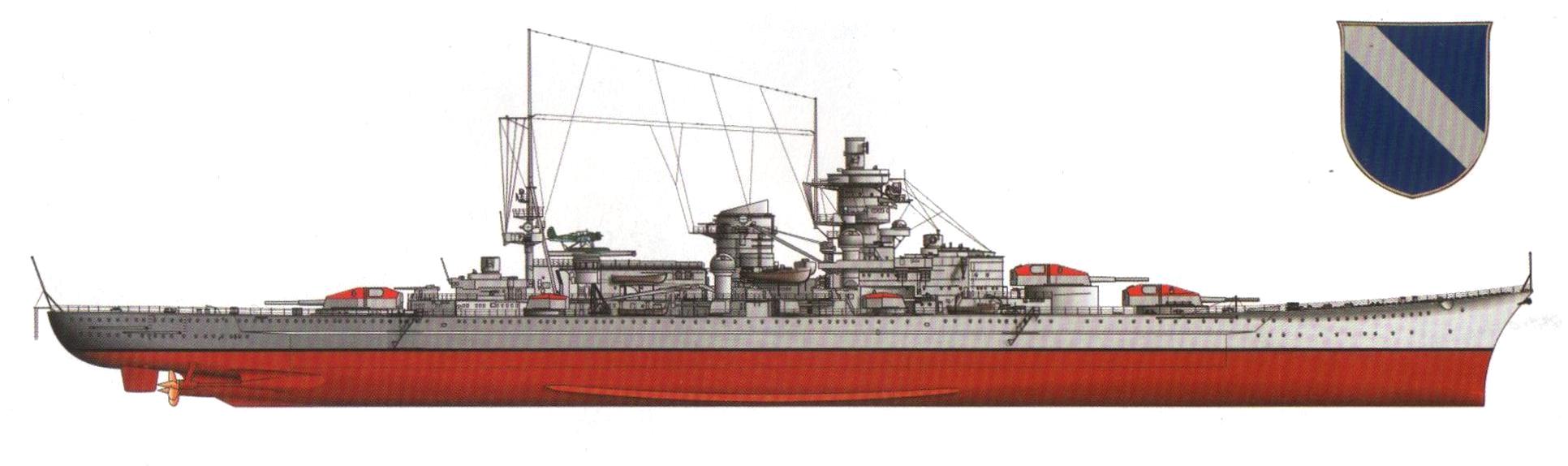
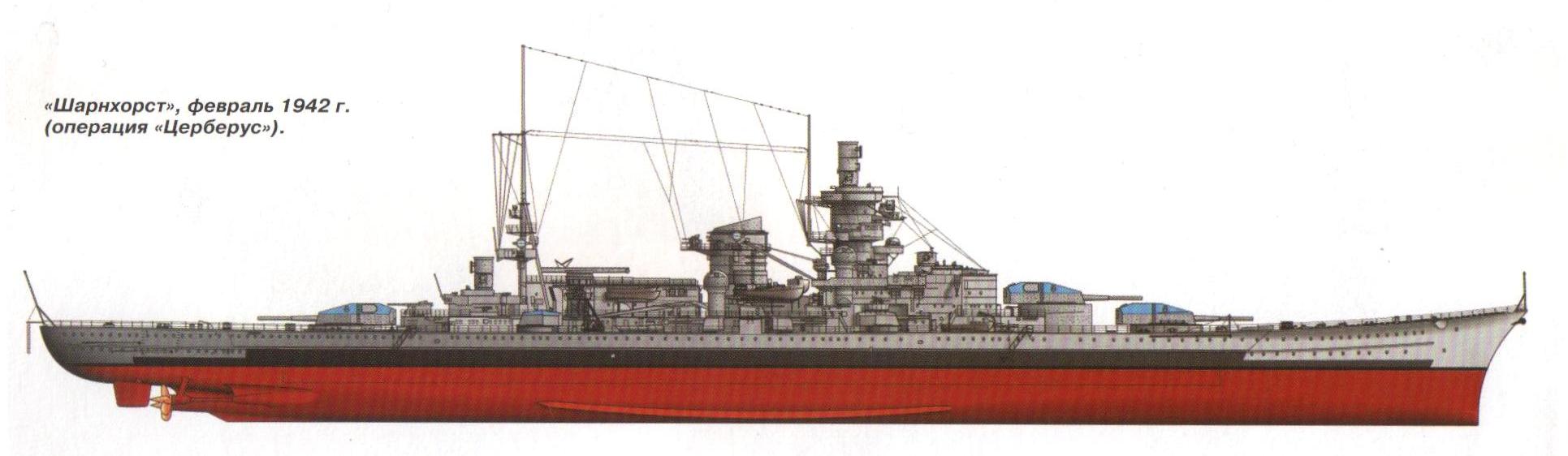

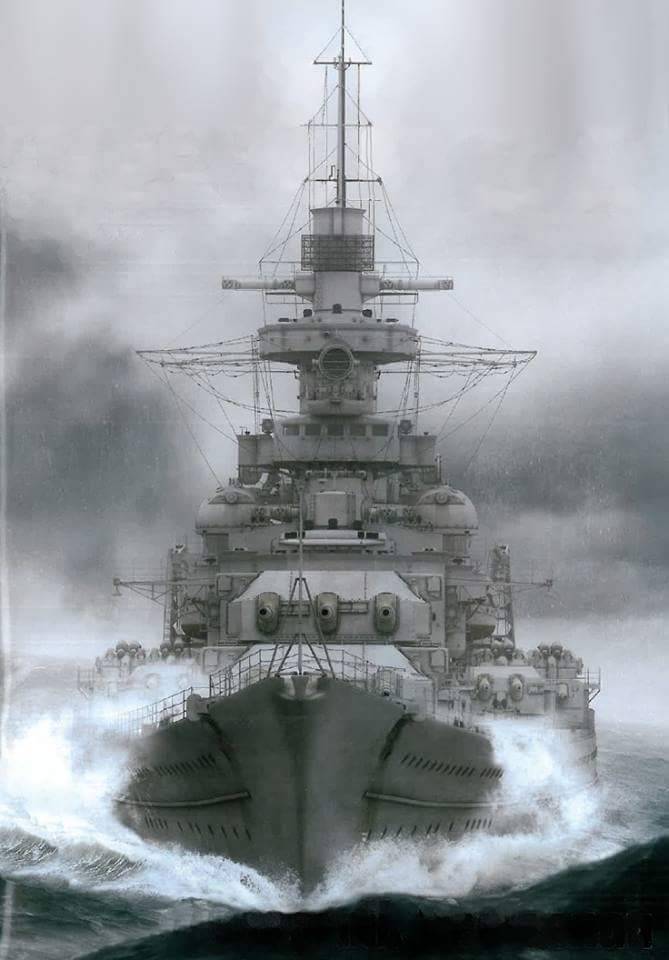






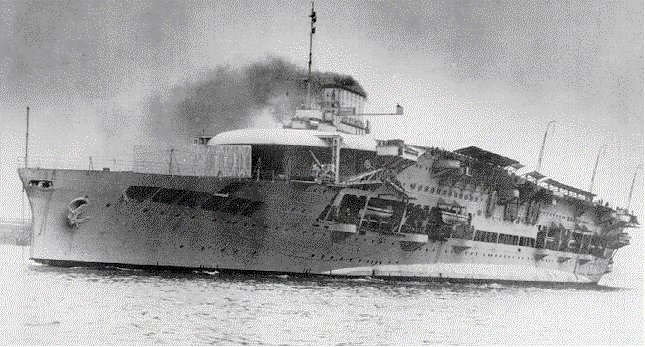
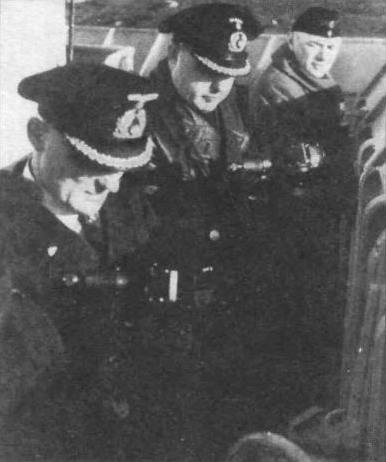



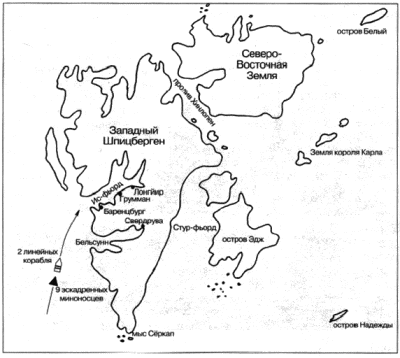





















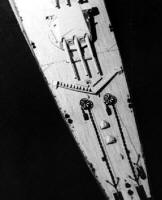













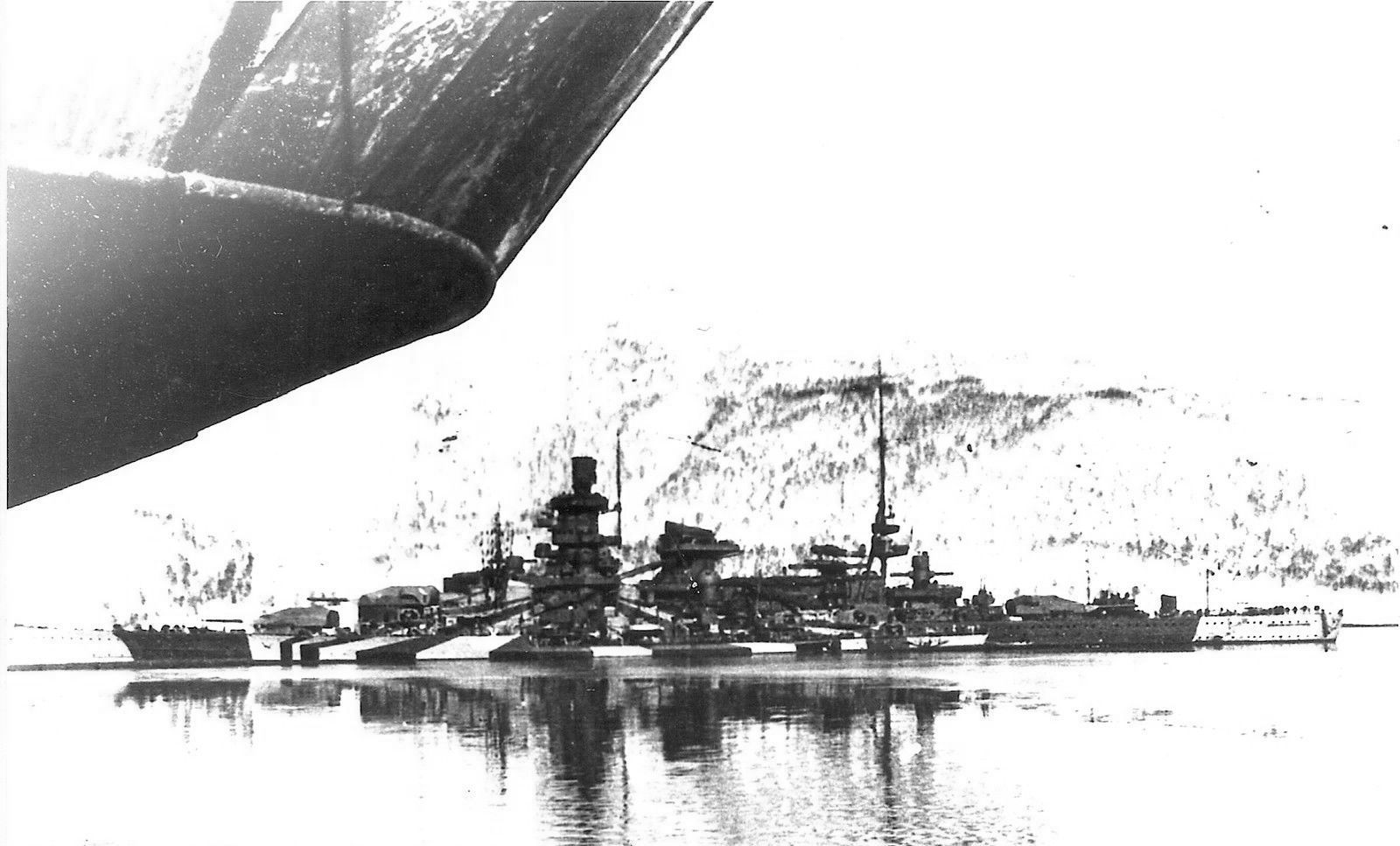



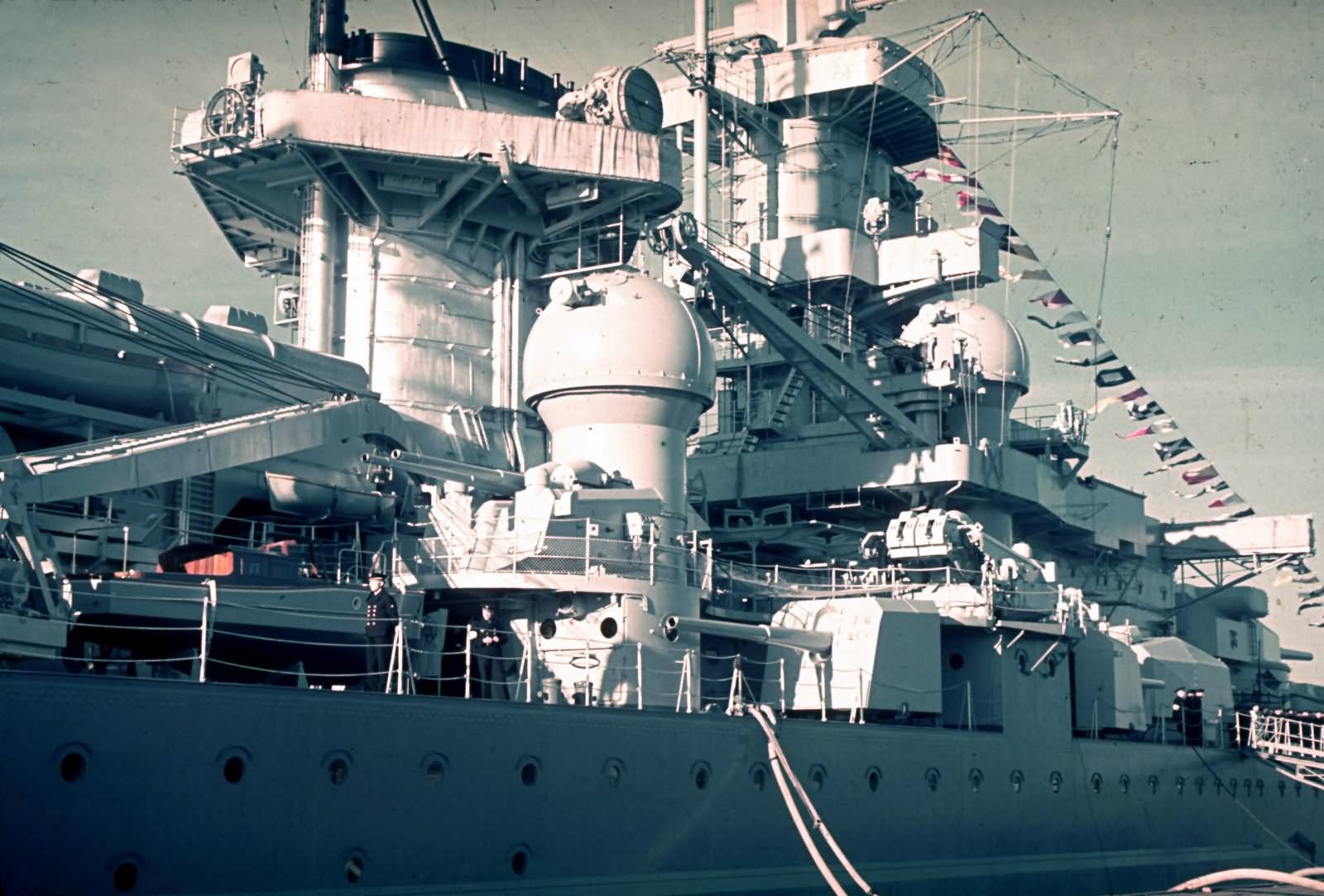



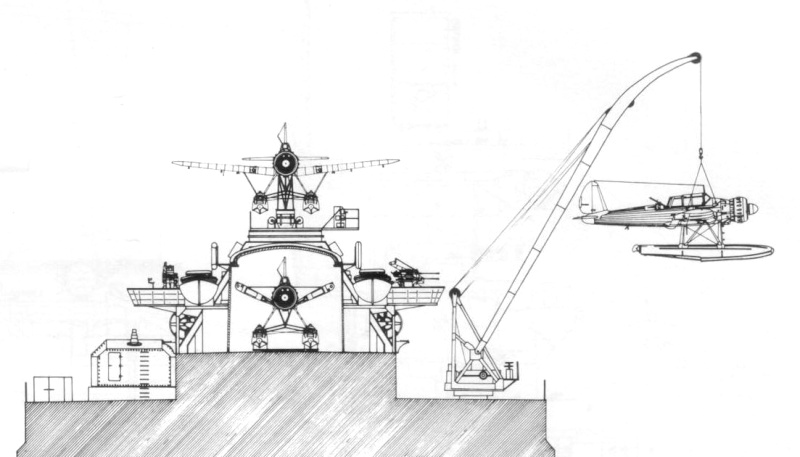
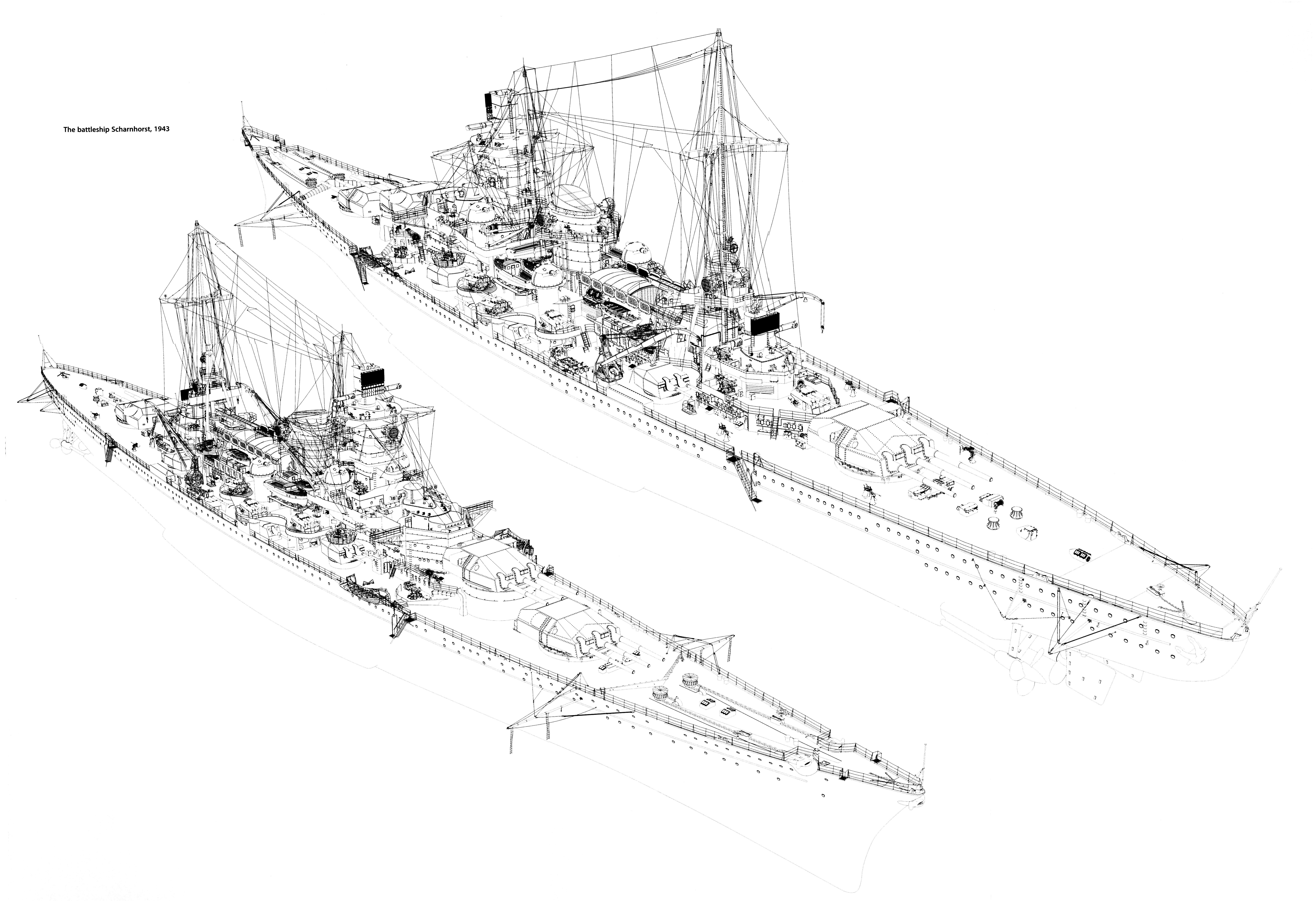
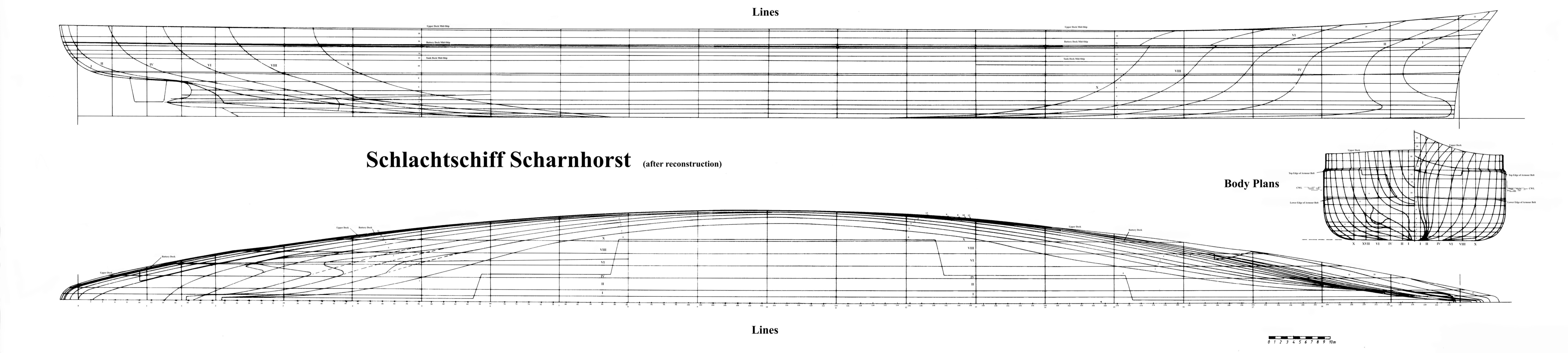
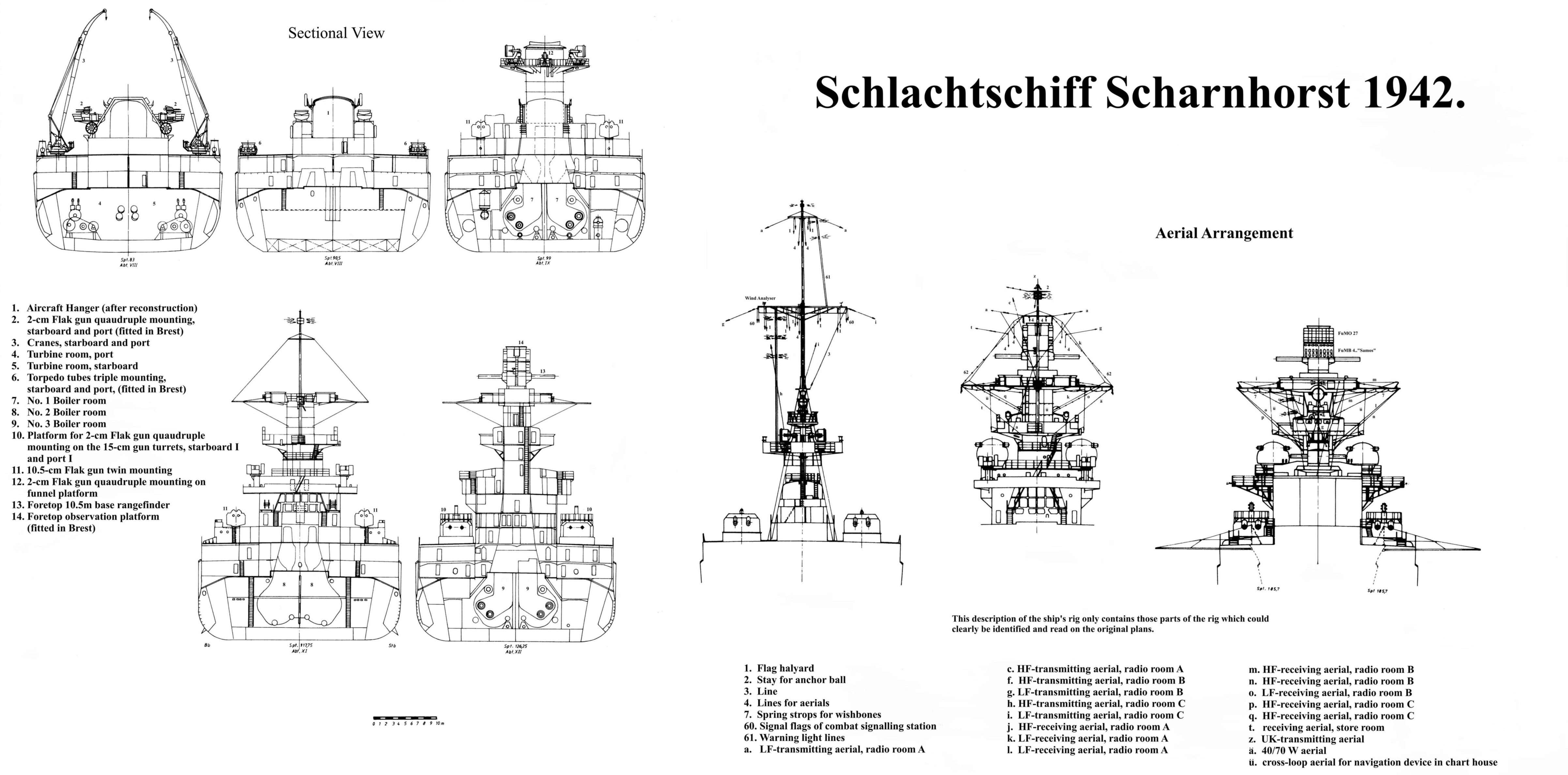
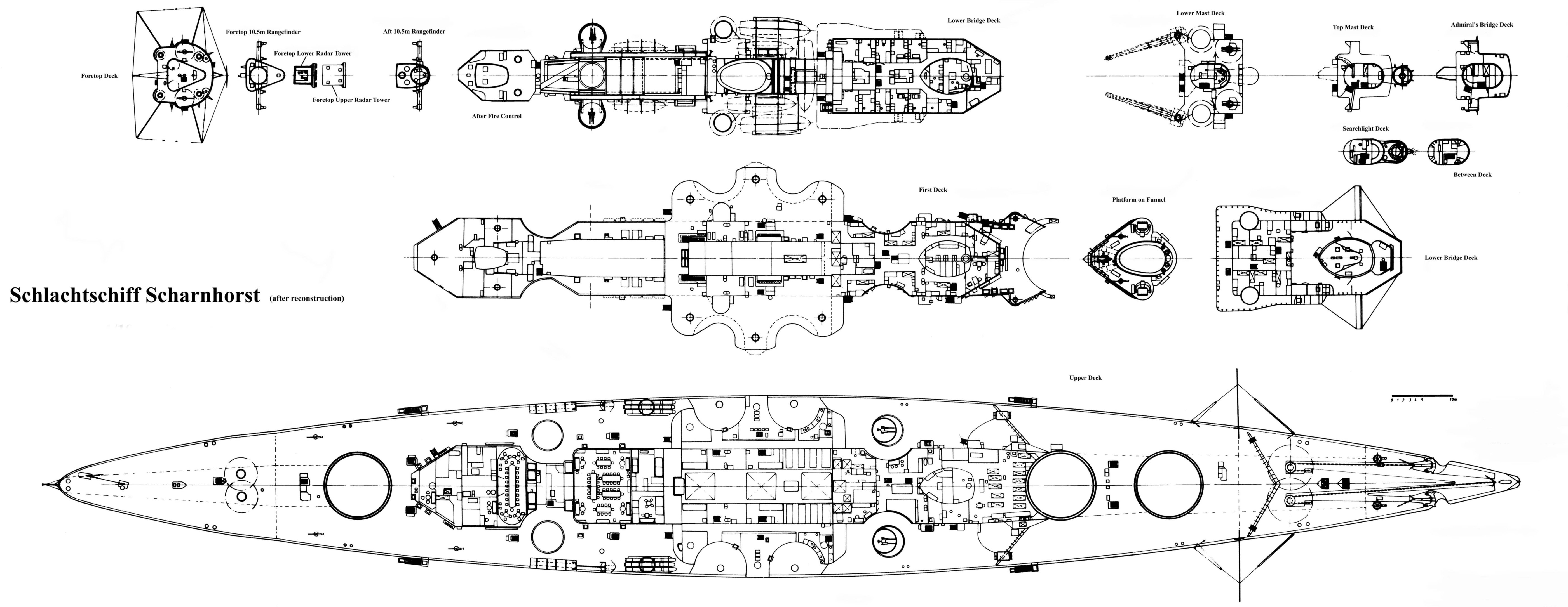
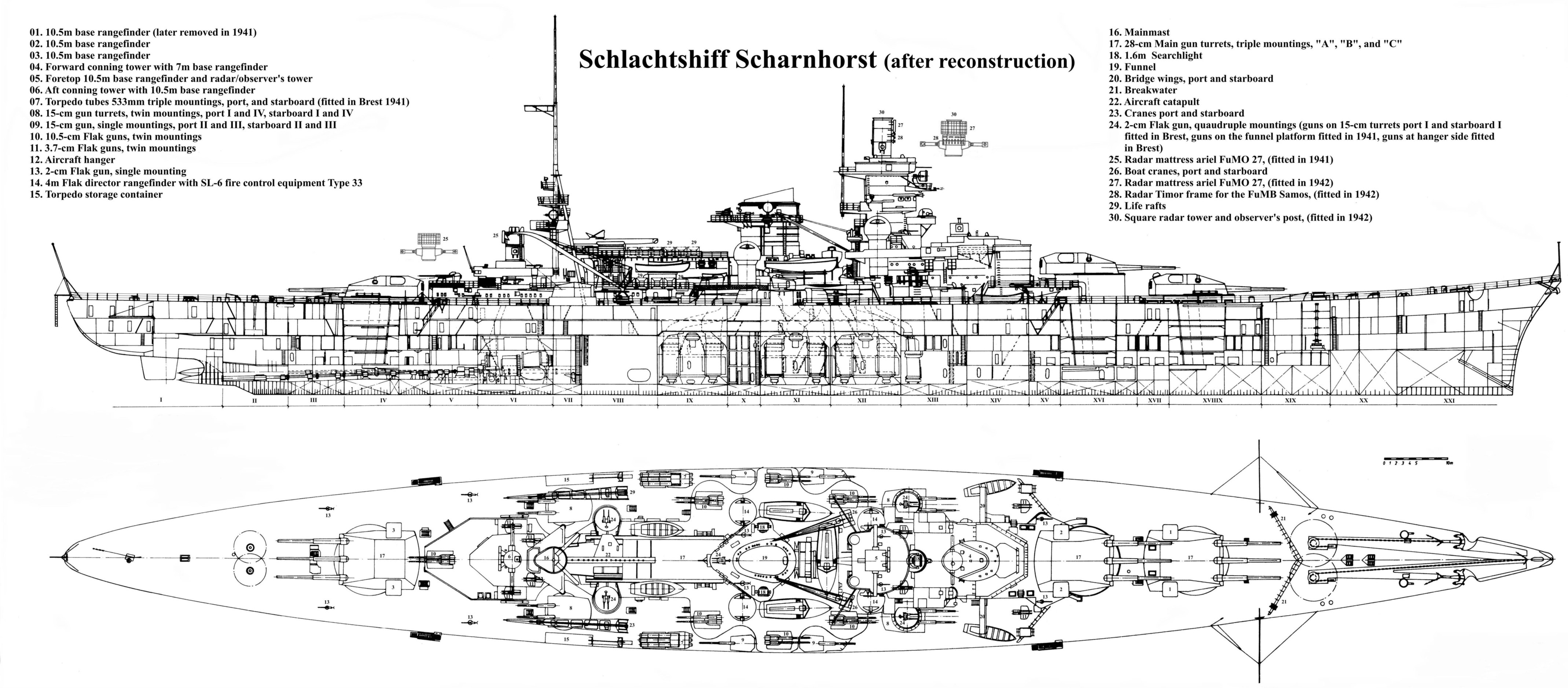
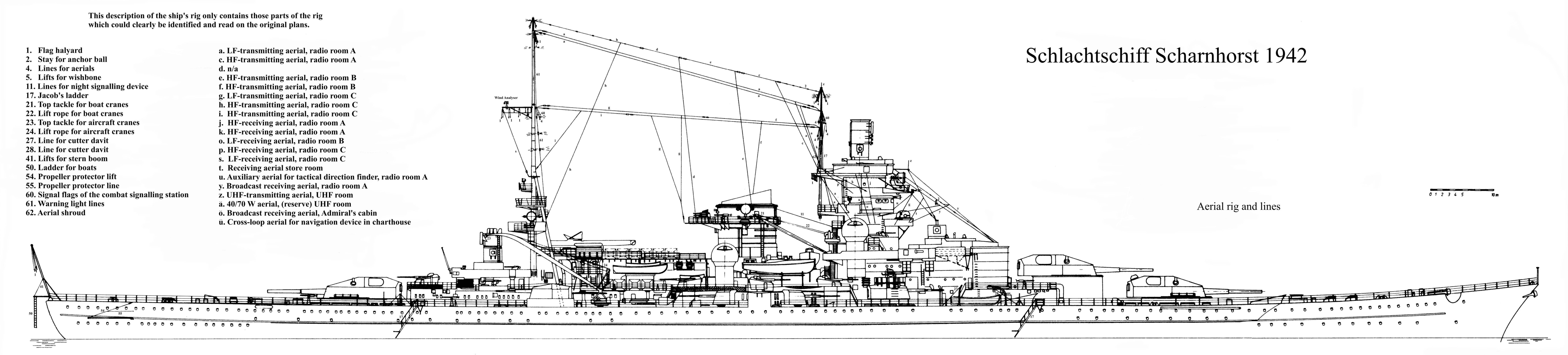
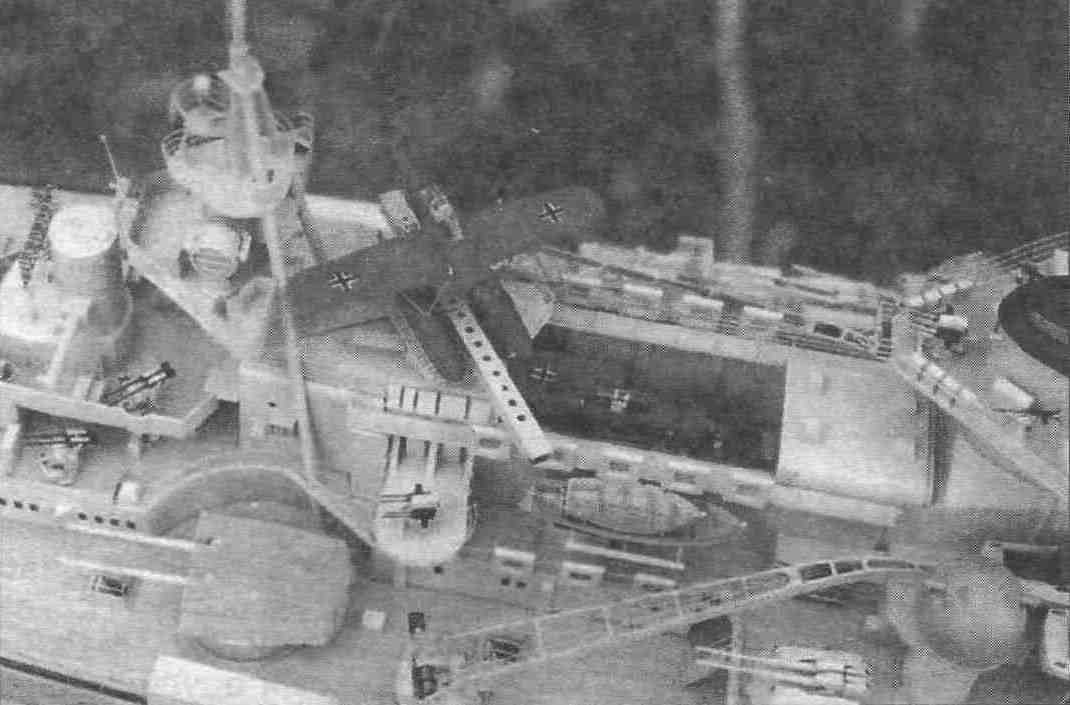
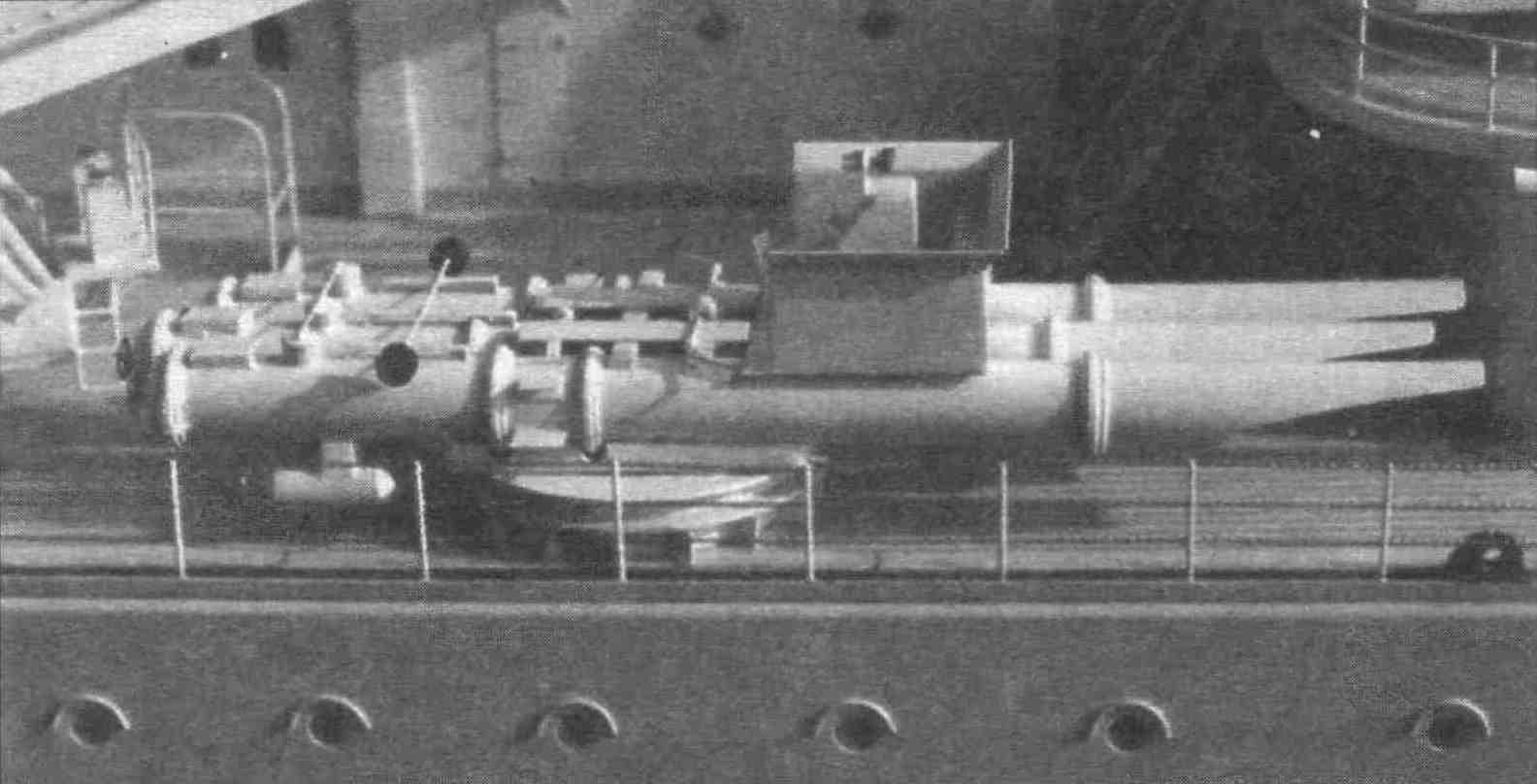
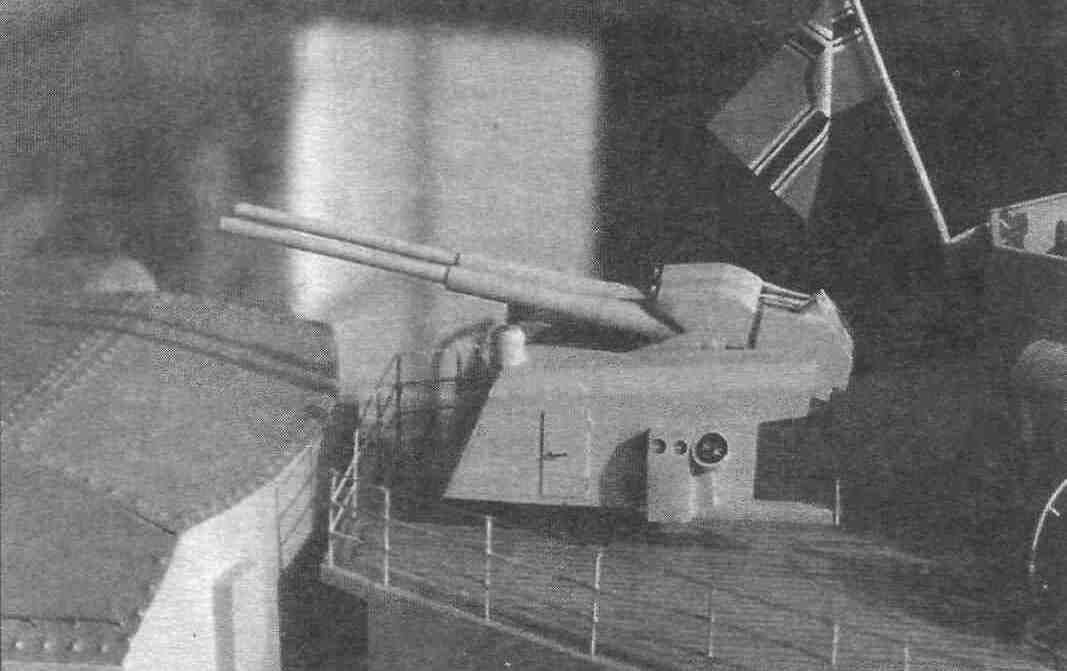
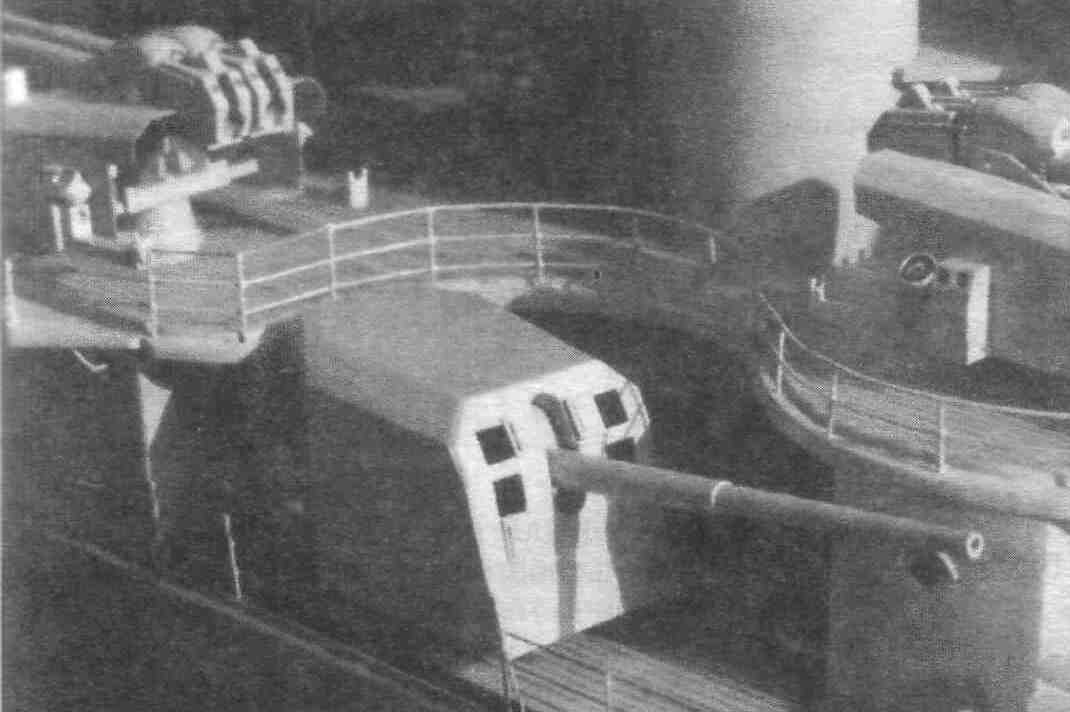
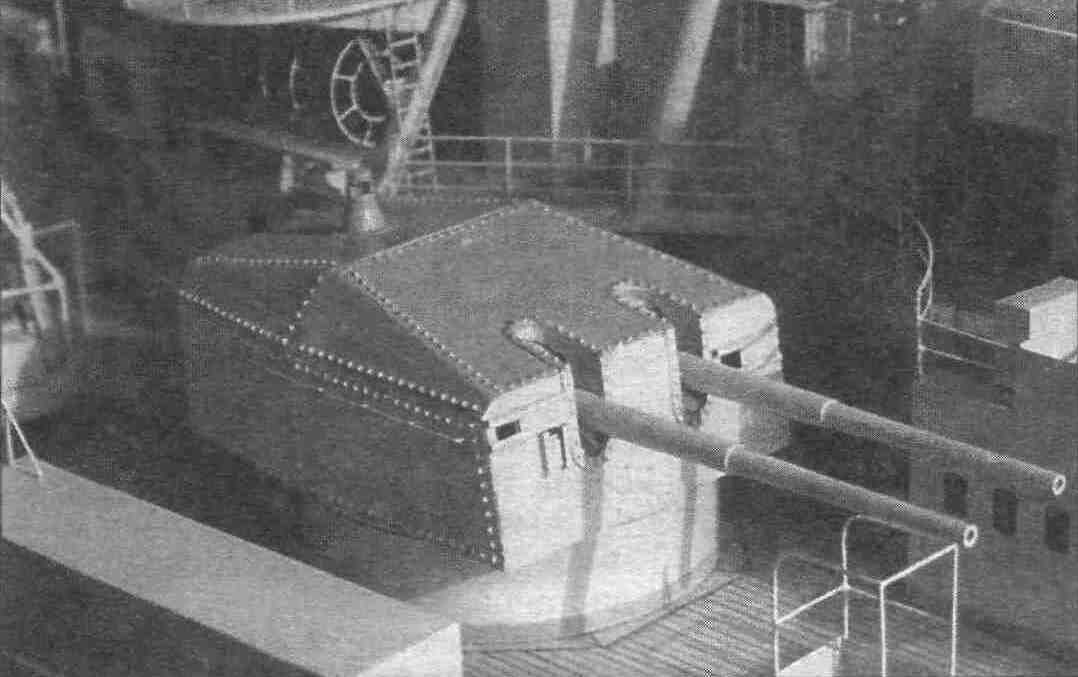
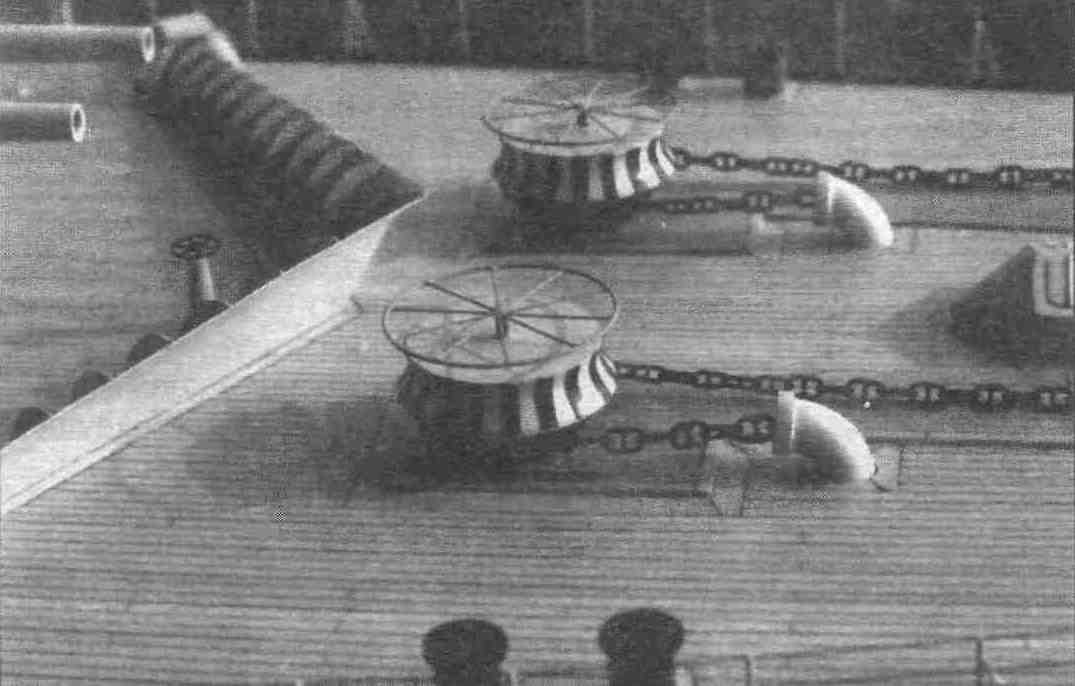
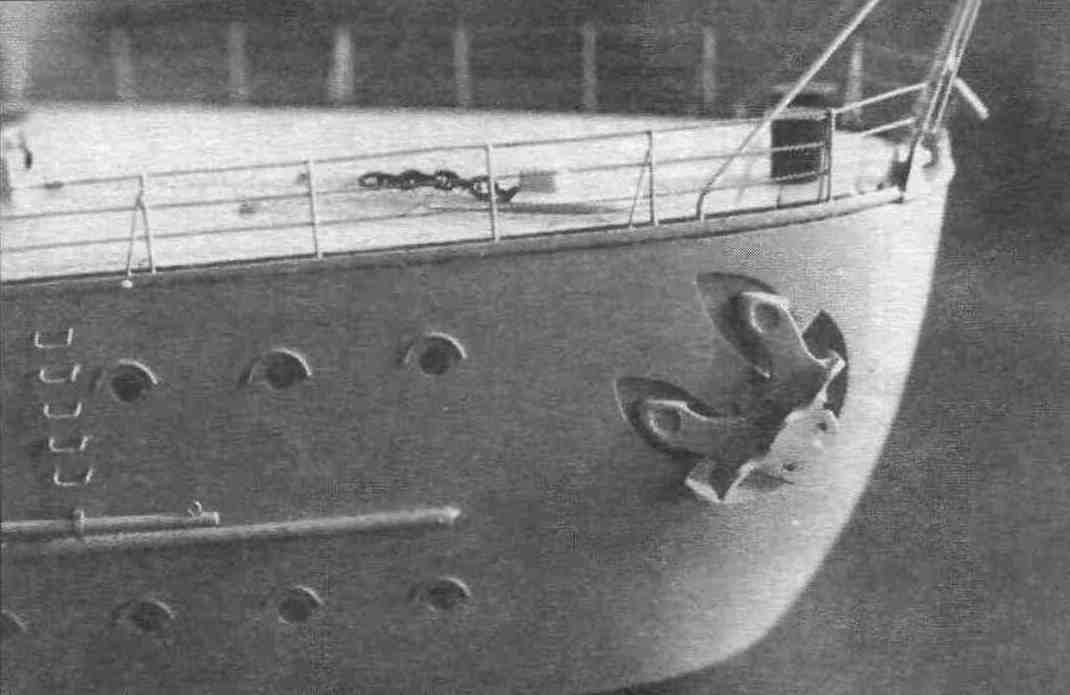
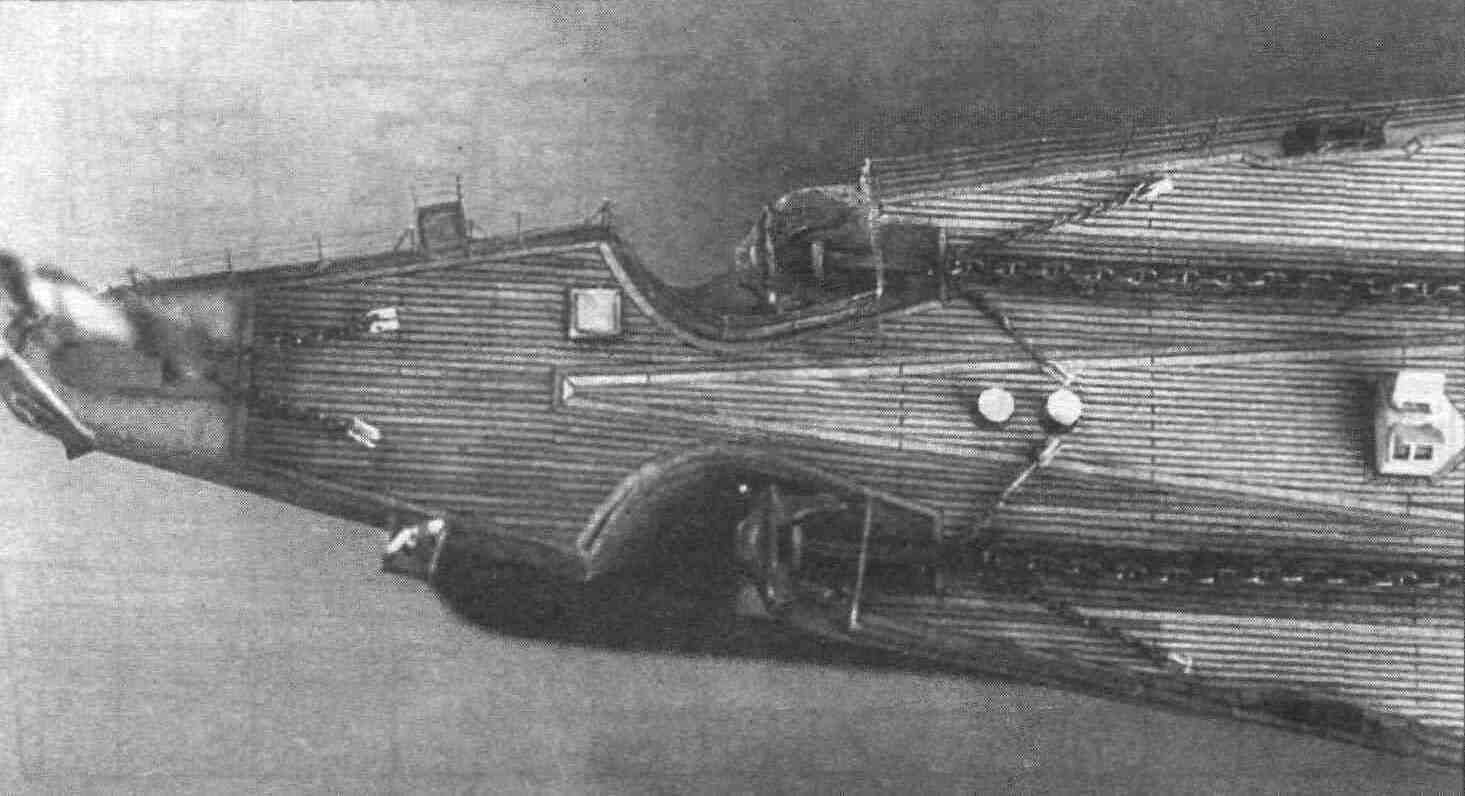
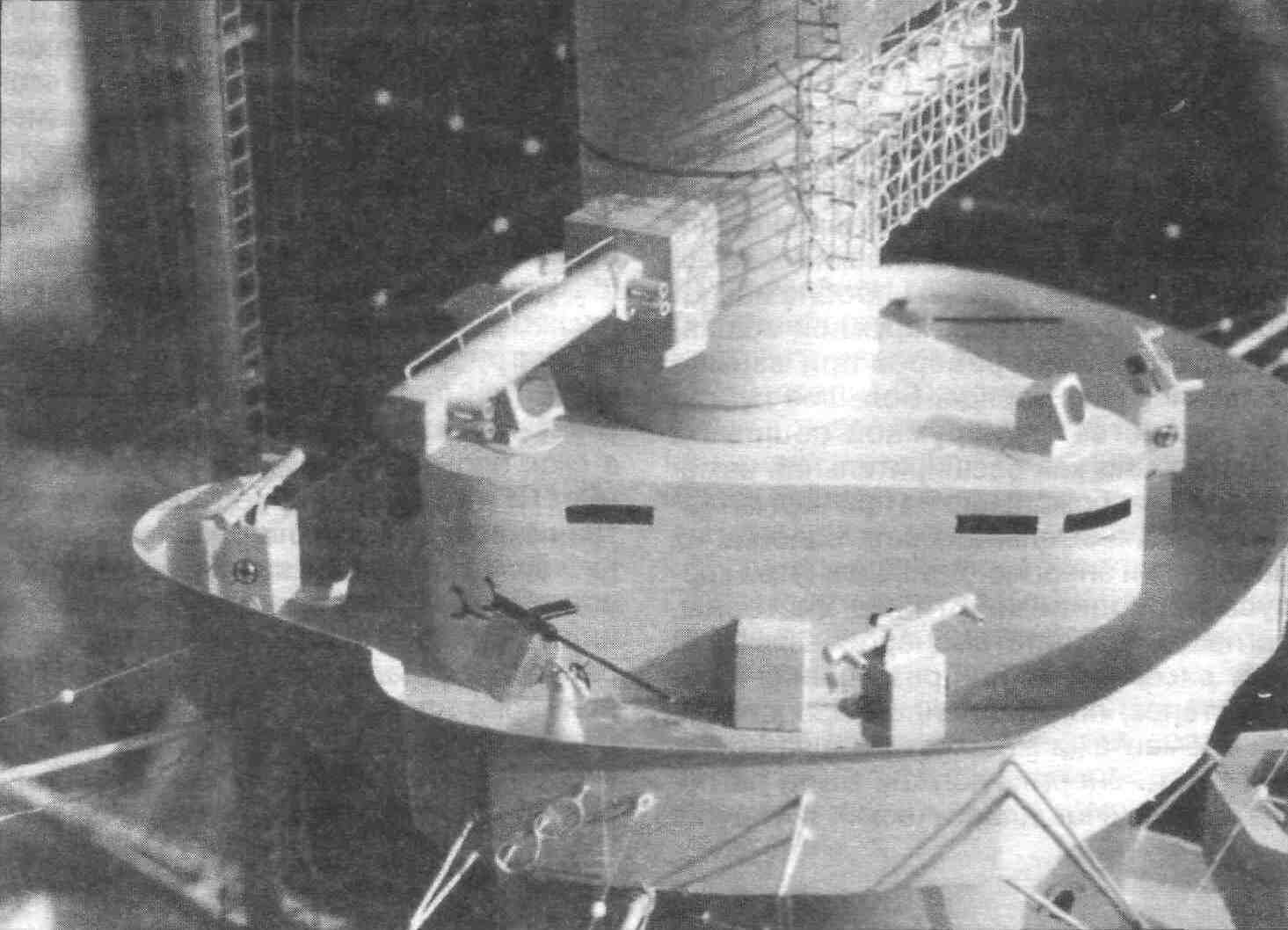
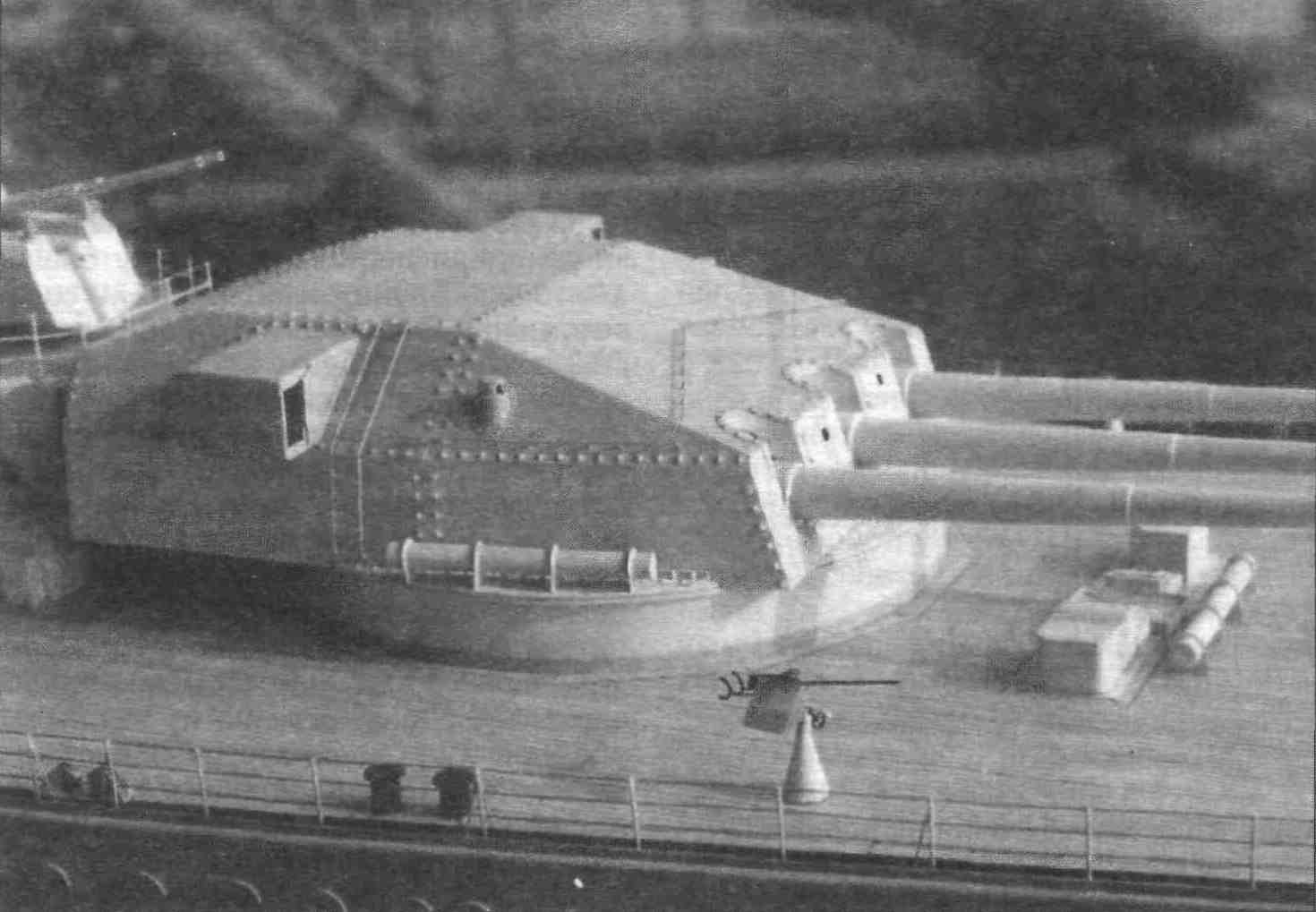
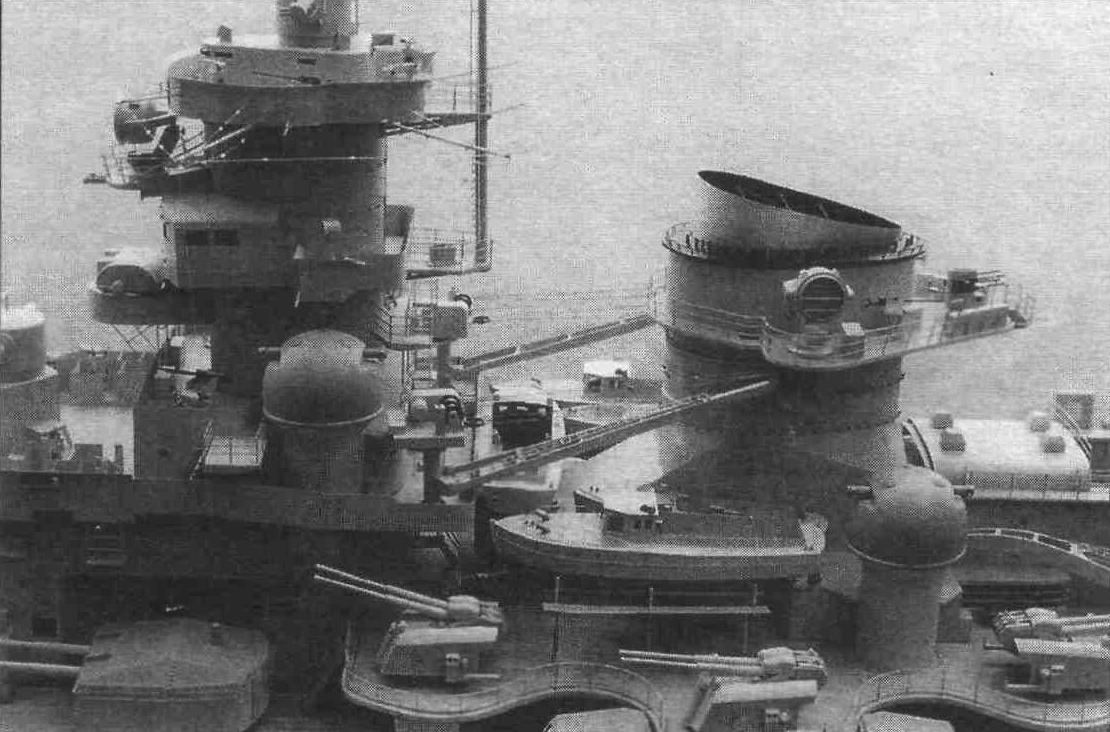
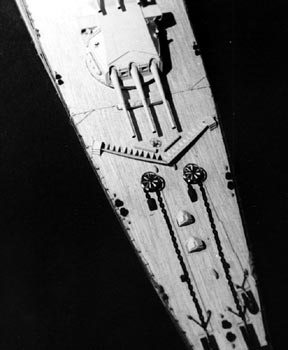



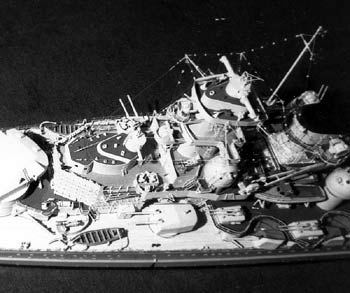
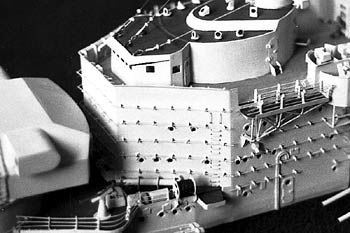
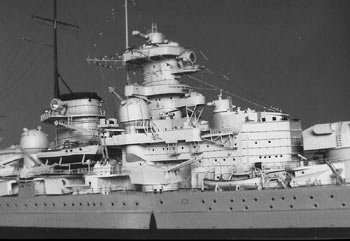

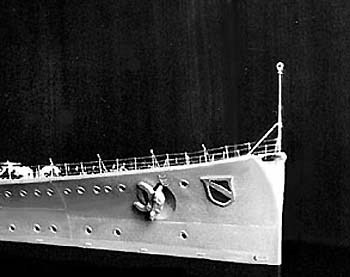
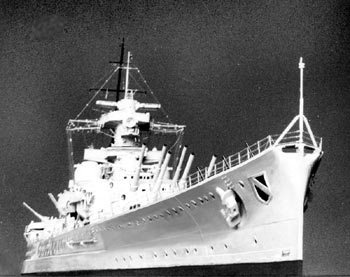










.jpg)

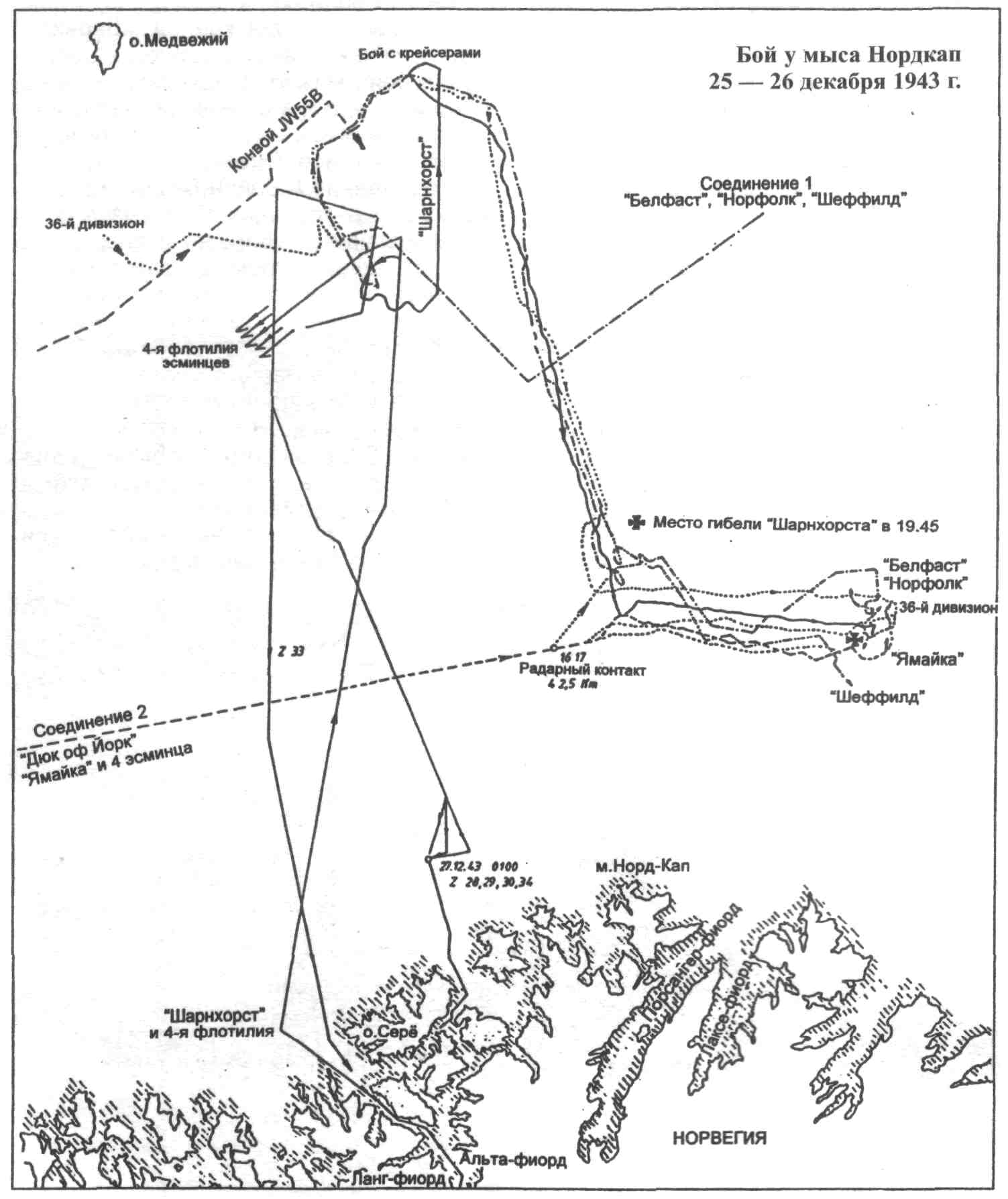


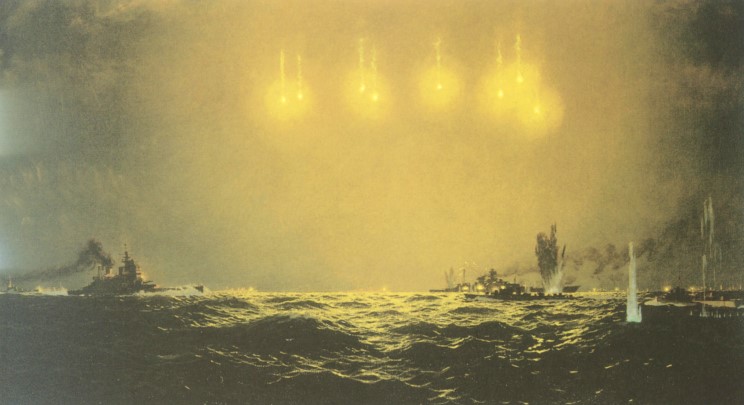

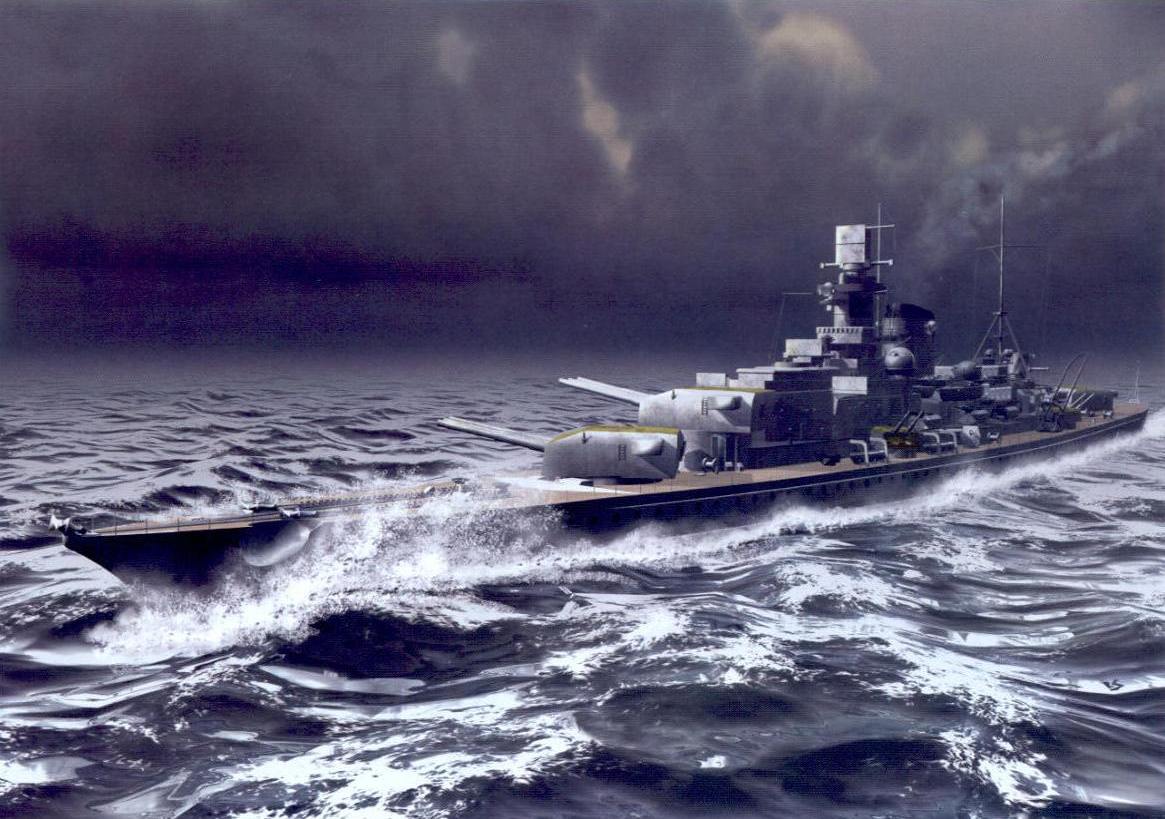
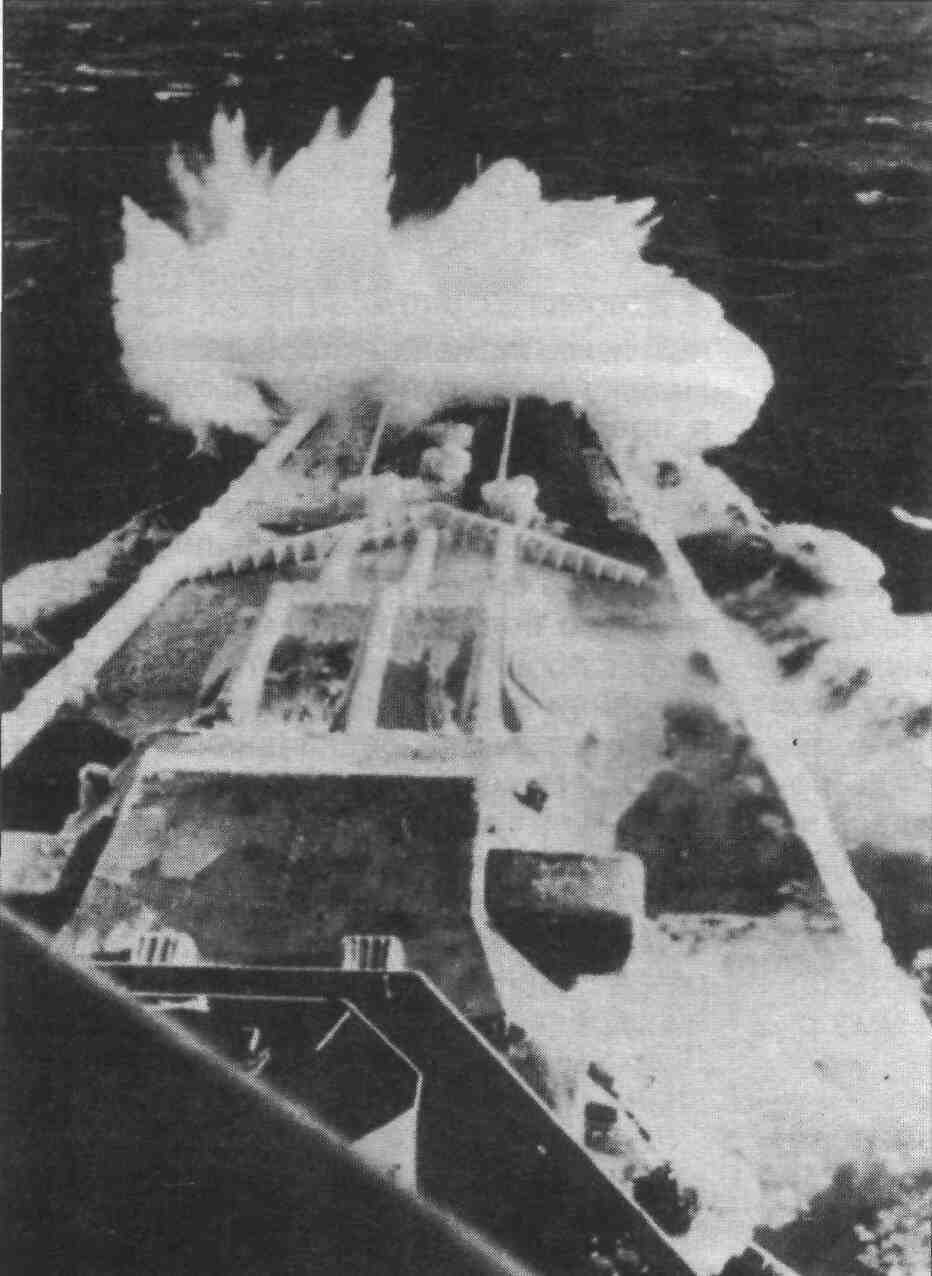
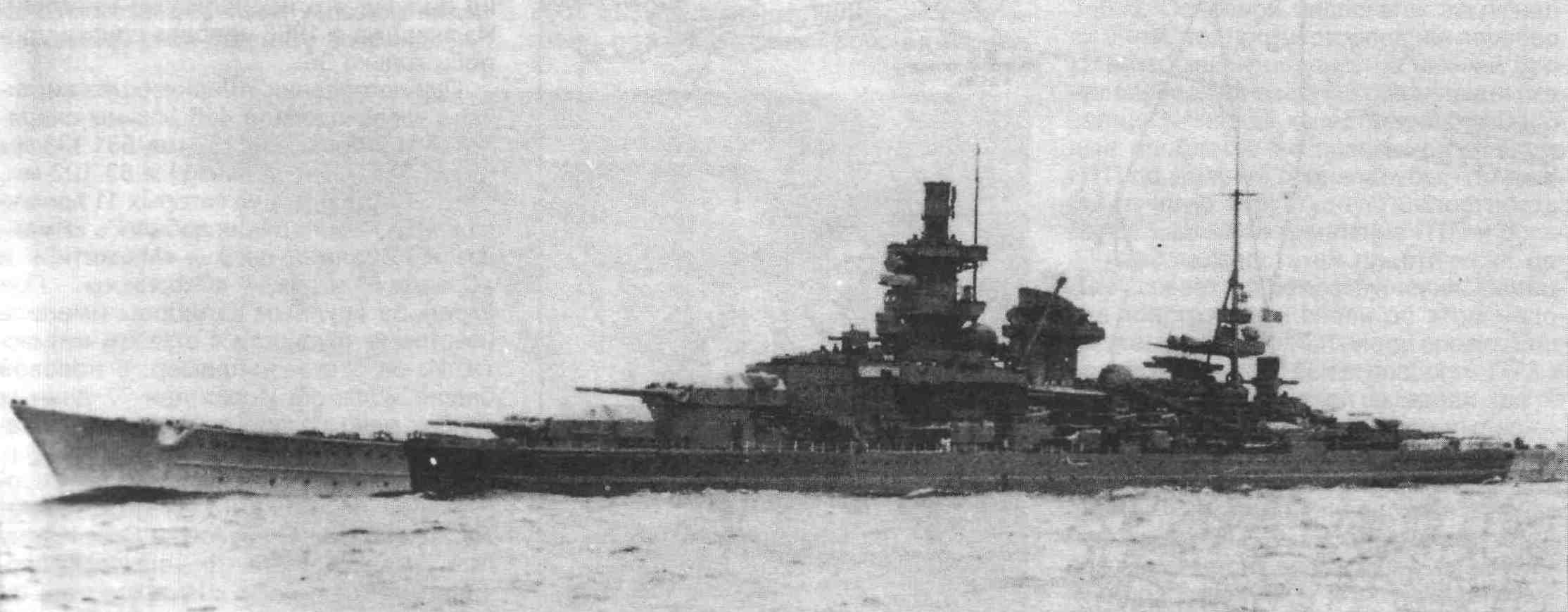
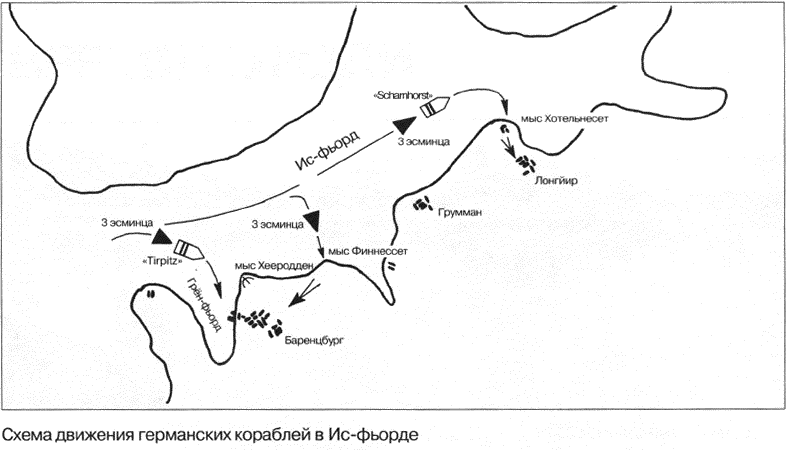
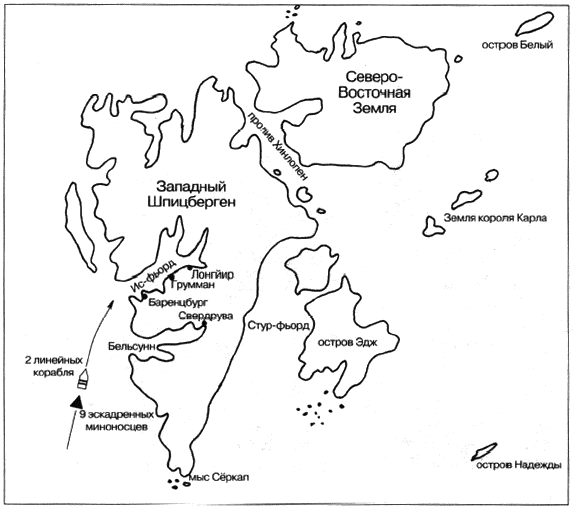
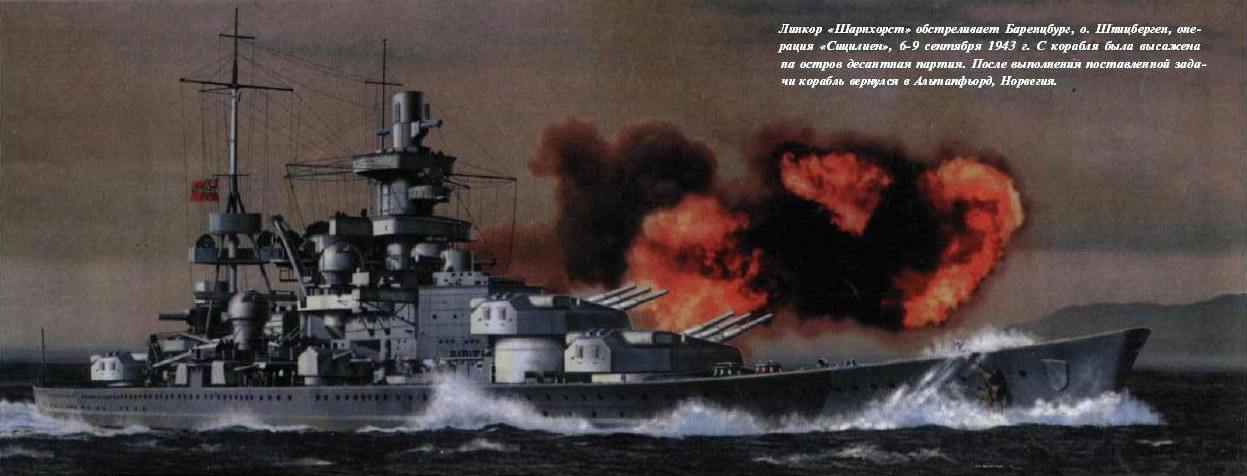
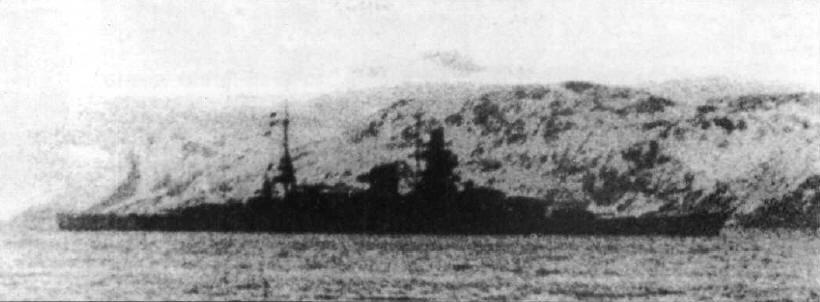
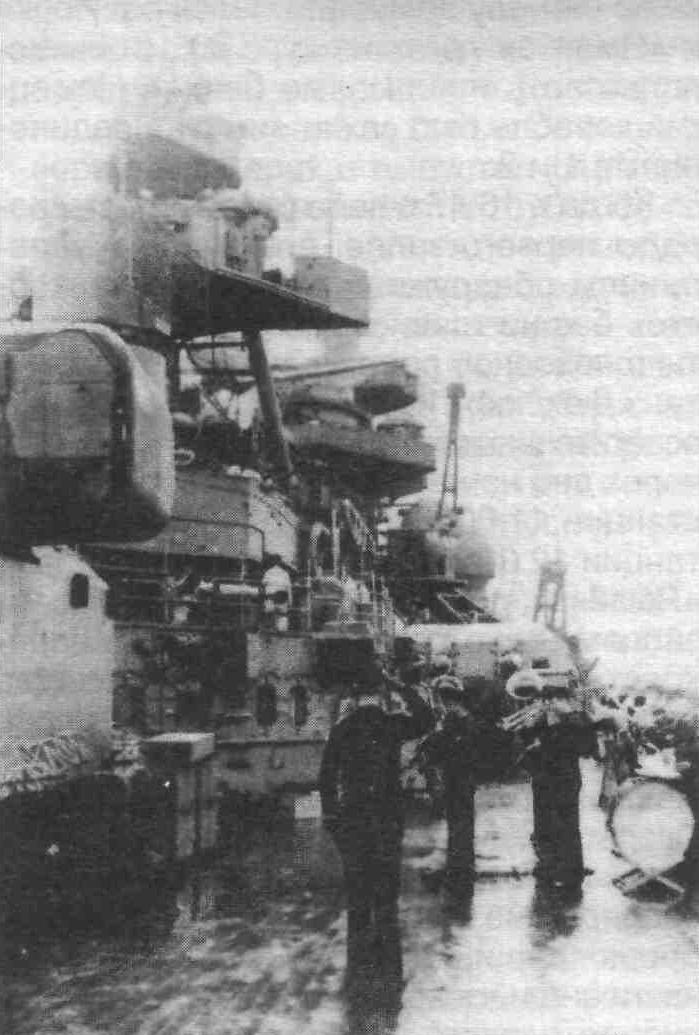


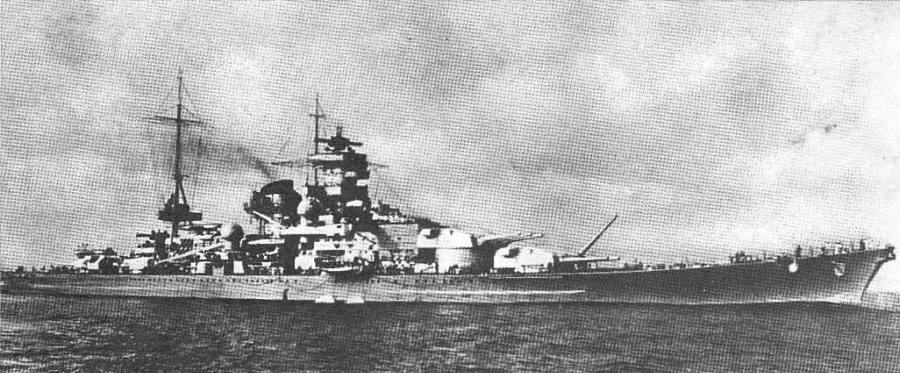
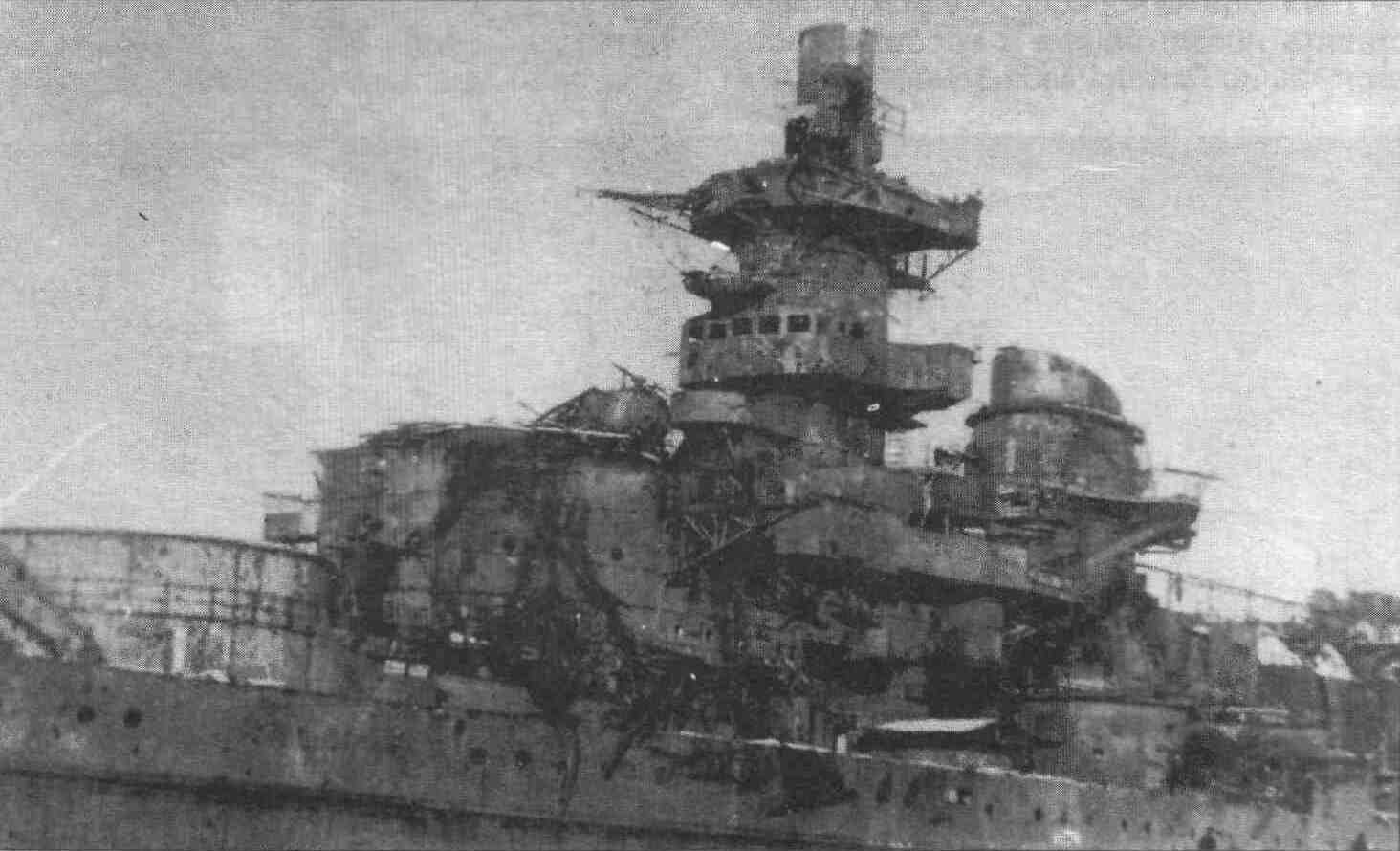

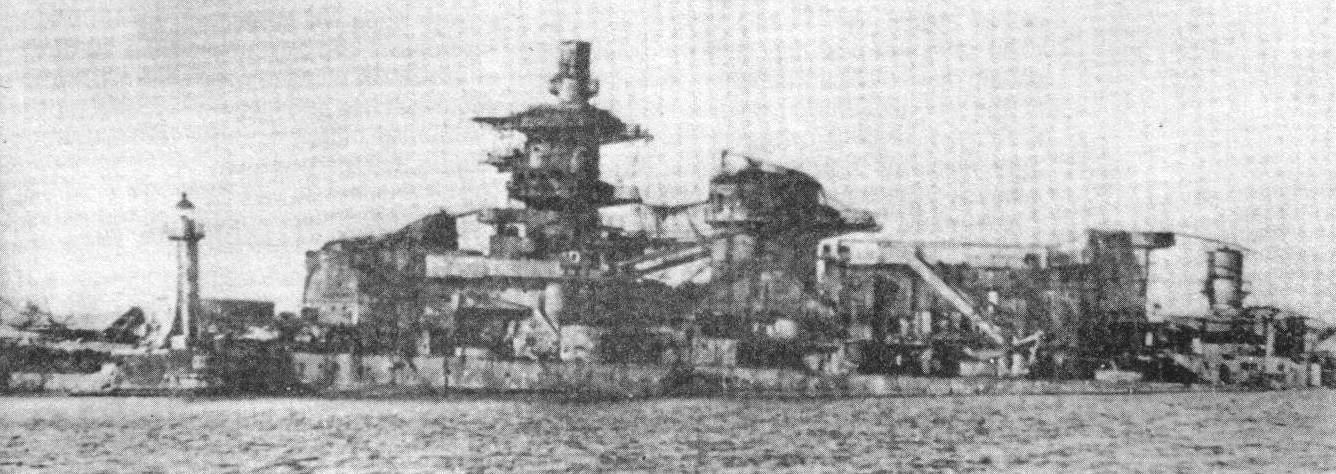
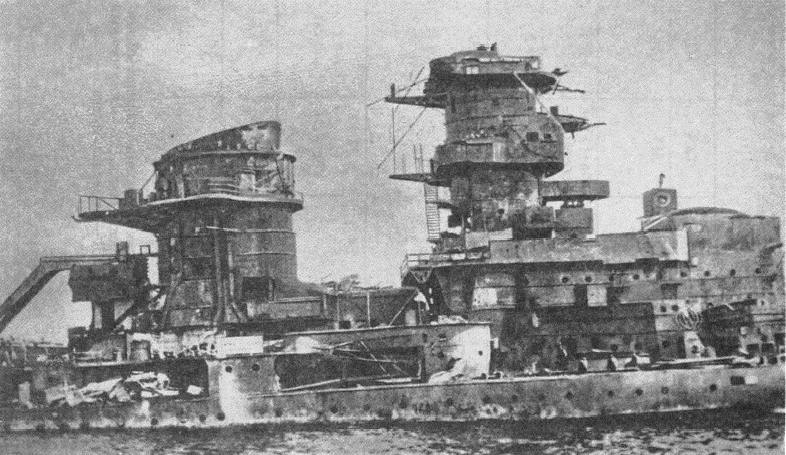



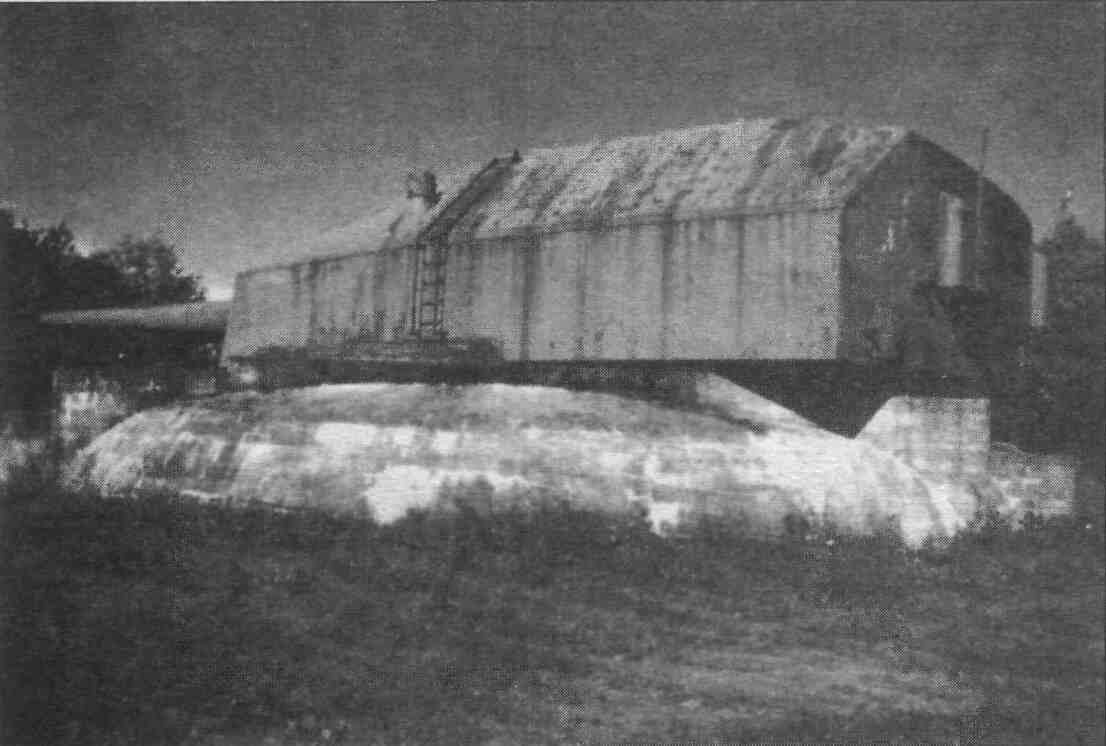
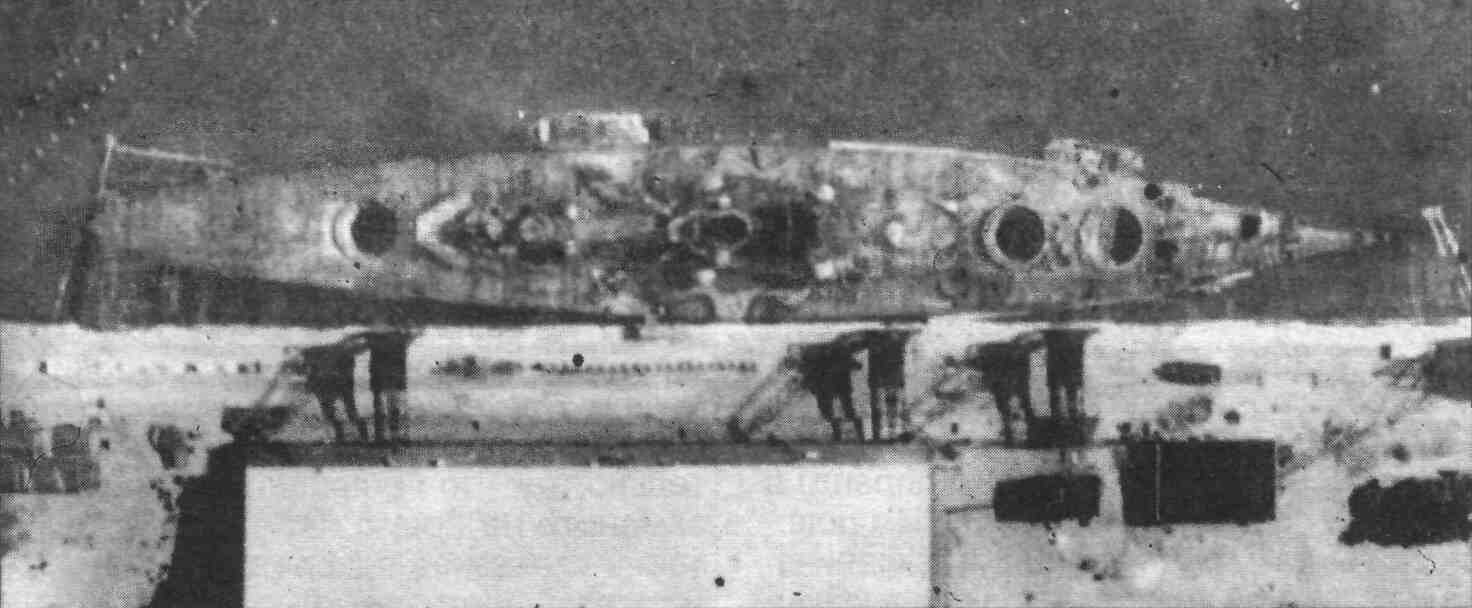



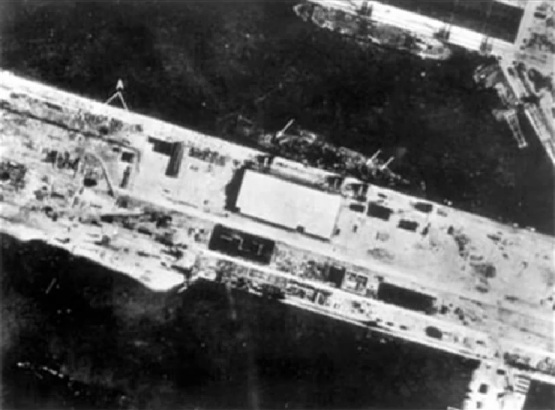





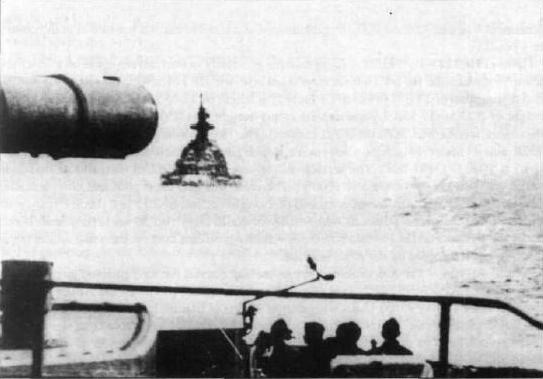



.jpg)







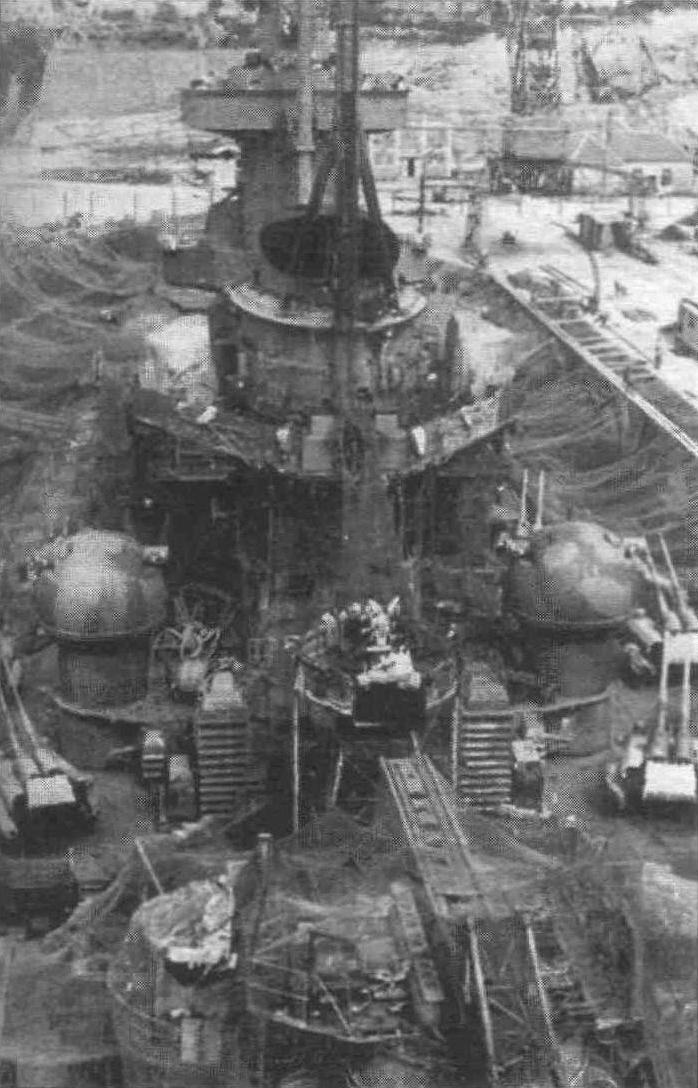

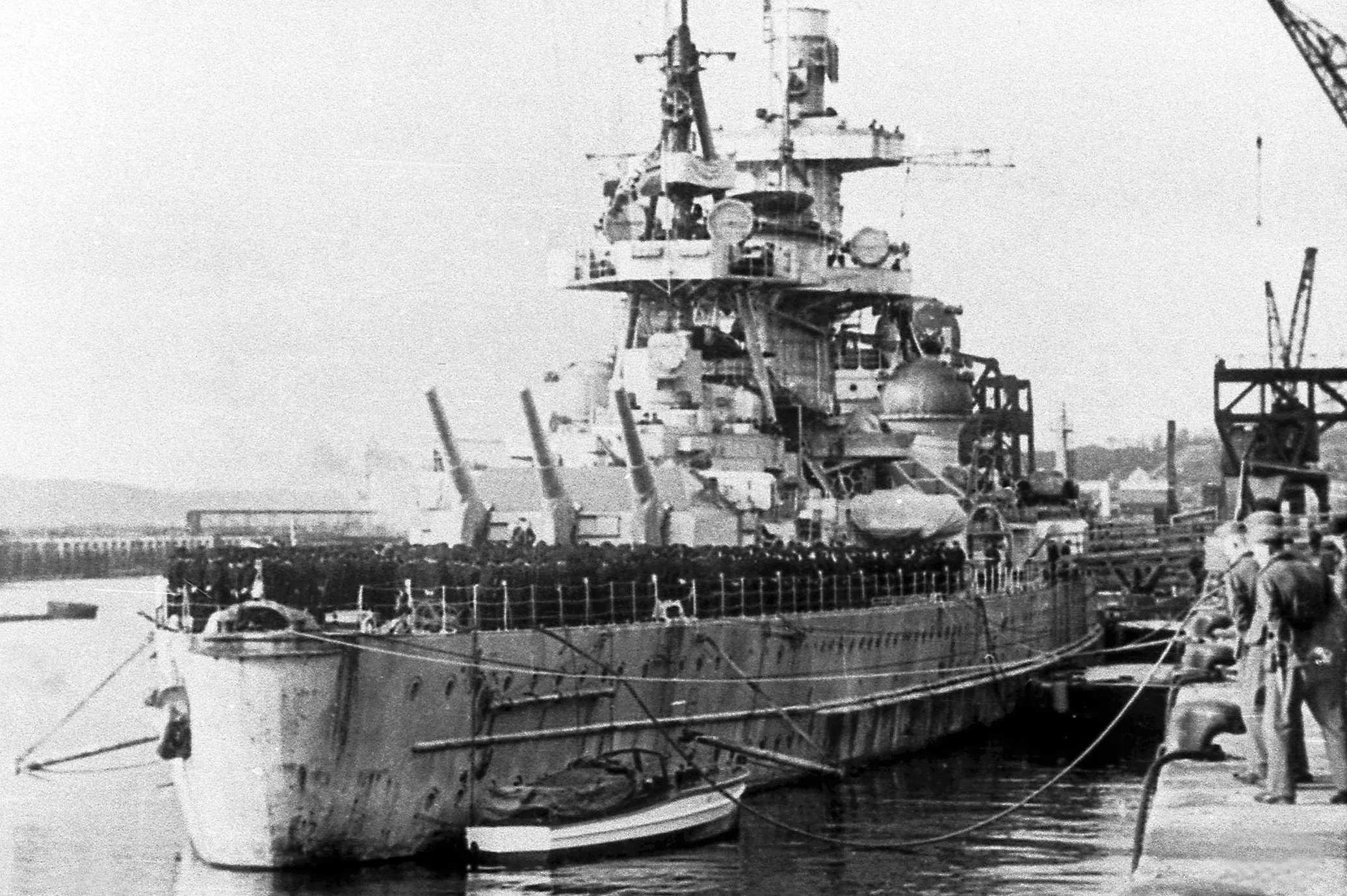

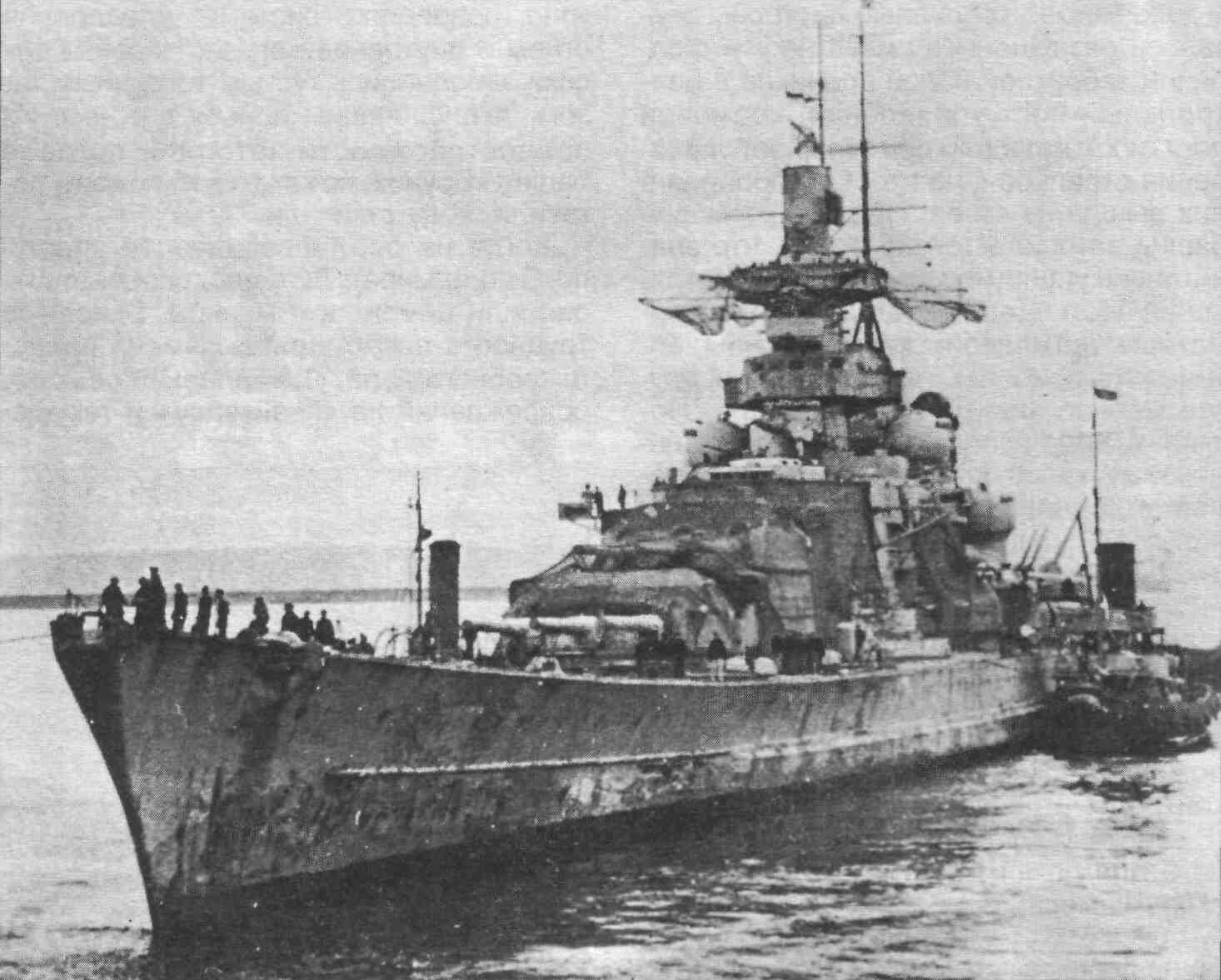


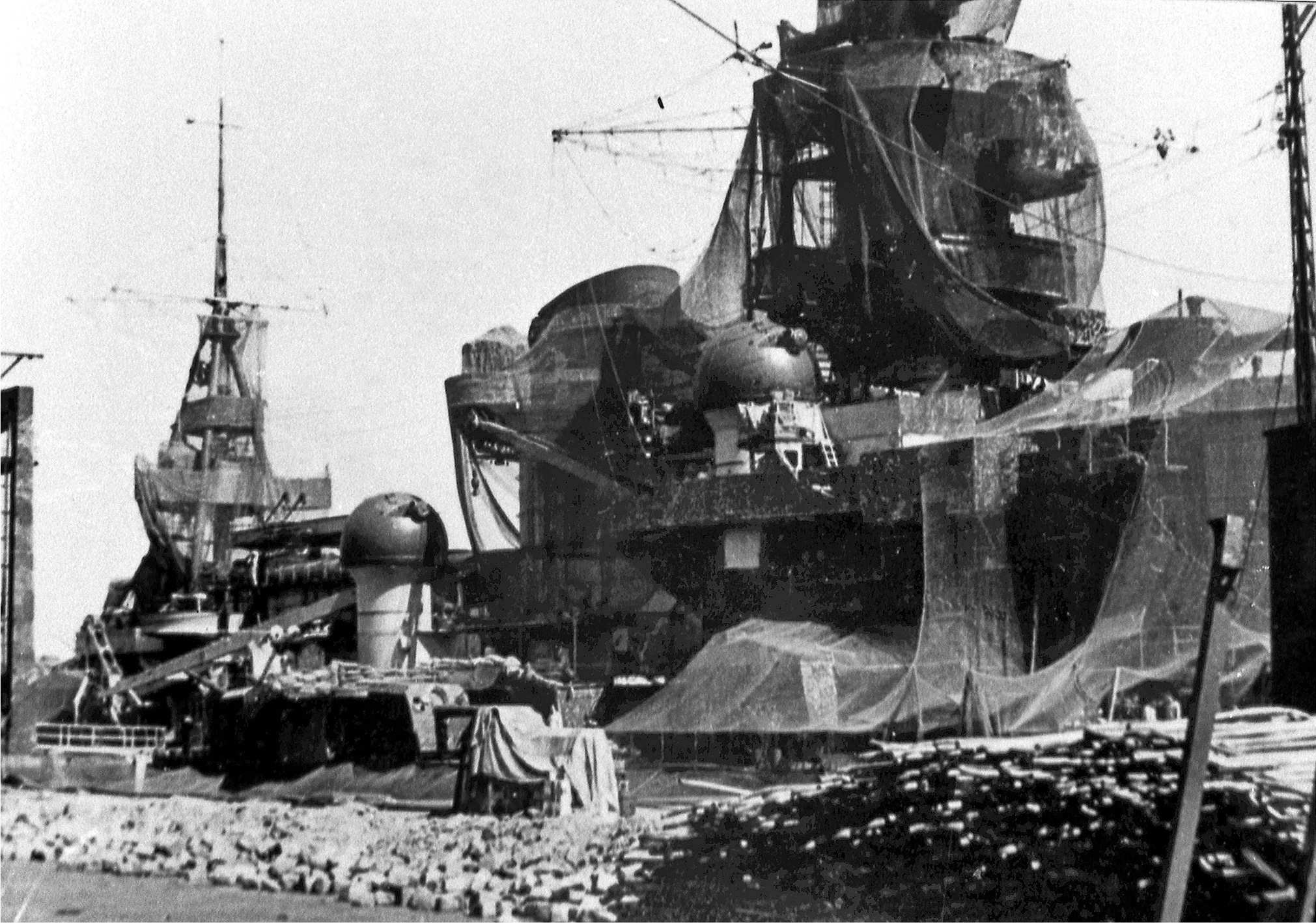


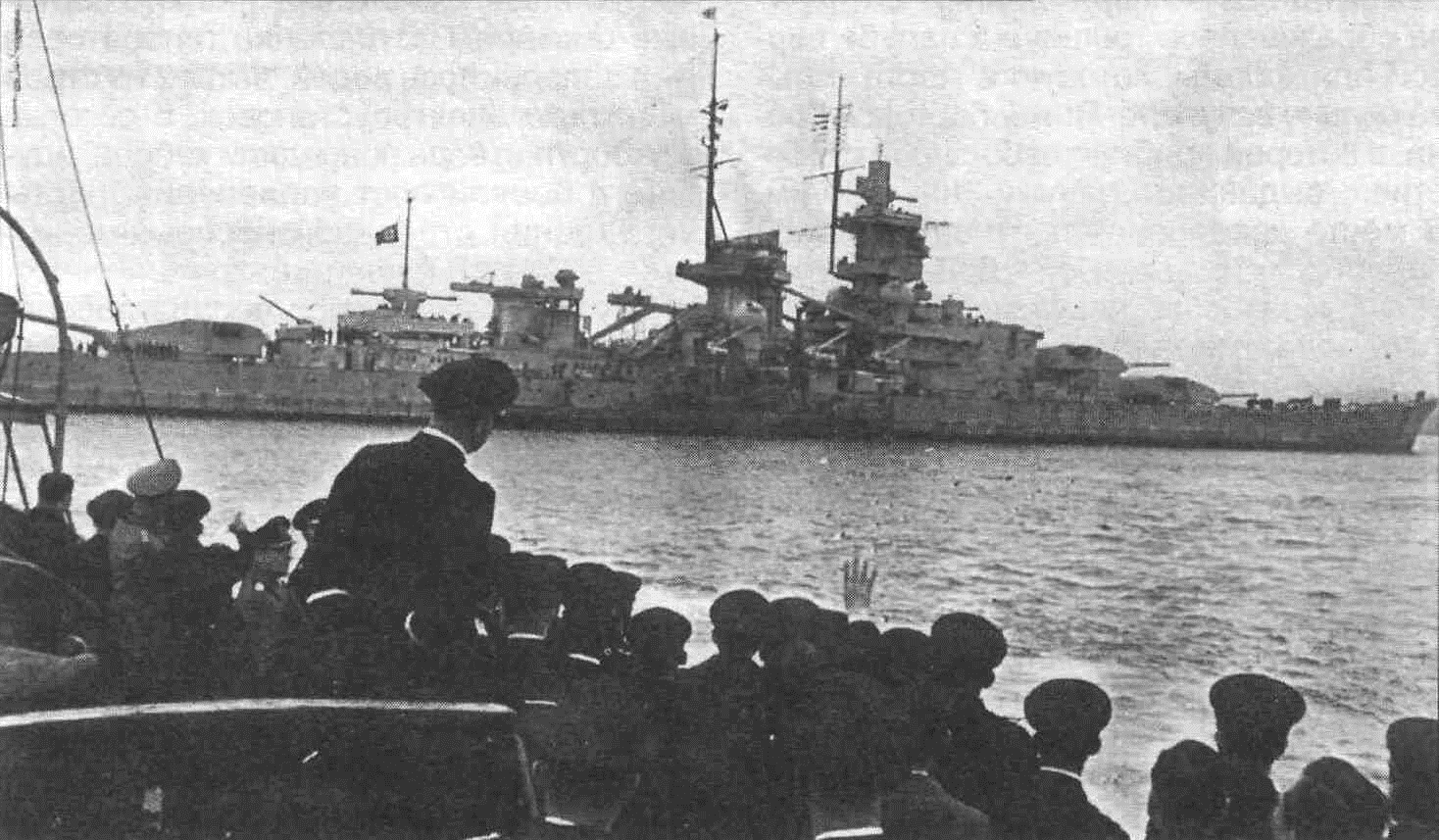

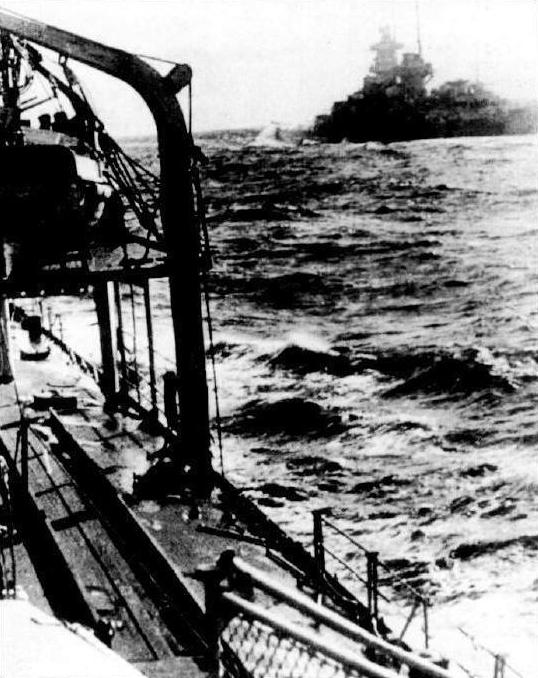

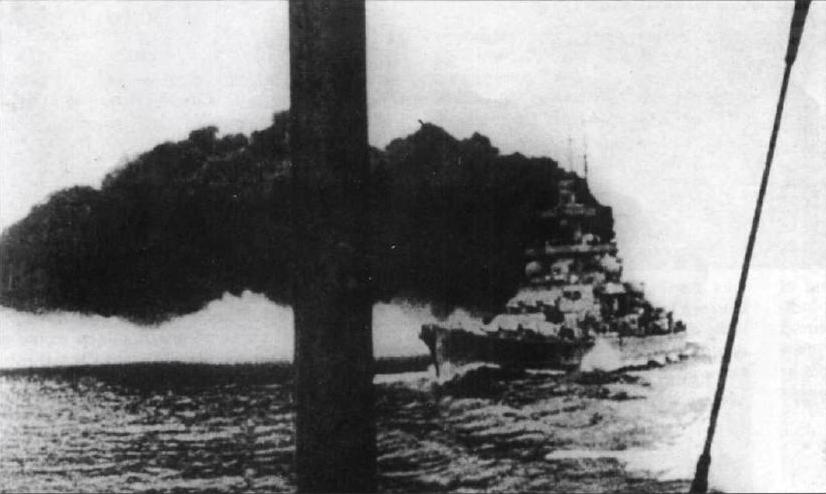
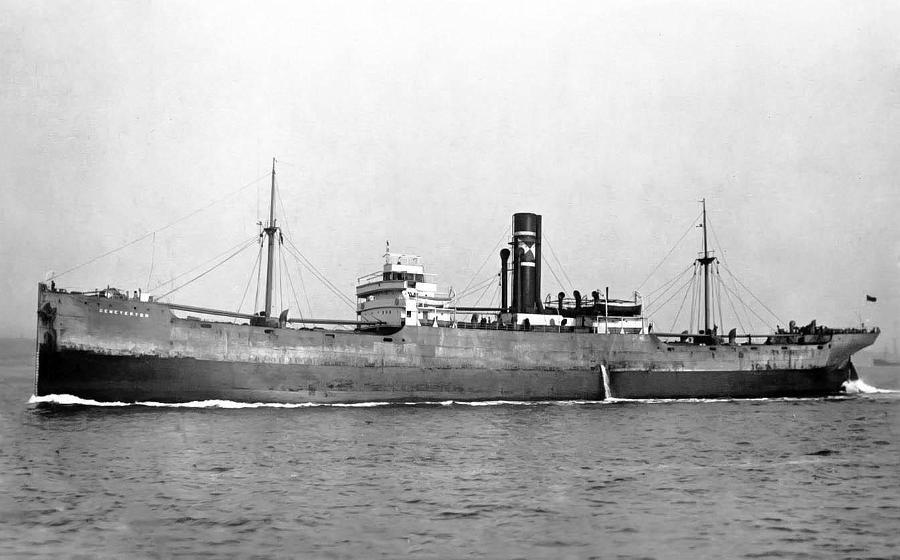
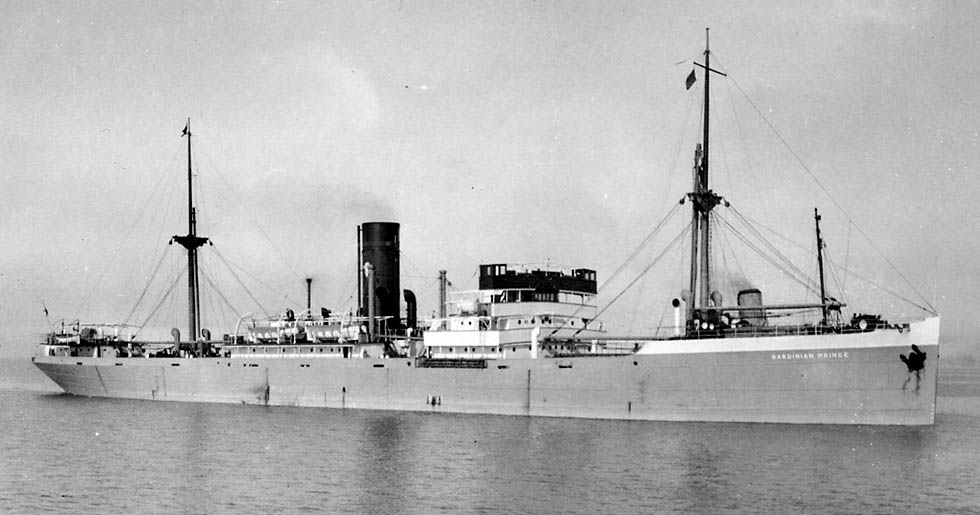

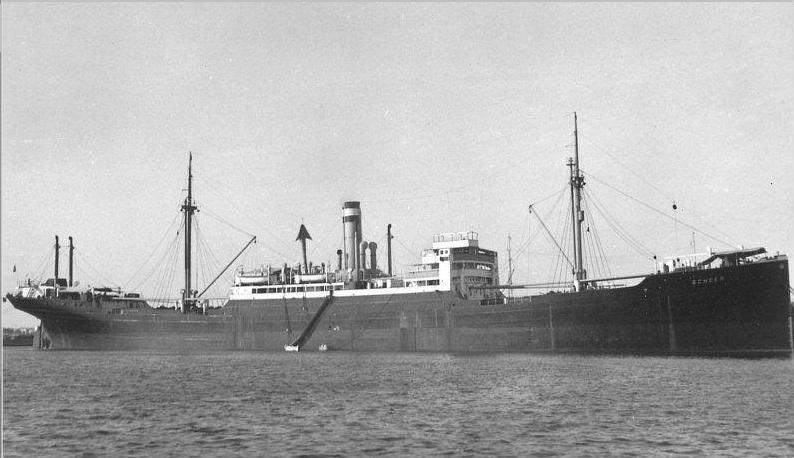
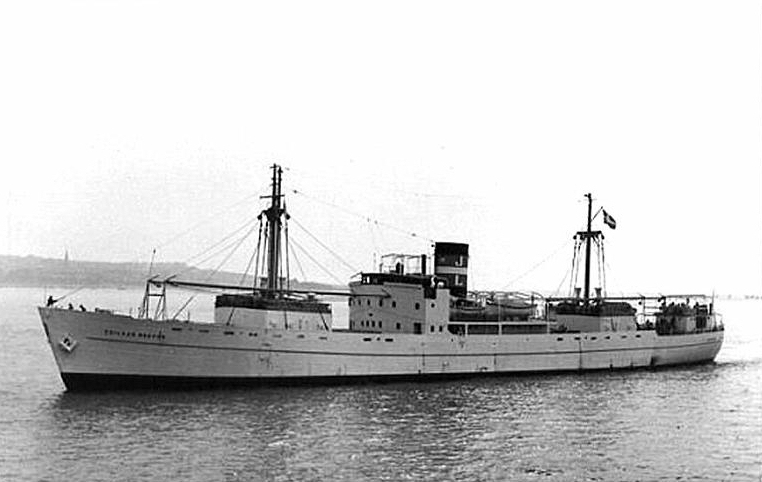
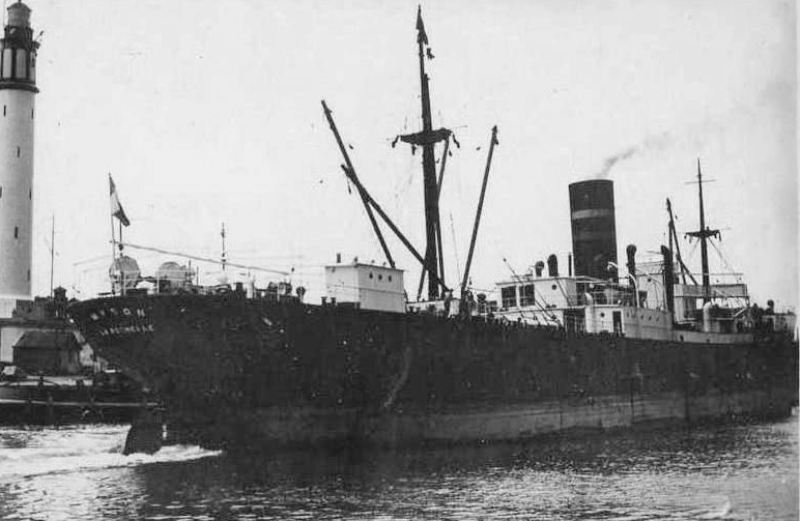



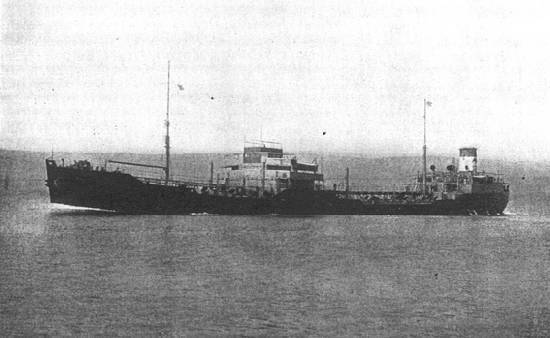

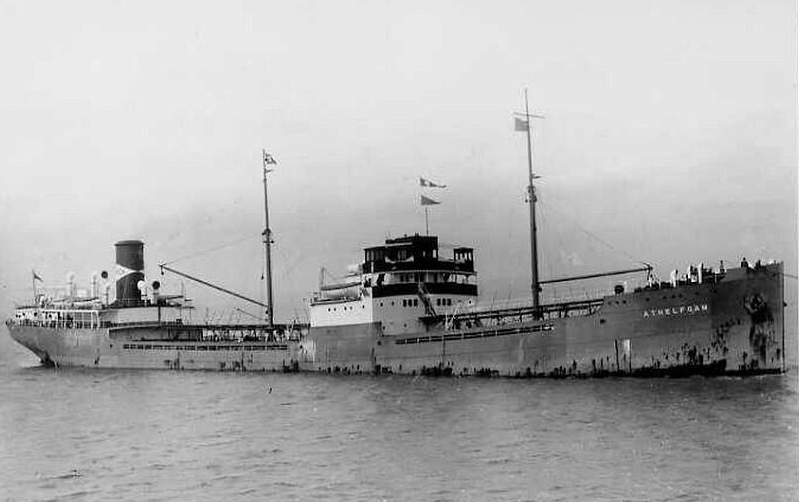
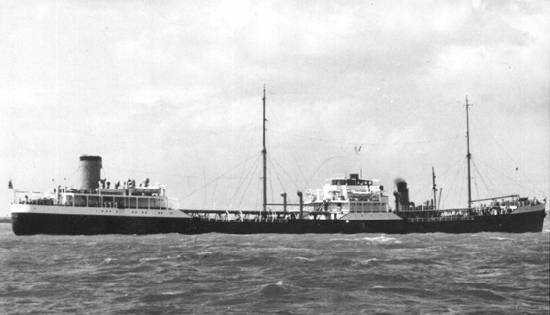

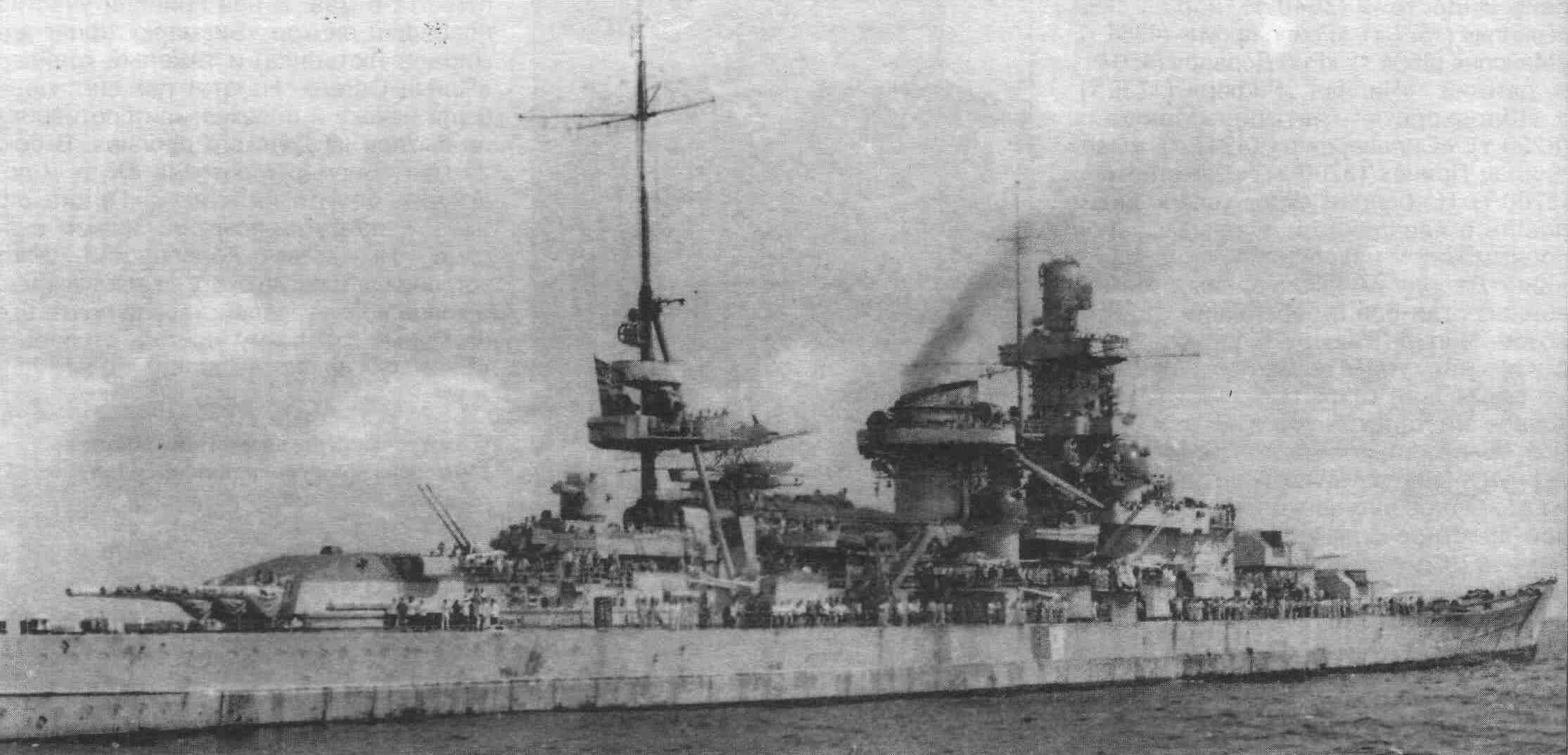


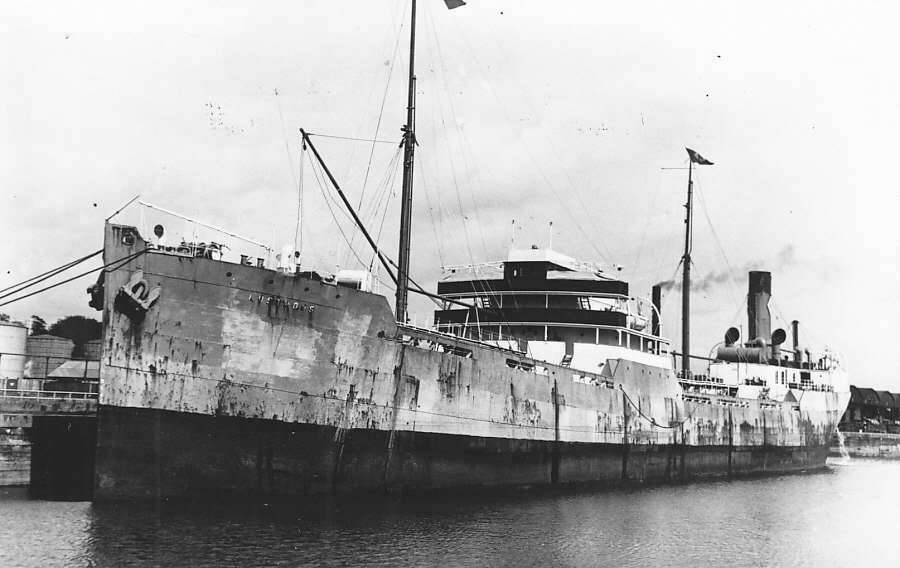



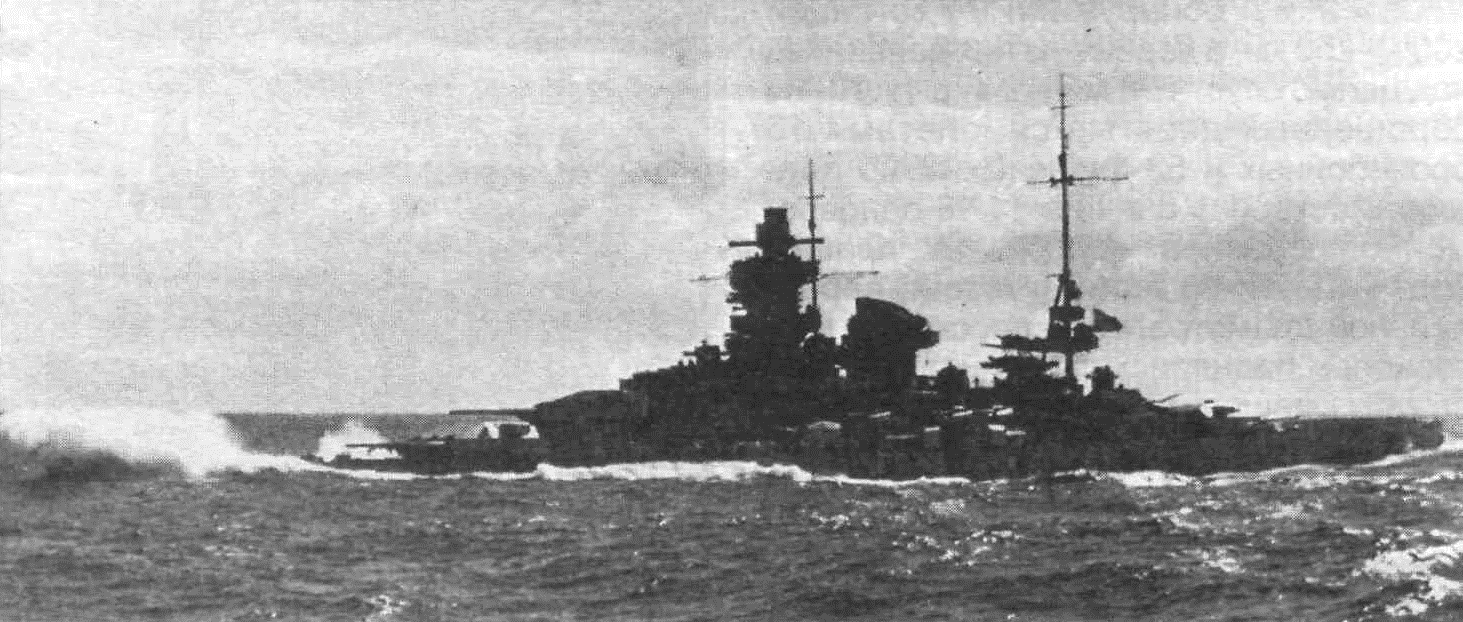





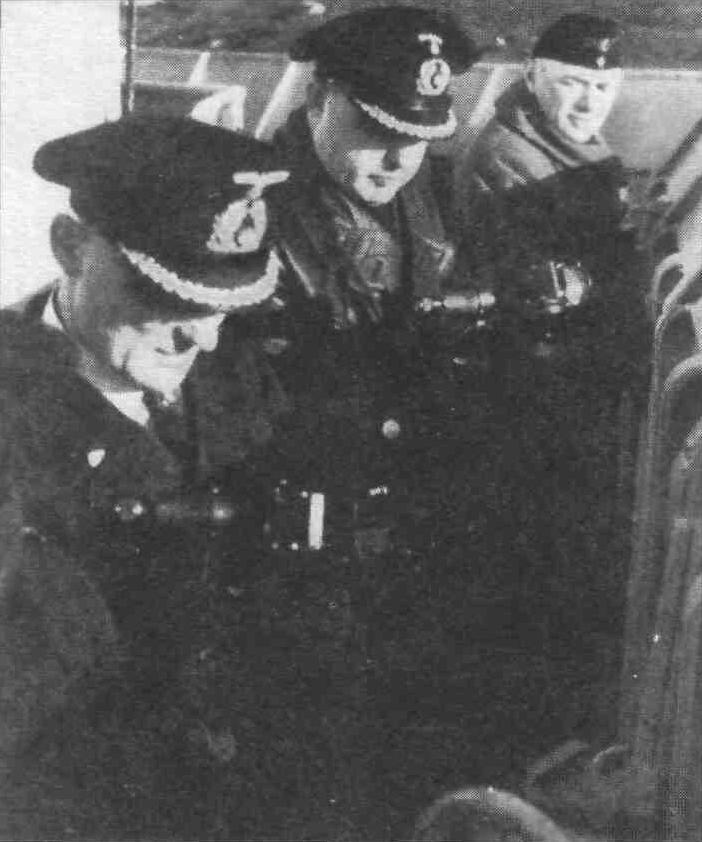


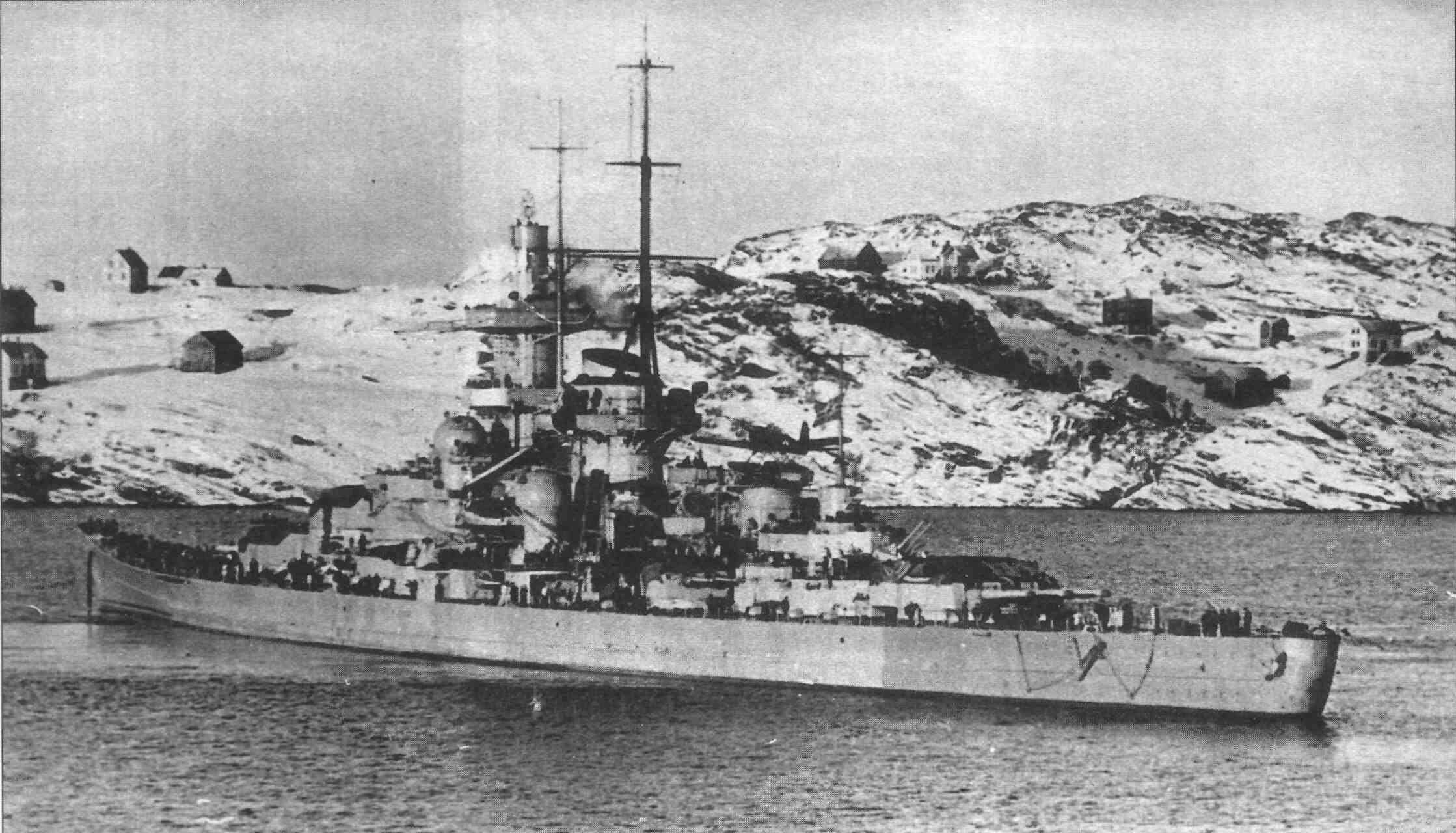



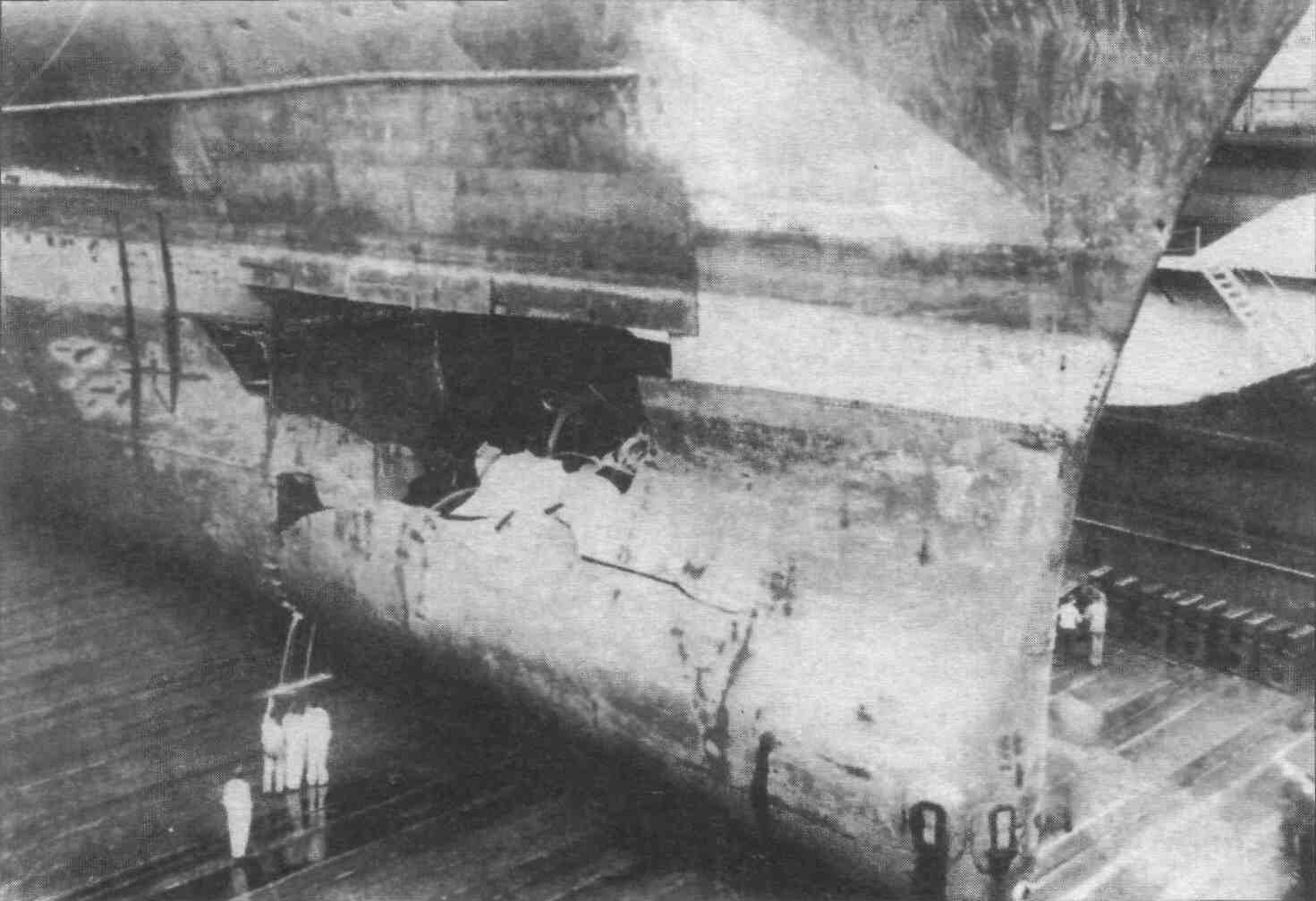
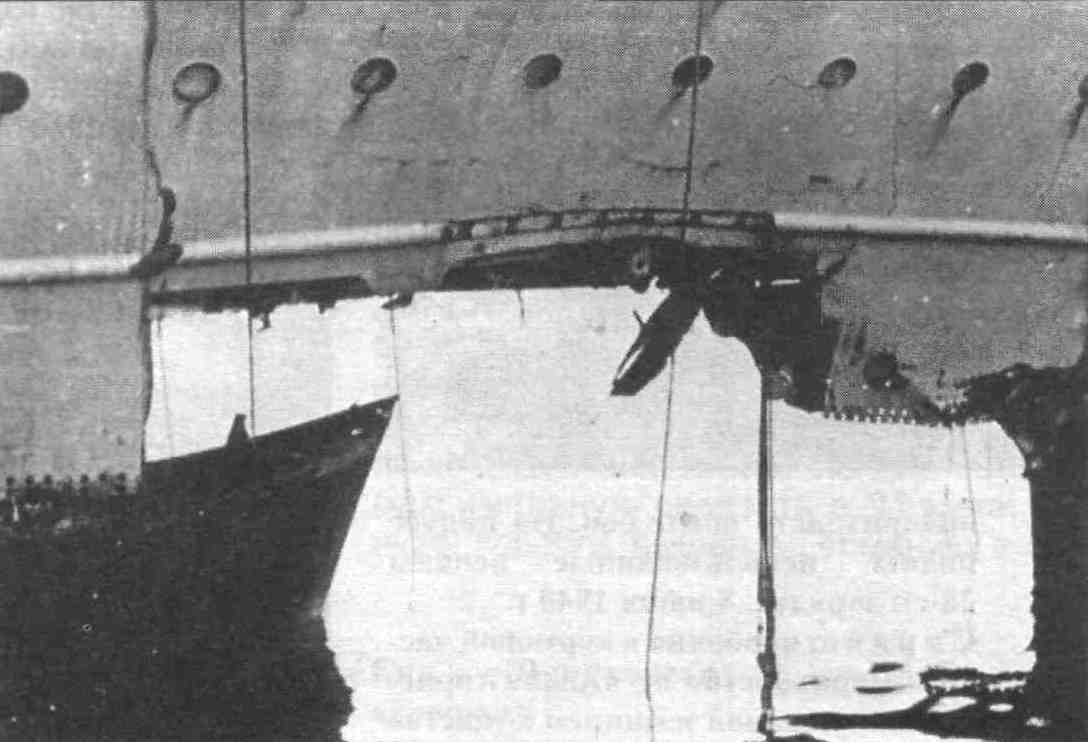

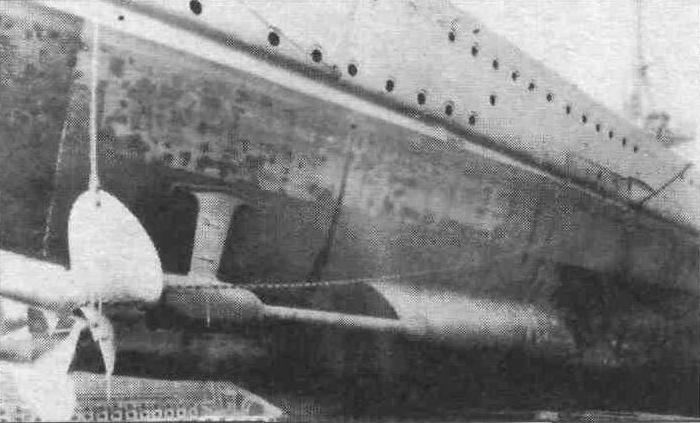
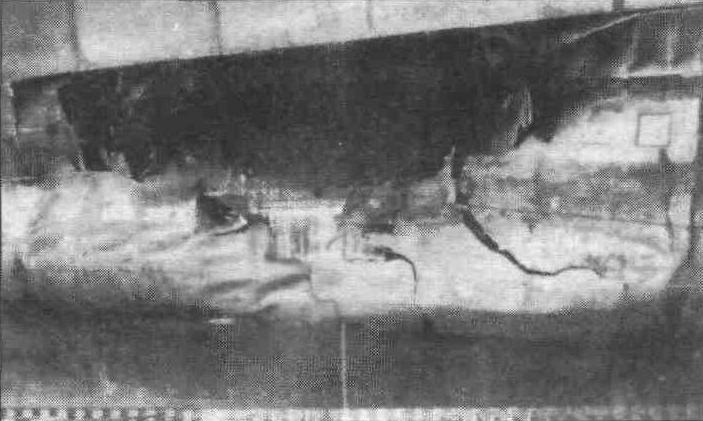



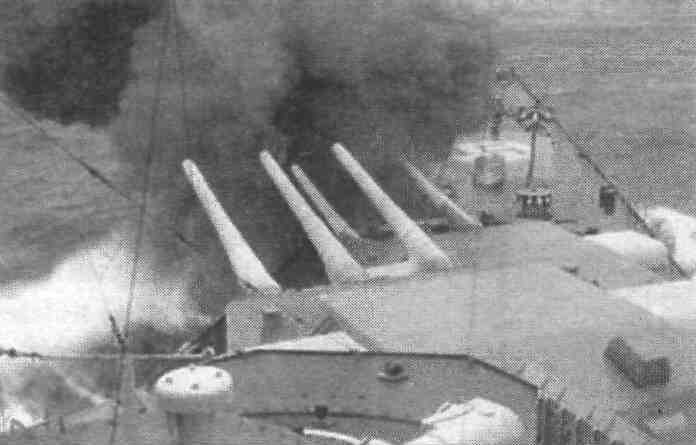


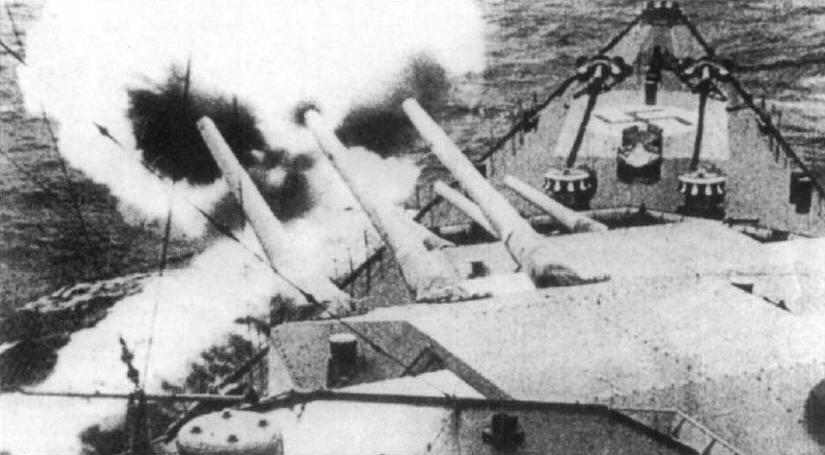
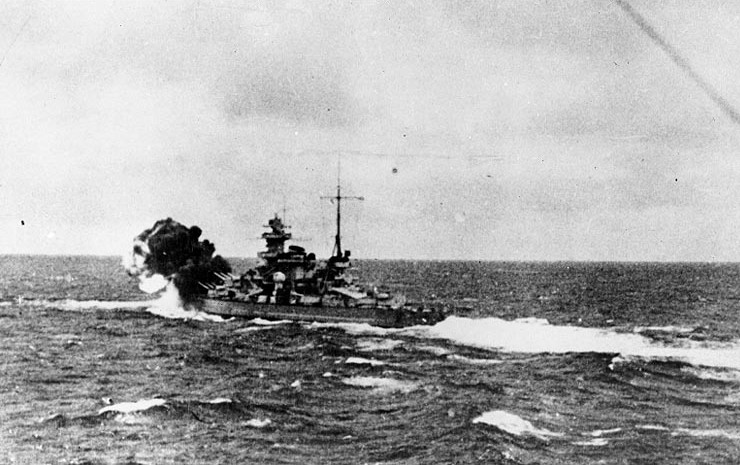


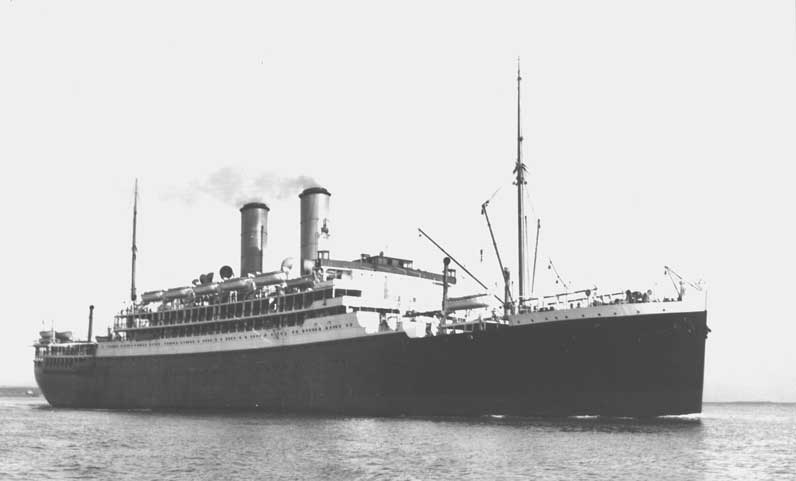


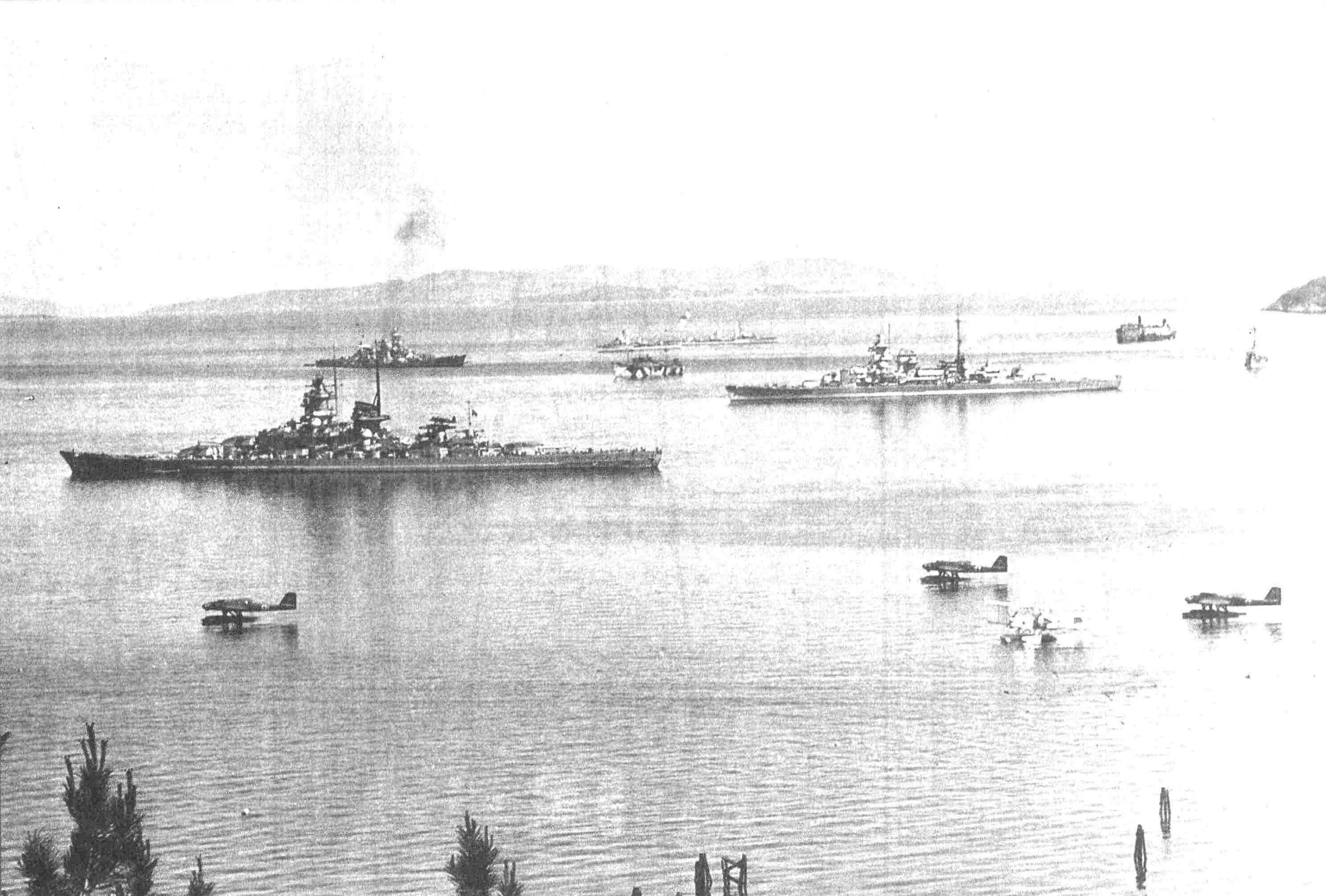
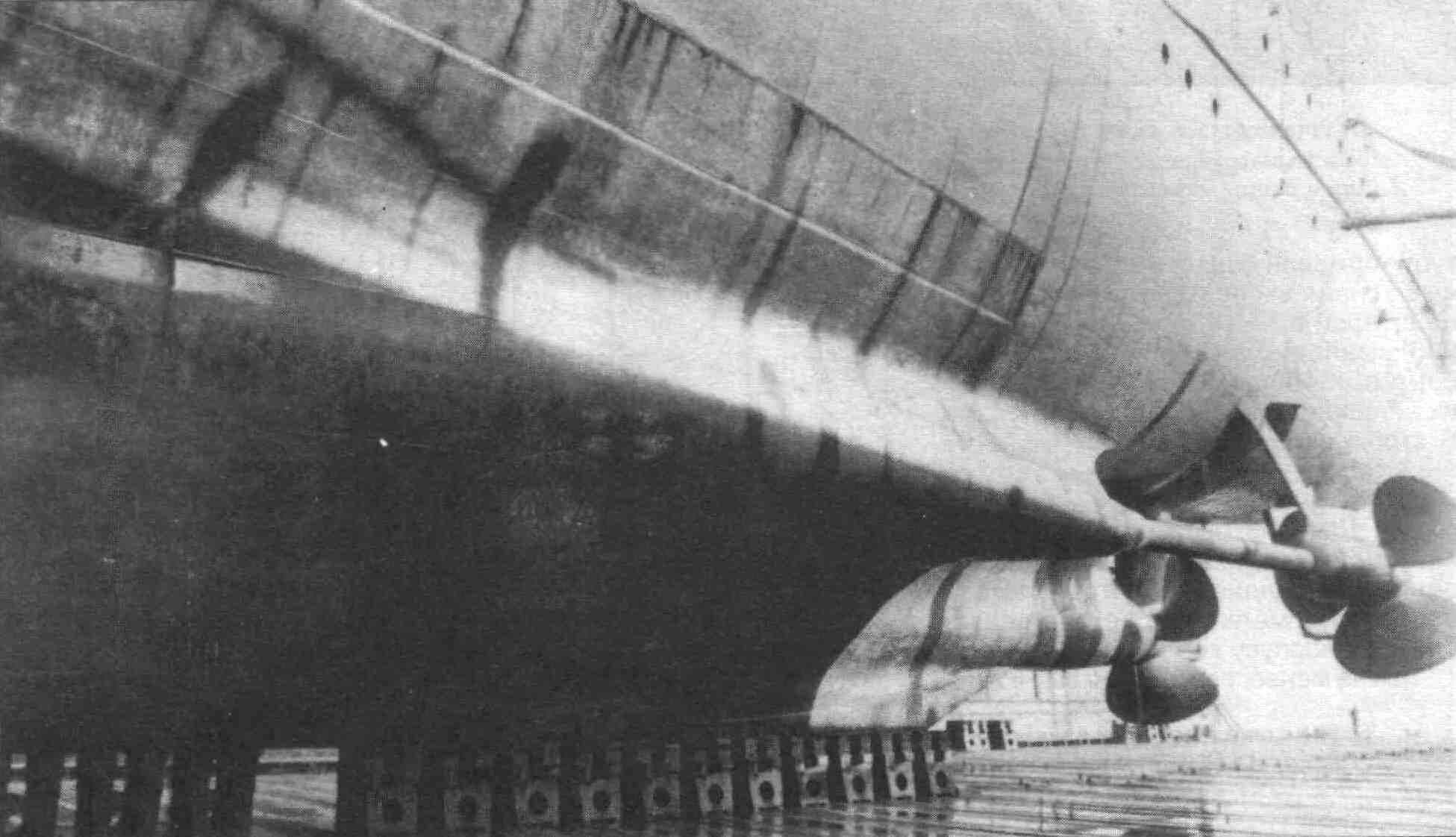
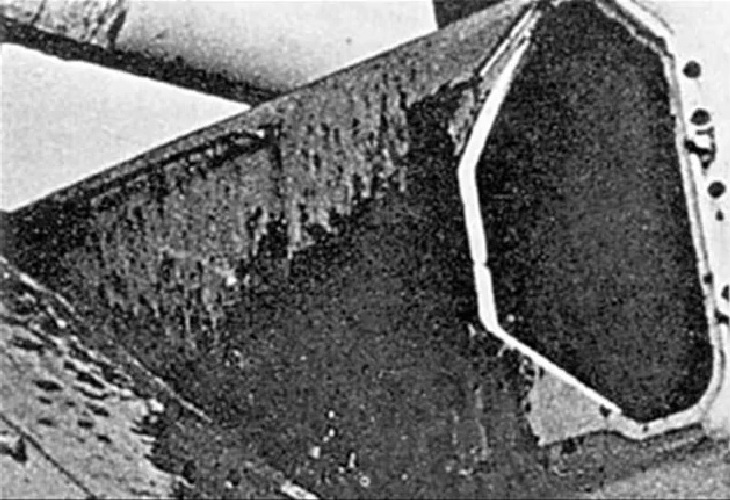
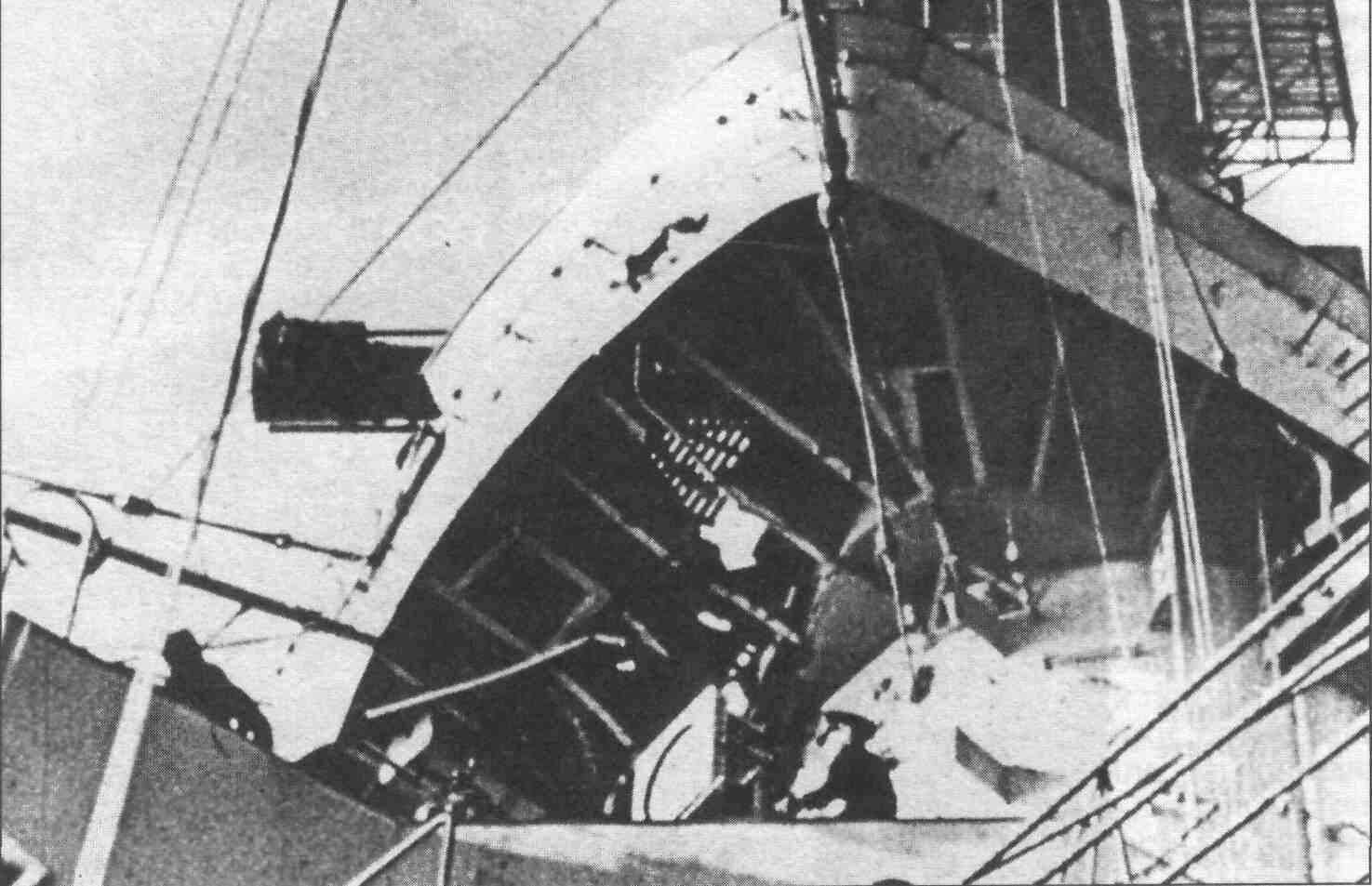
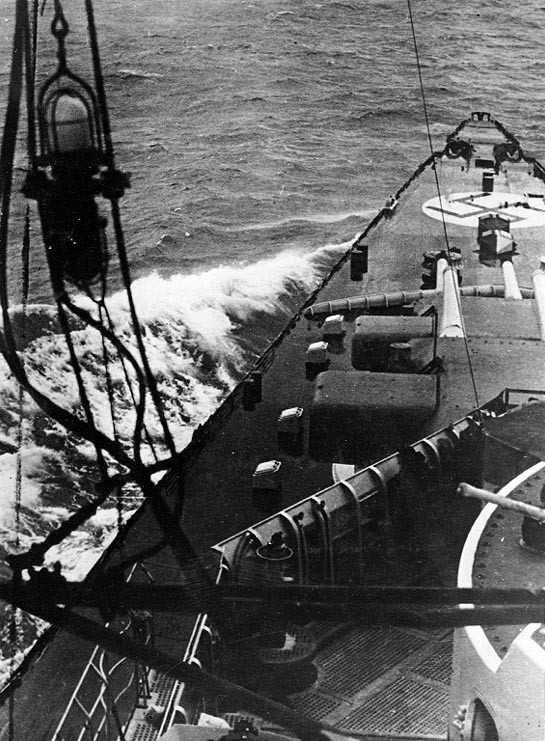
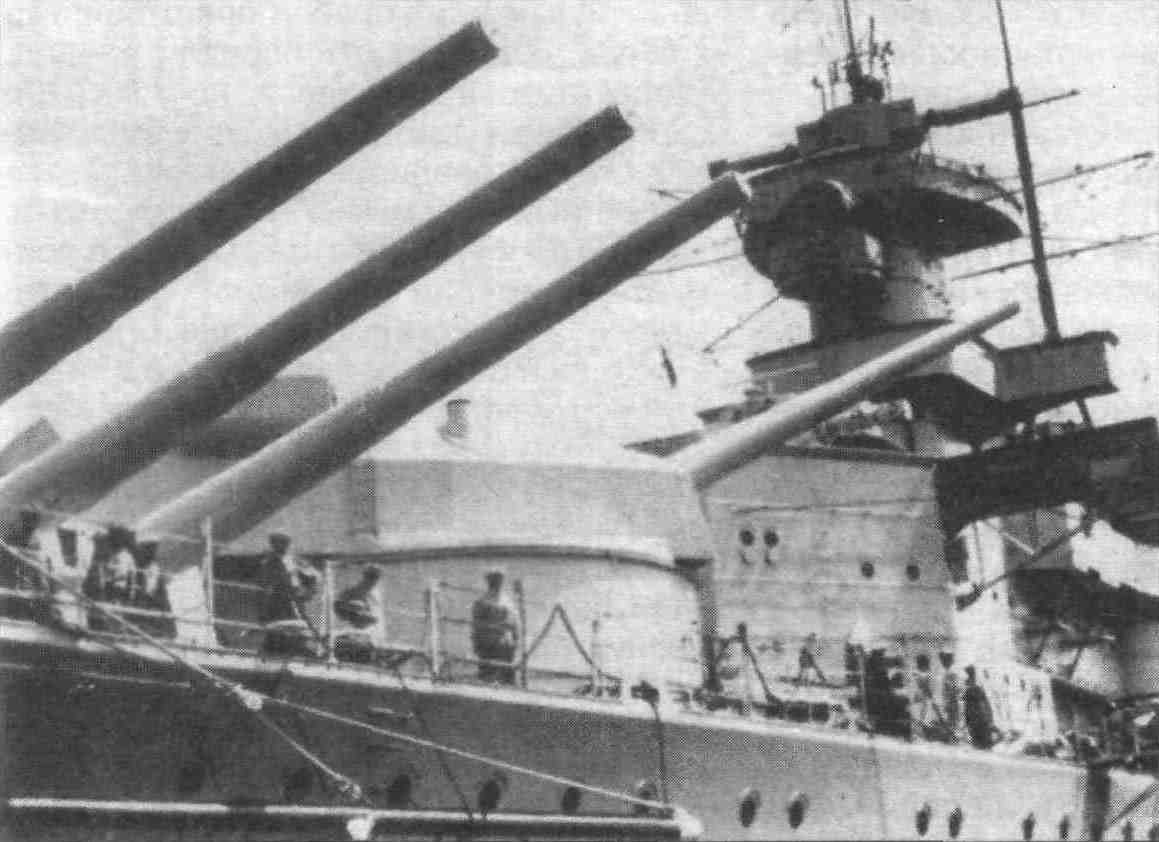
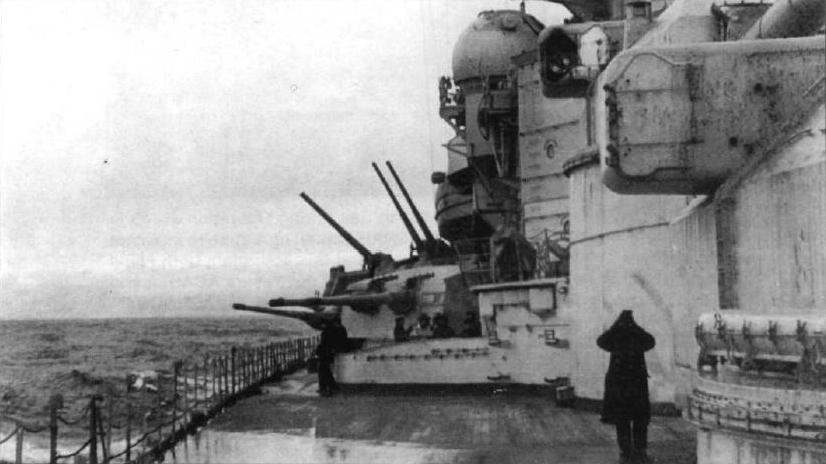





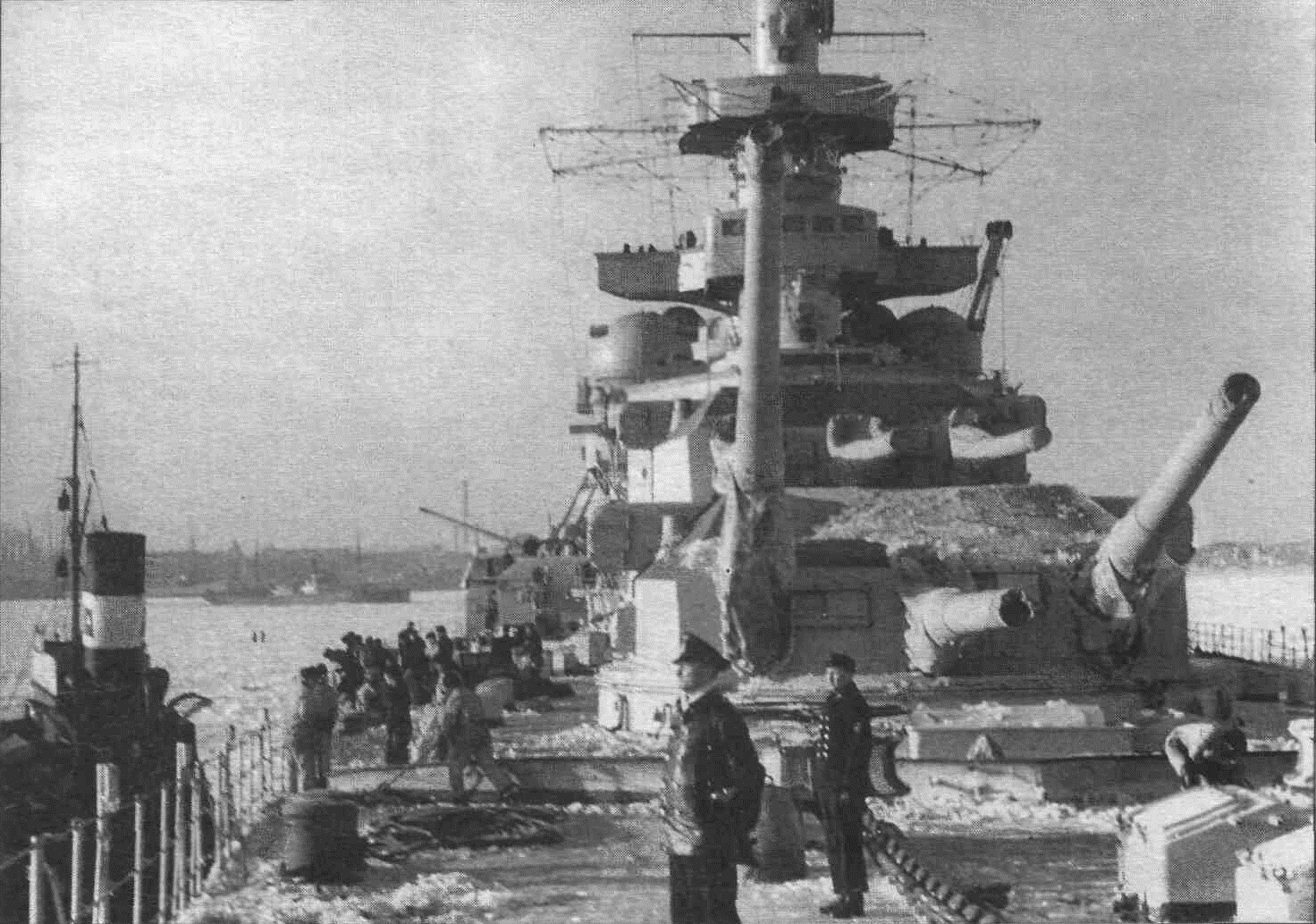
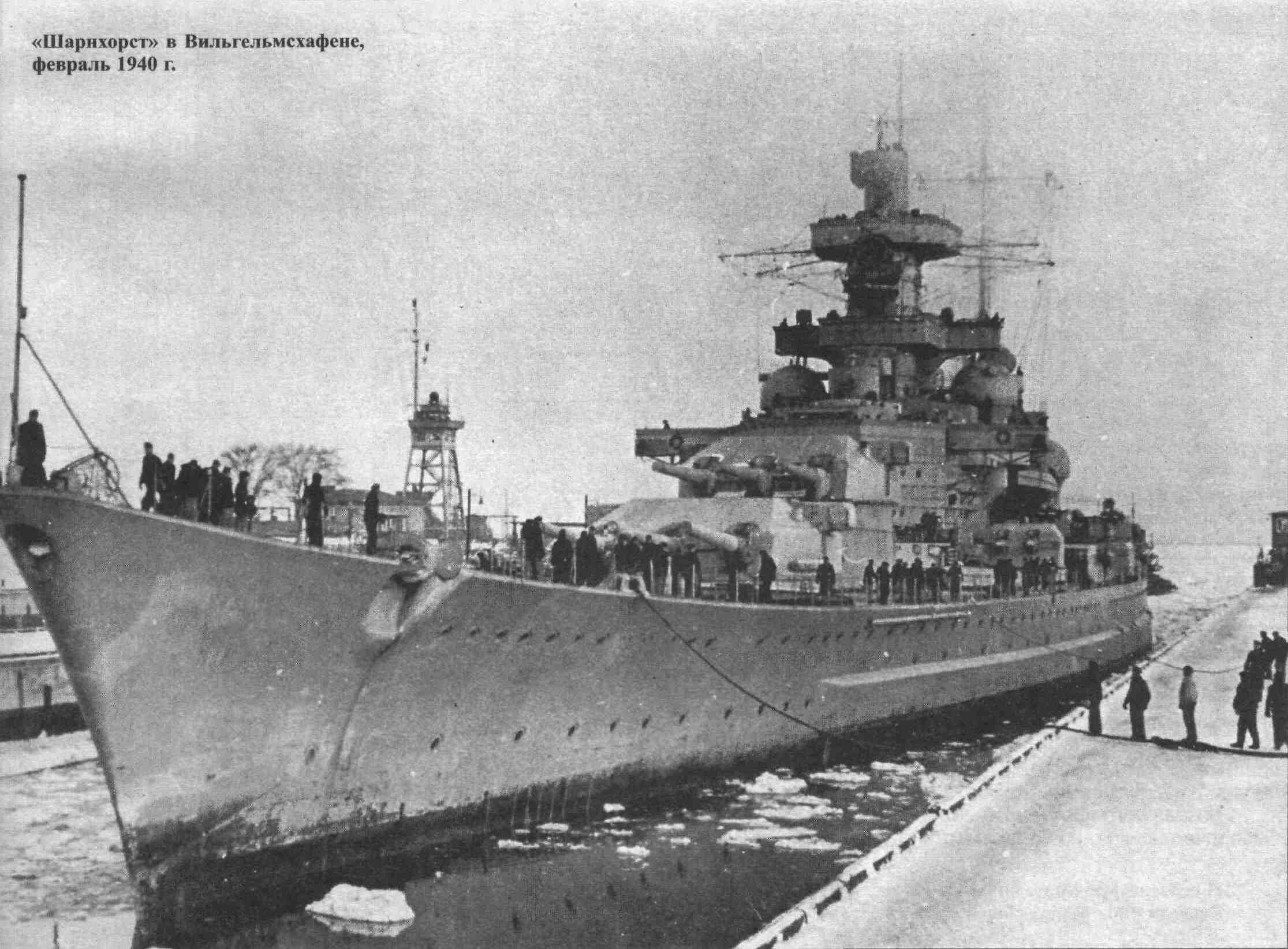


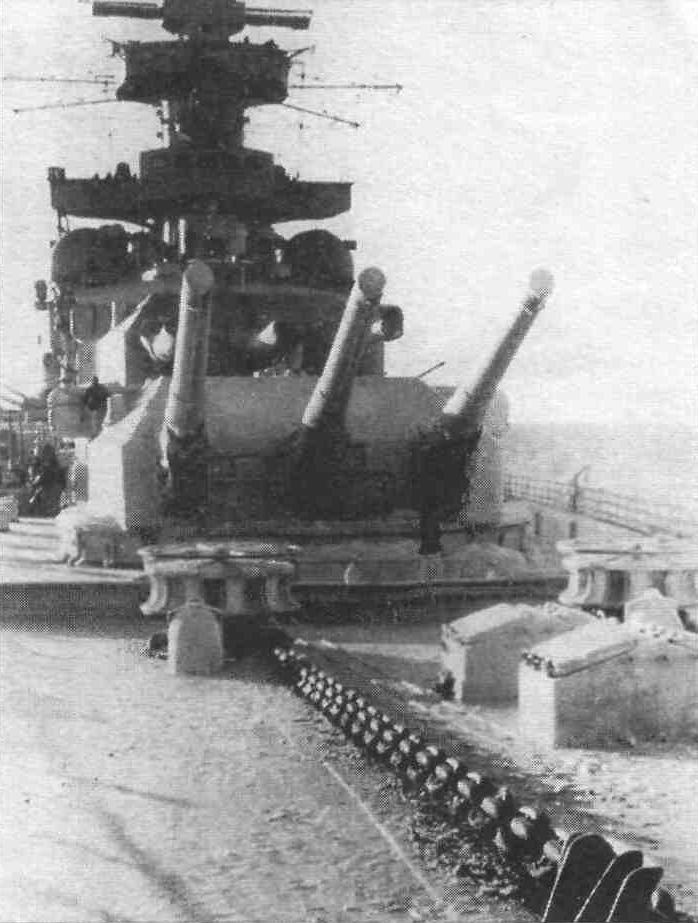
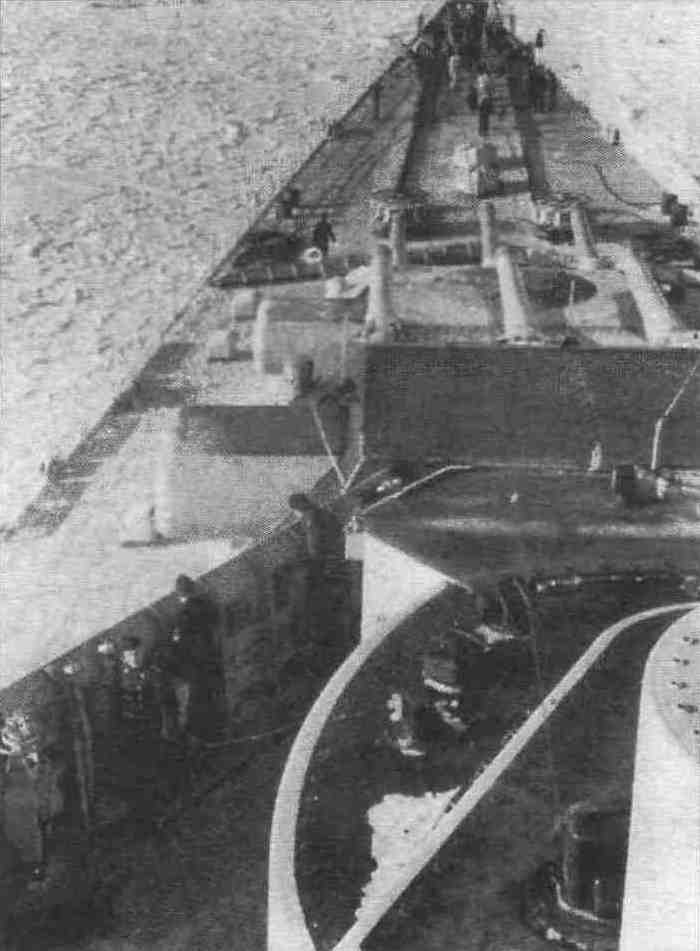
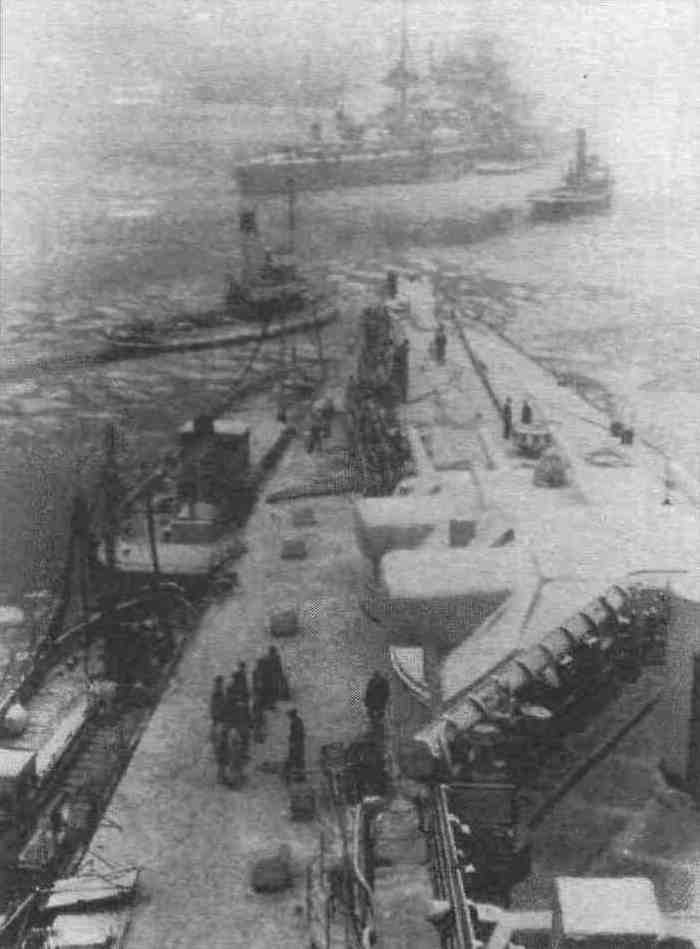
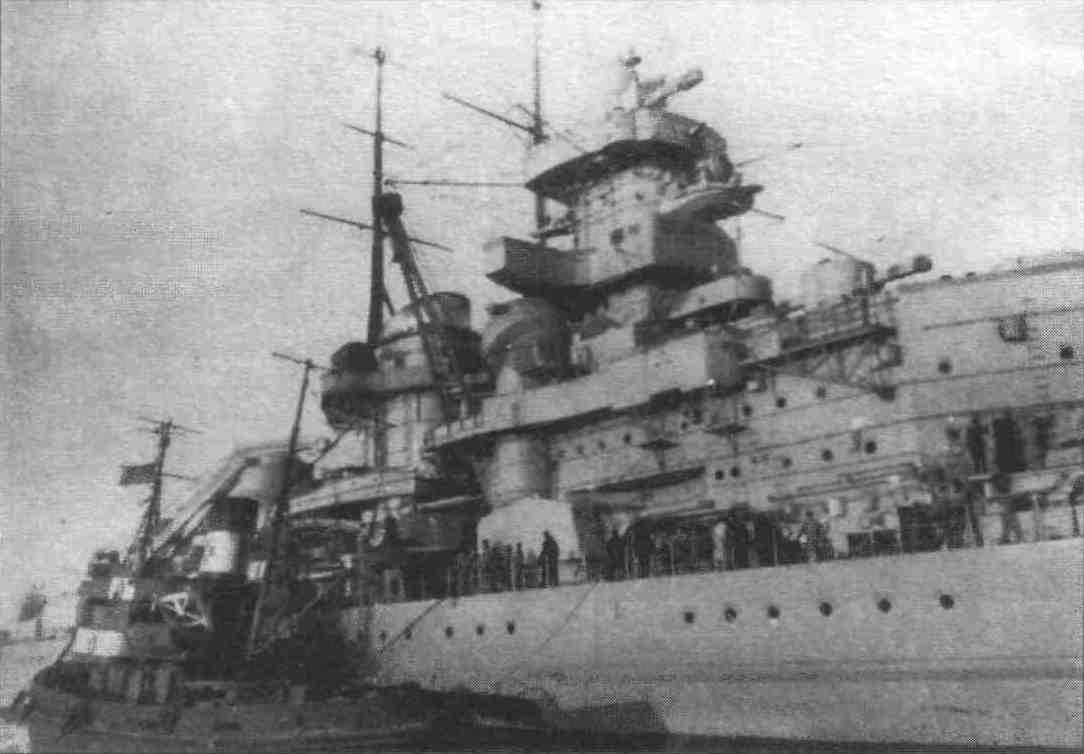
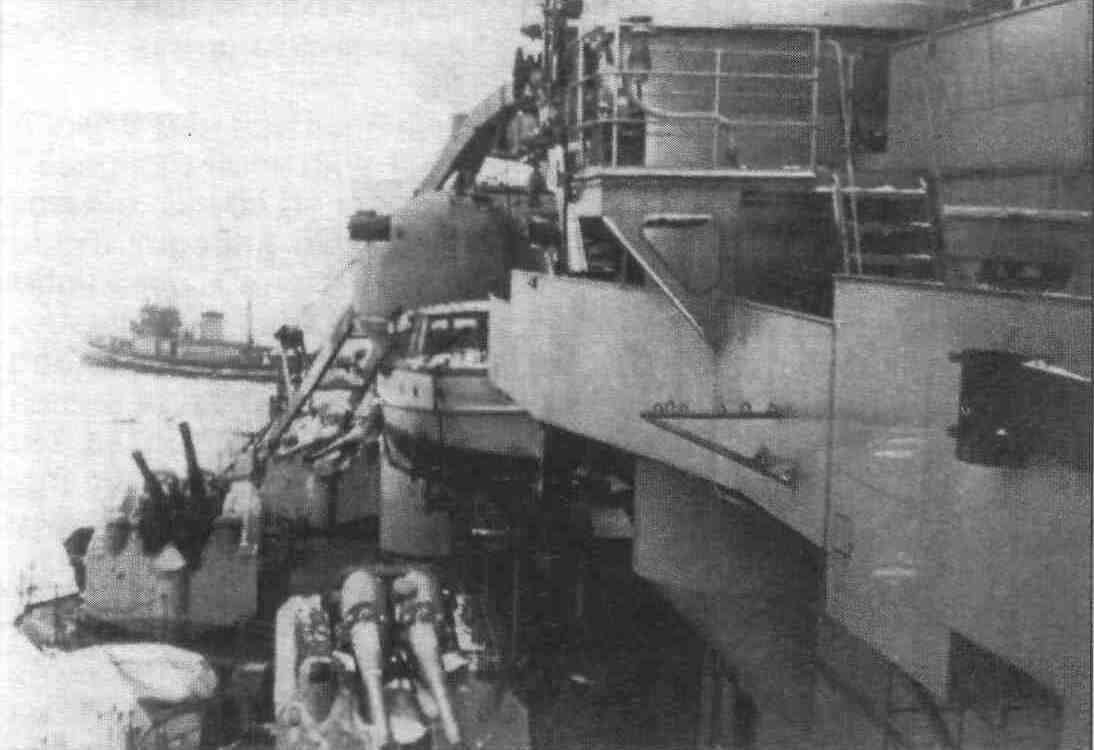




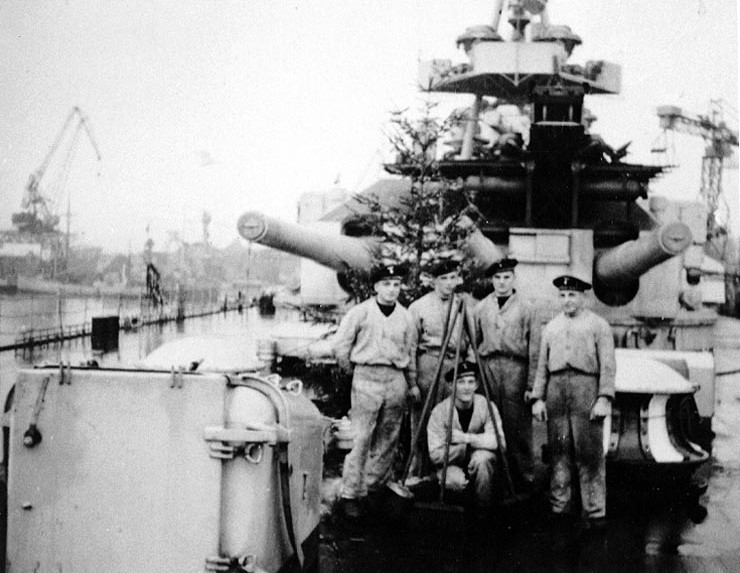
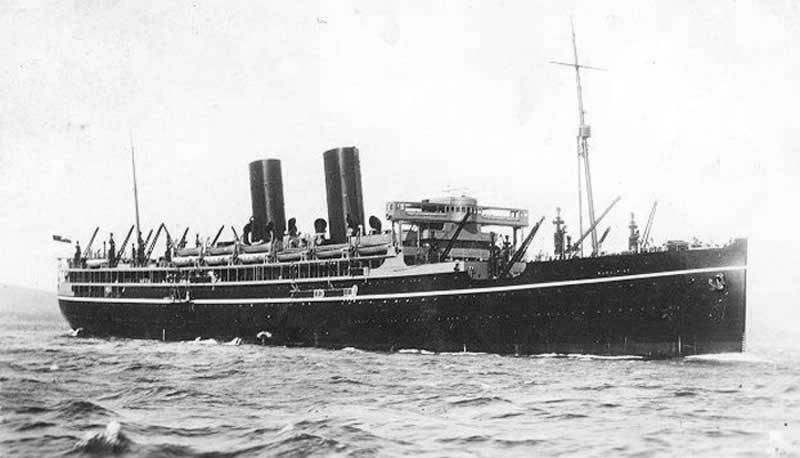
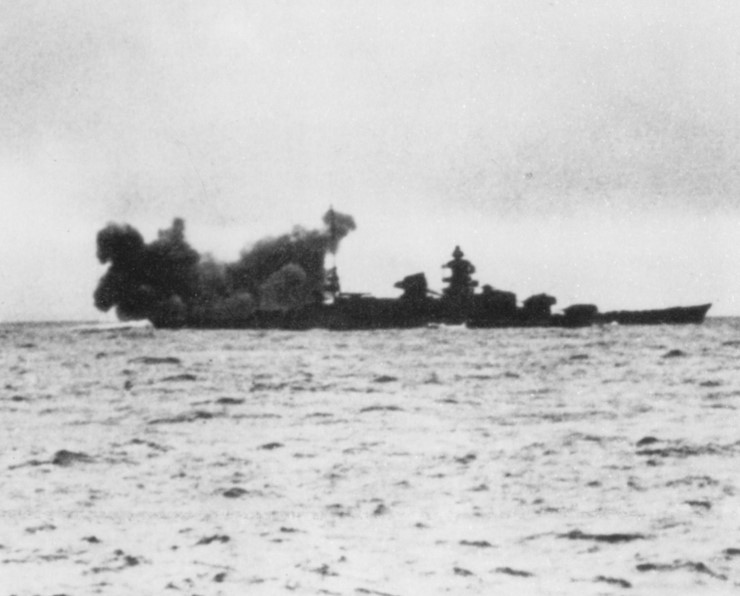


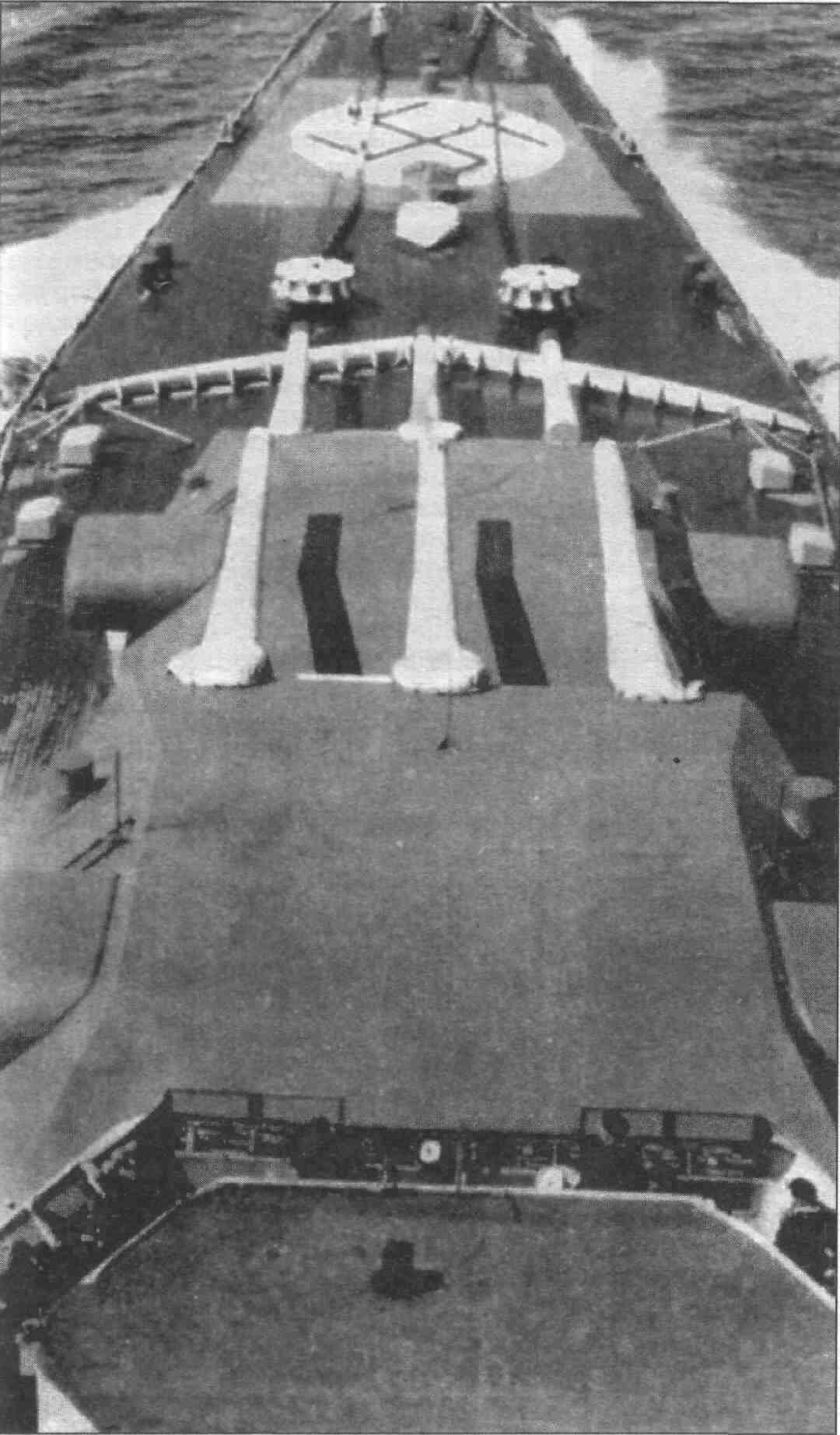
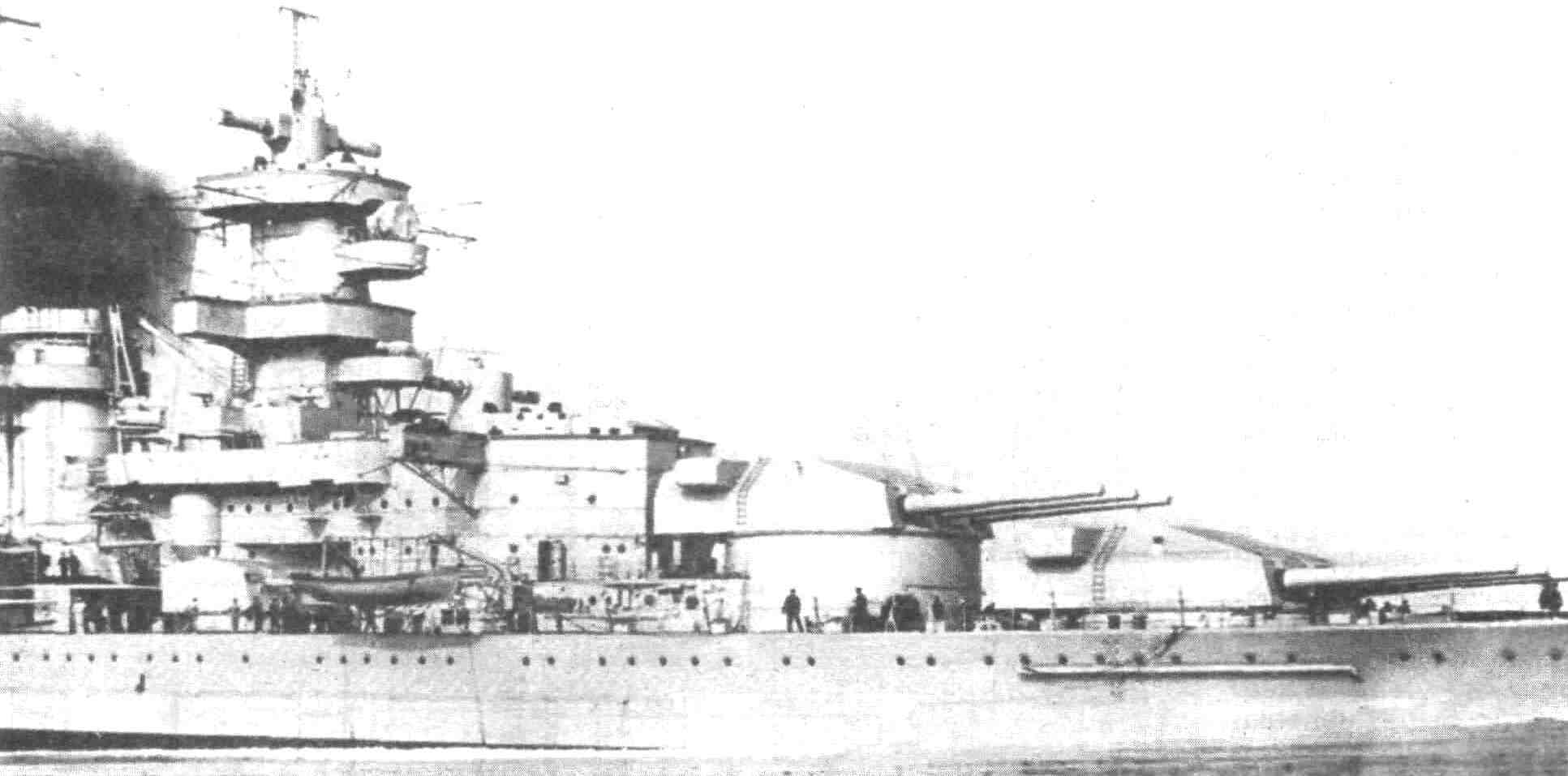
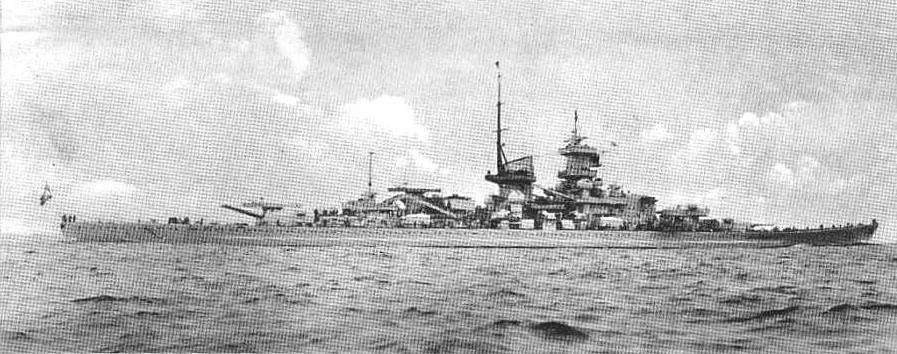
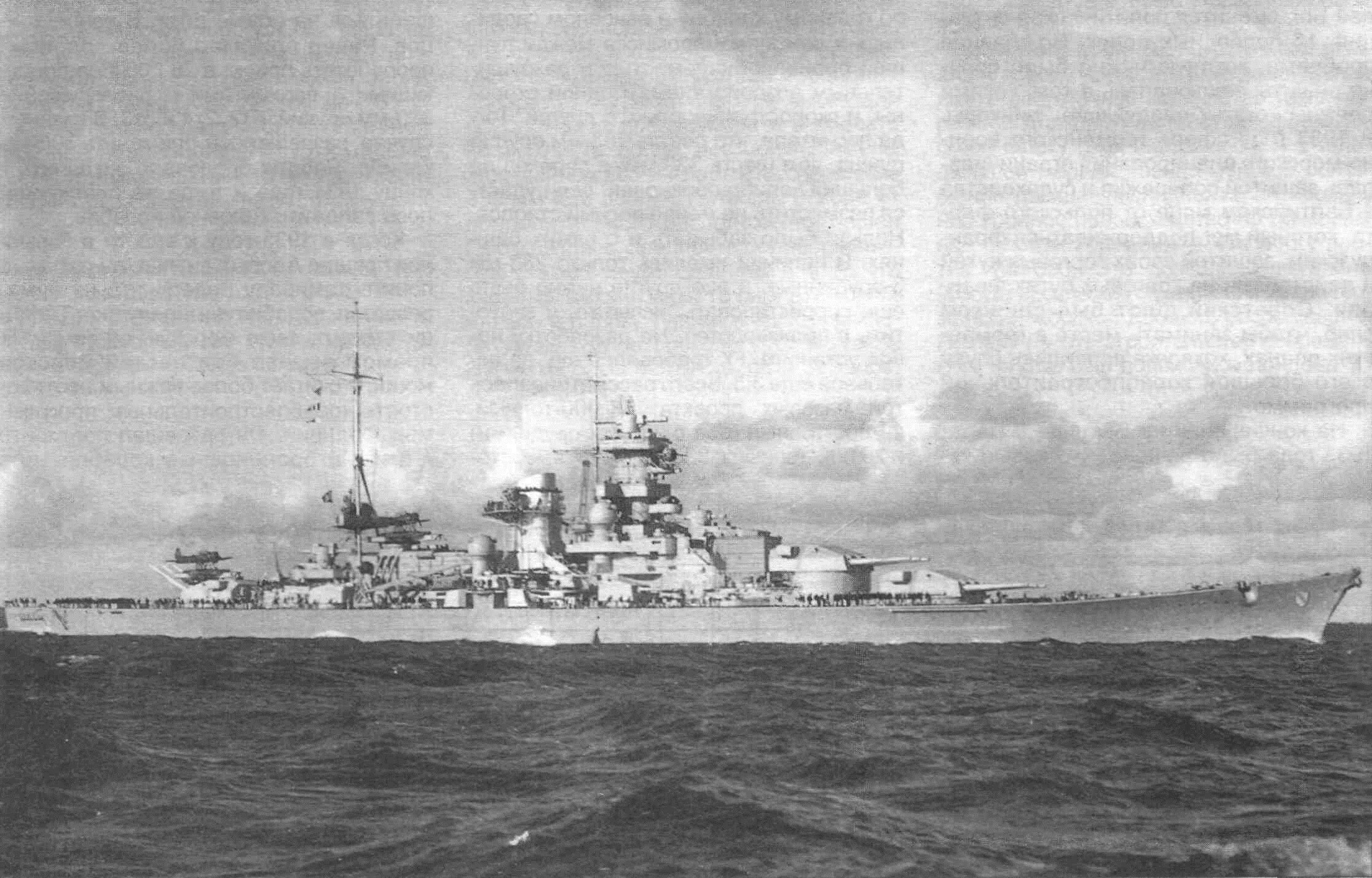
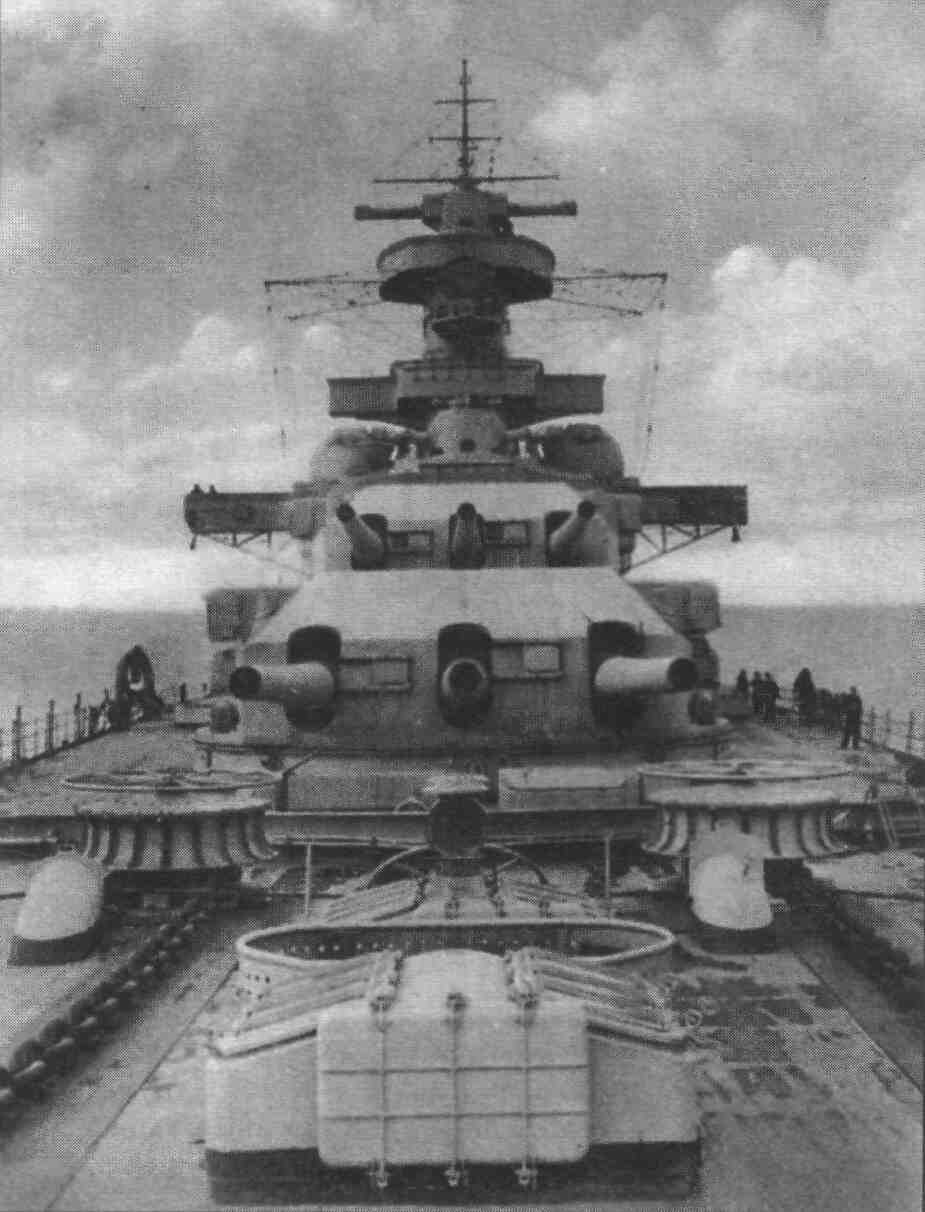
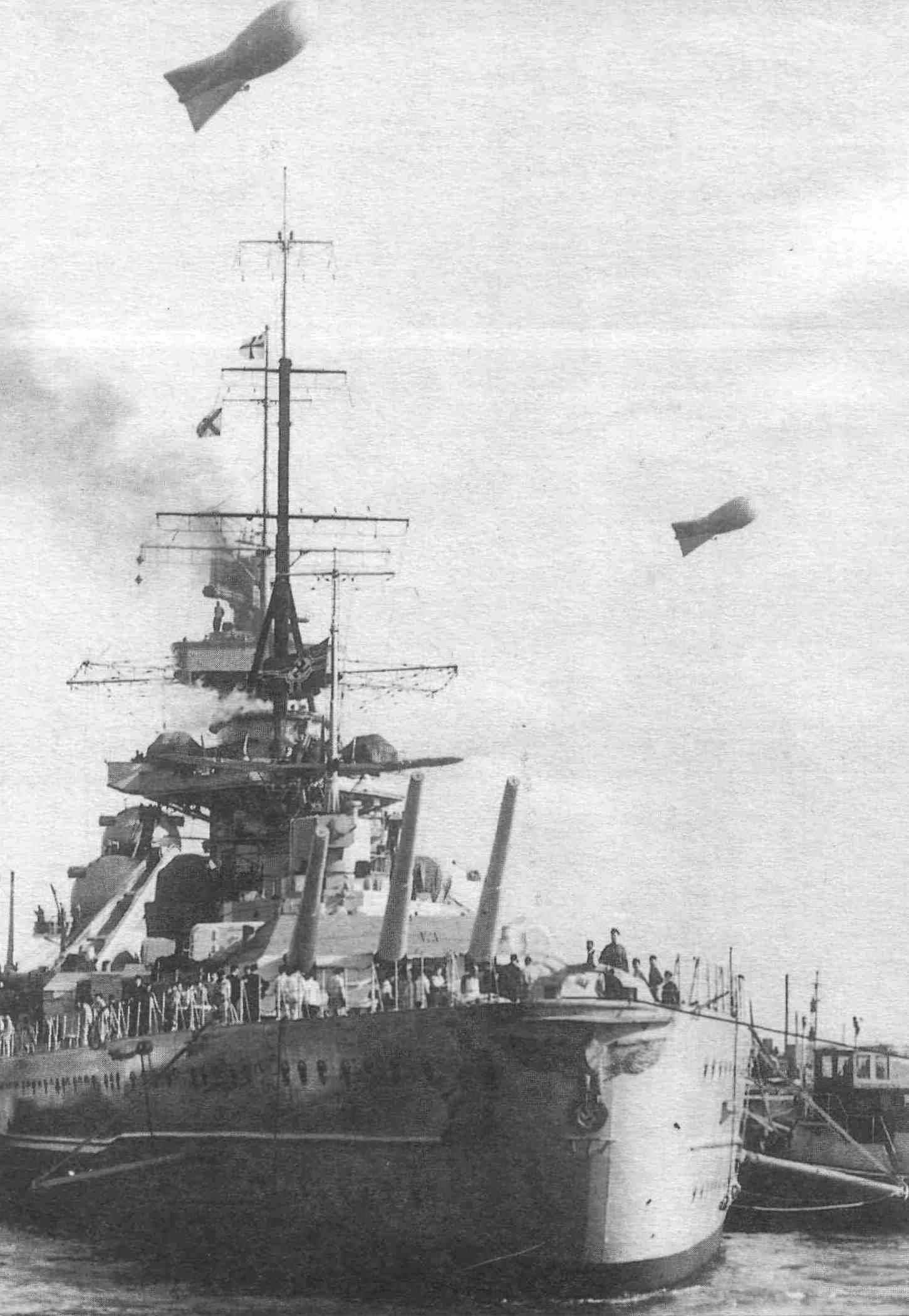

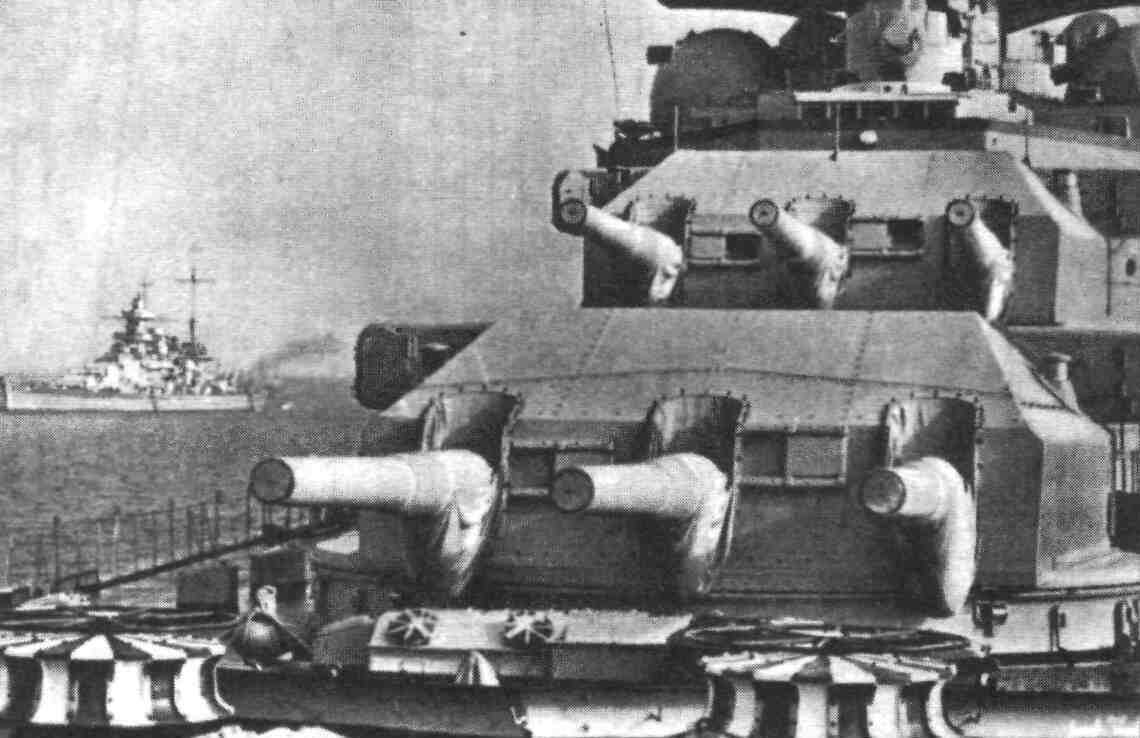
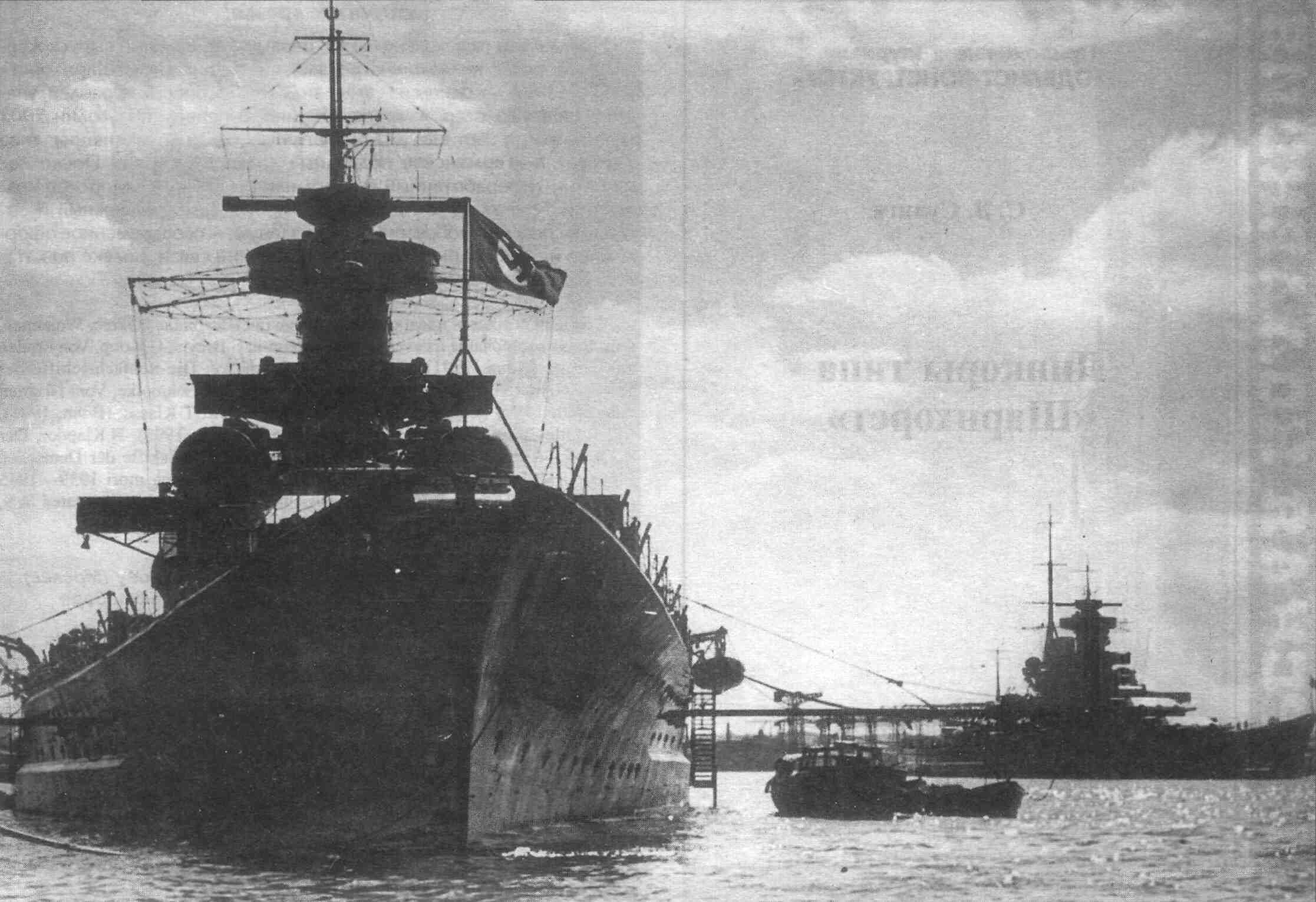




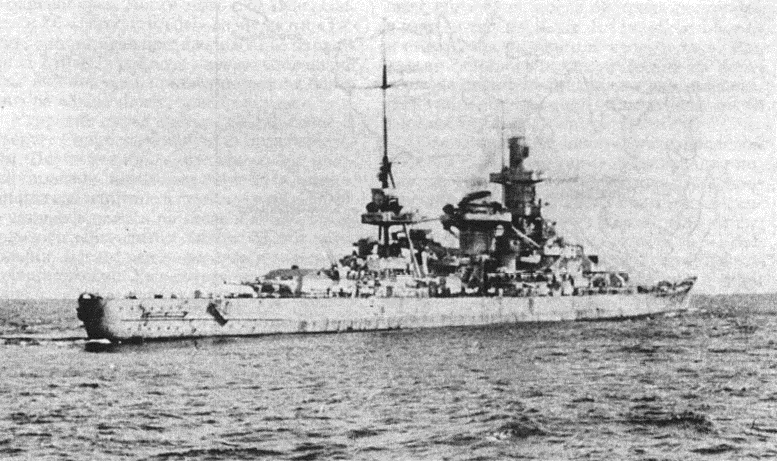

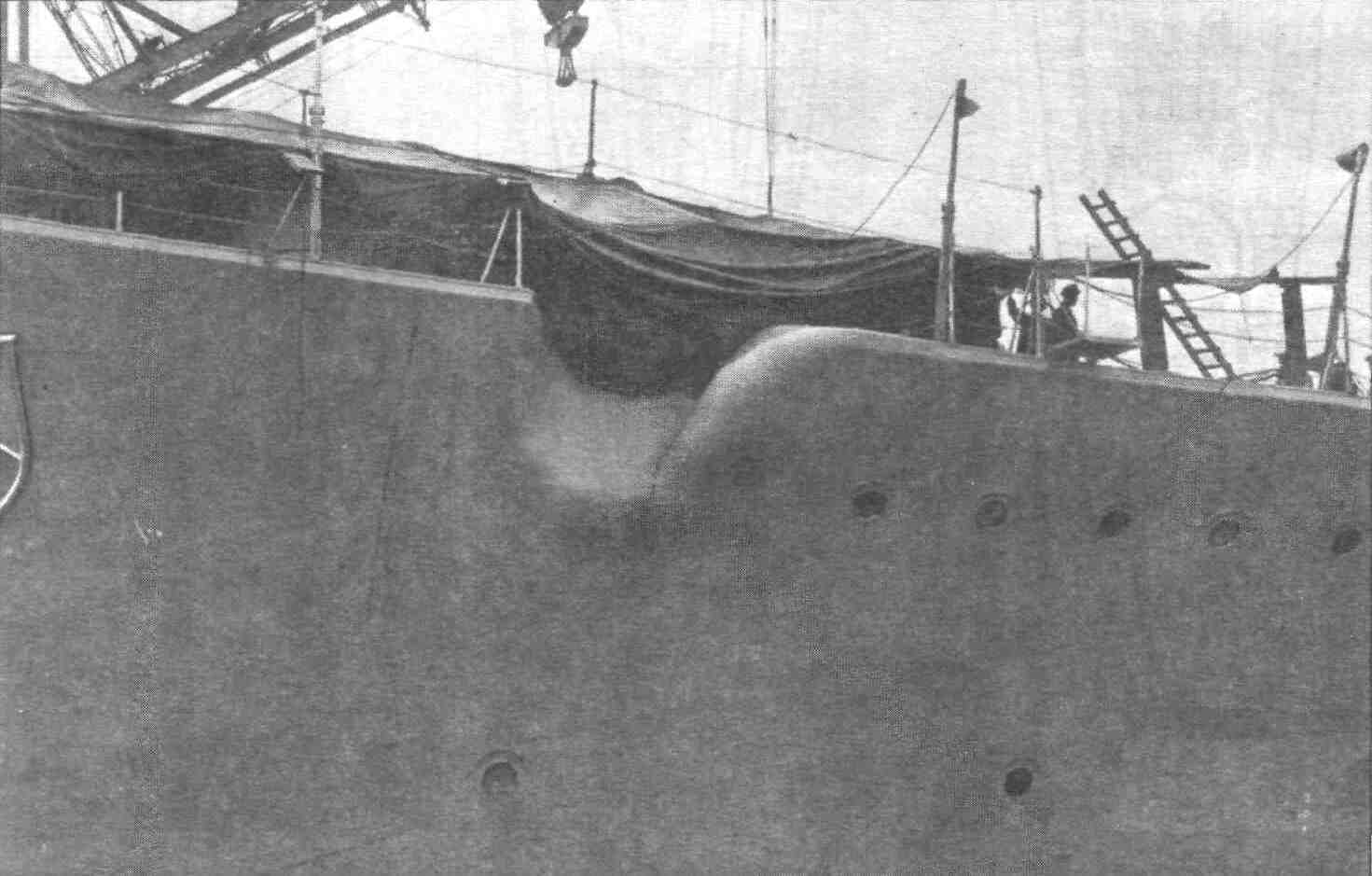
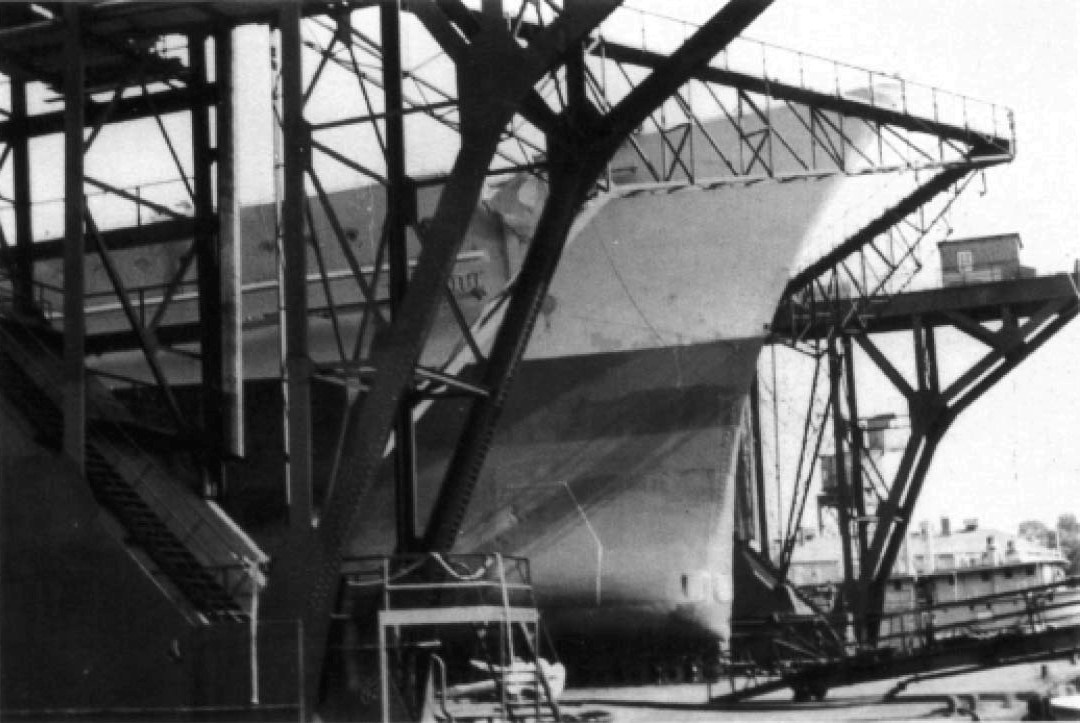

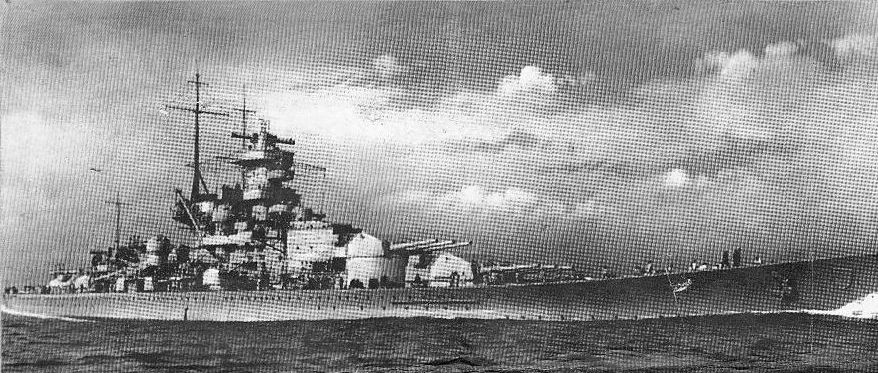

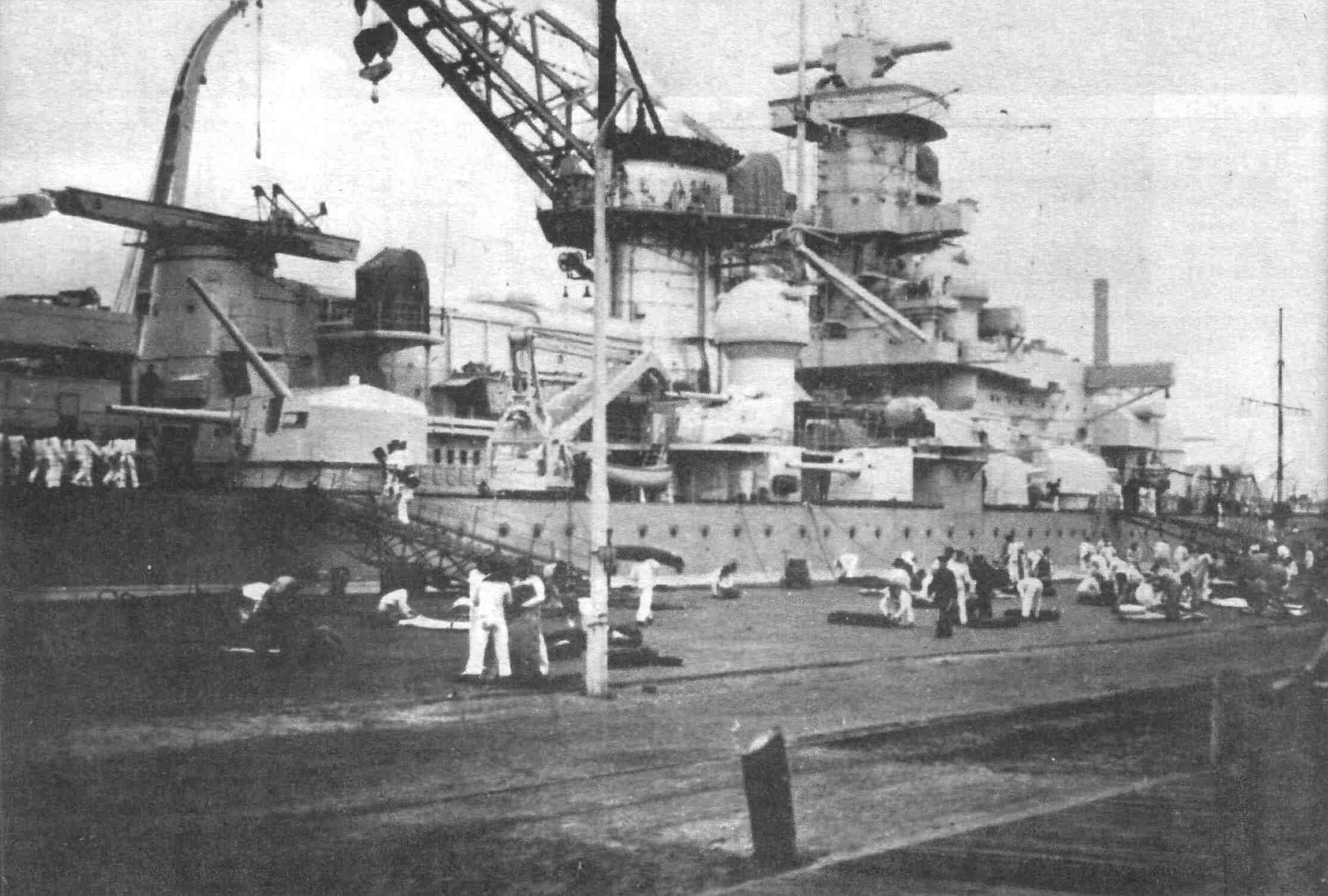
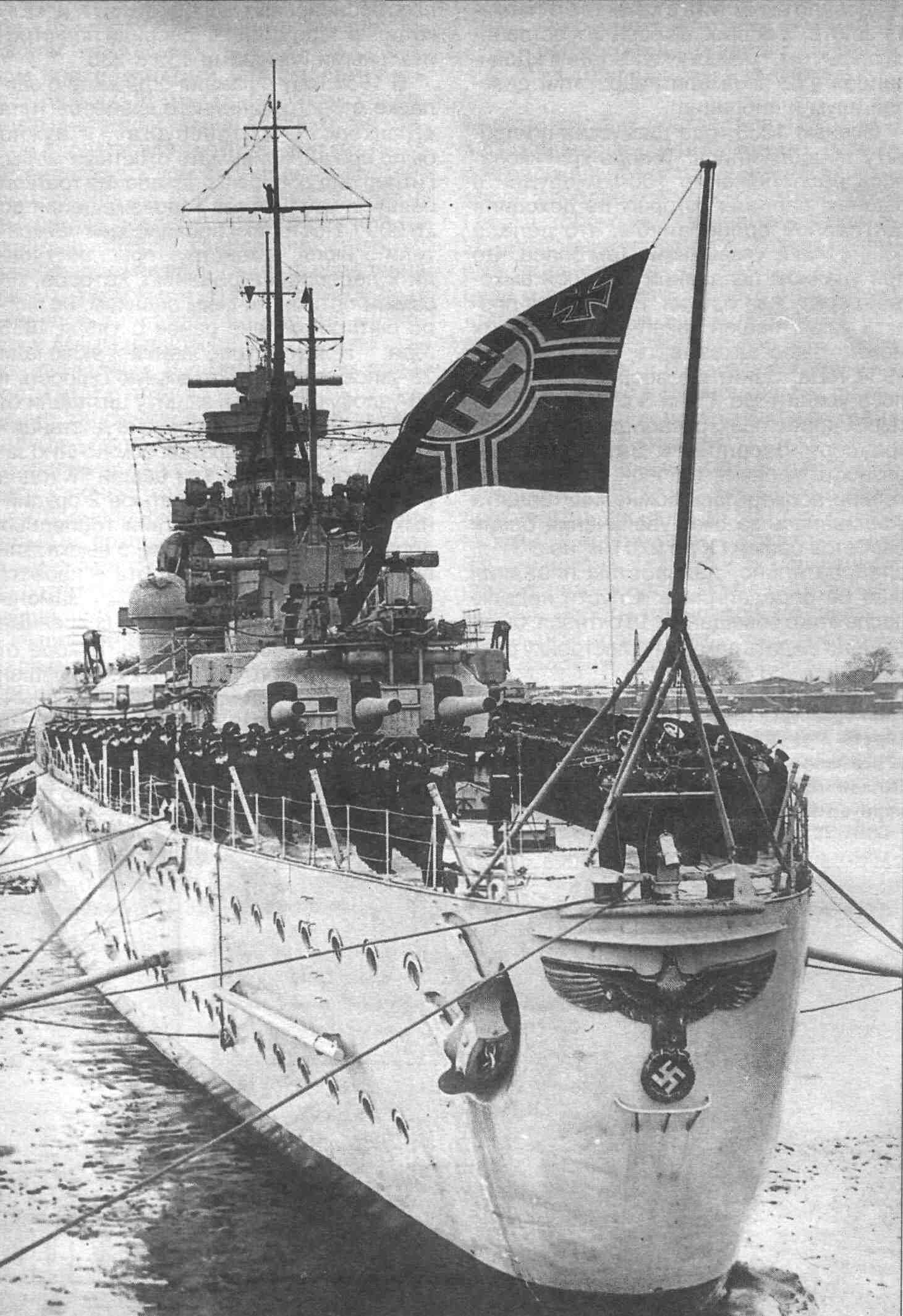
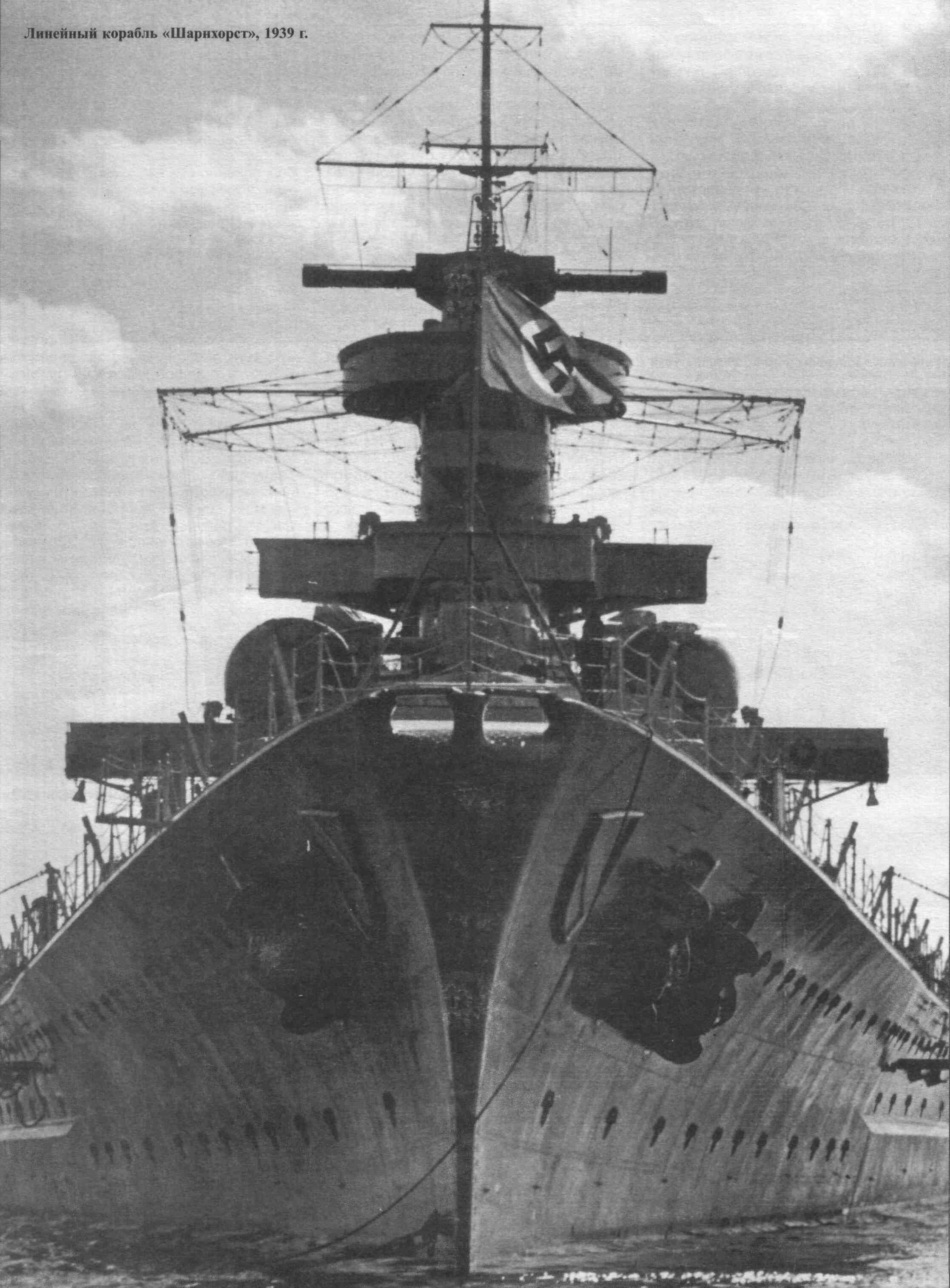

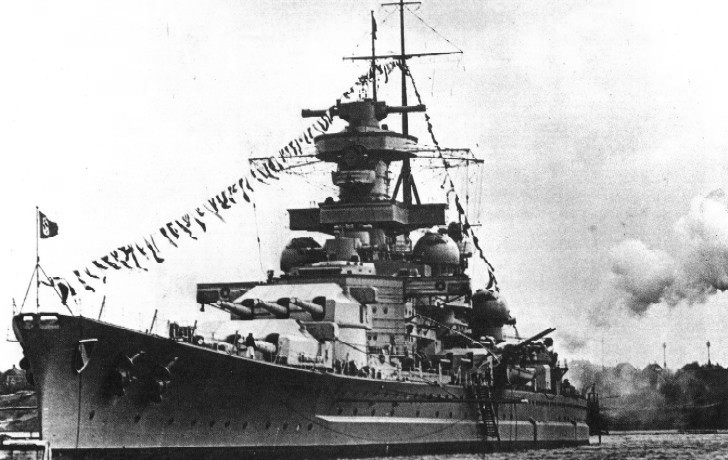

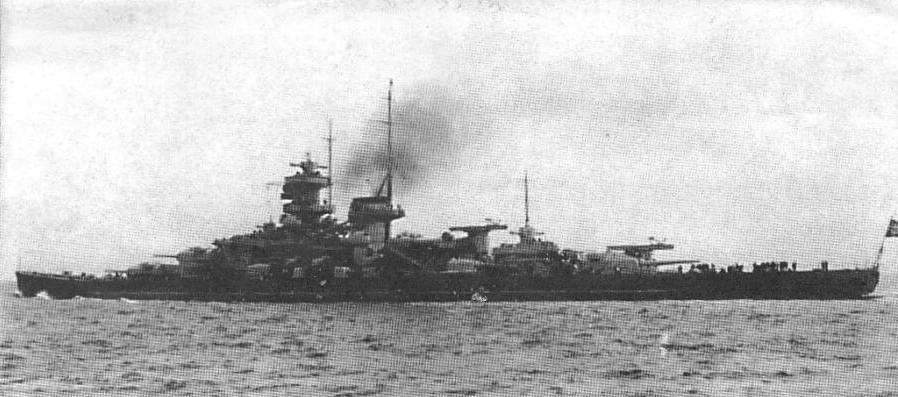
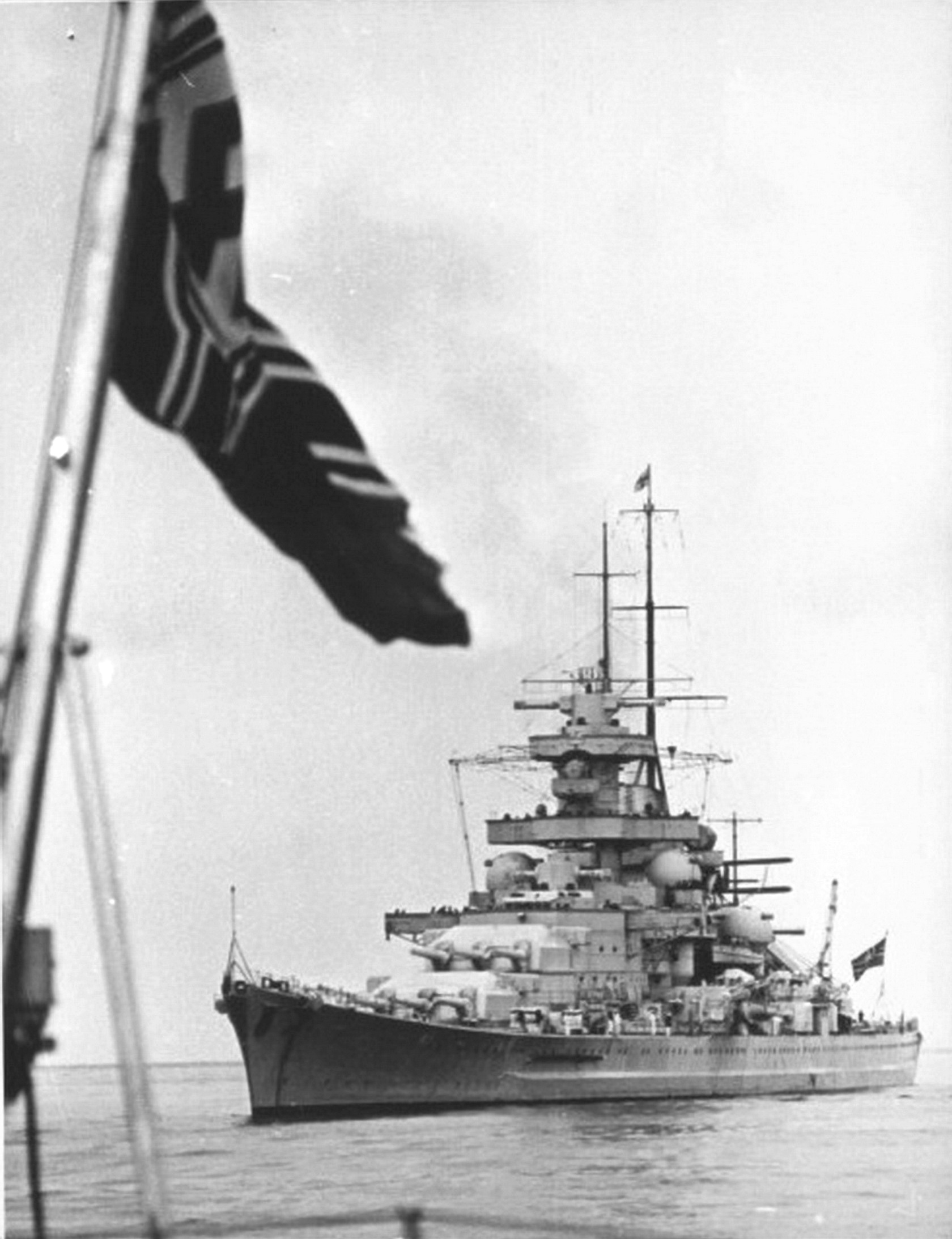

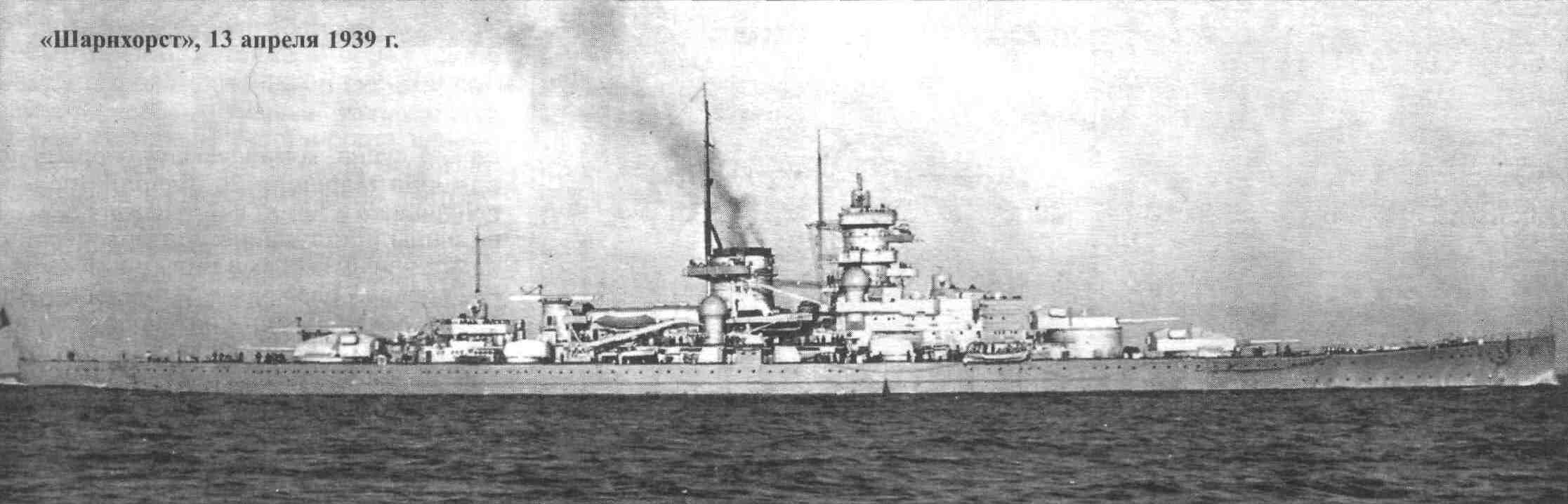

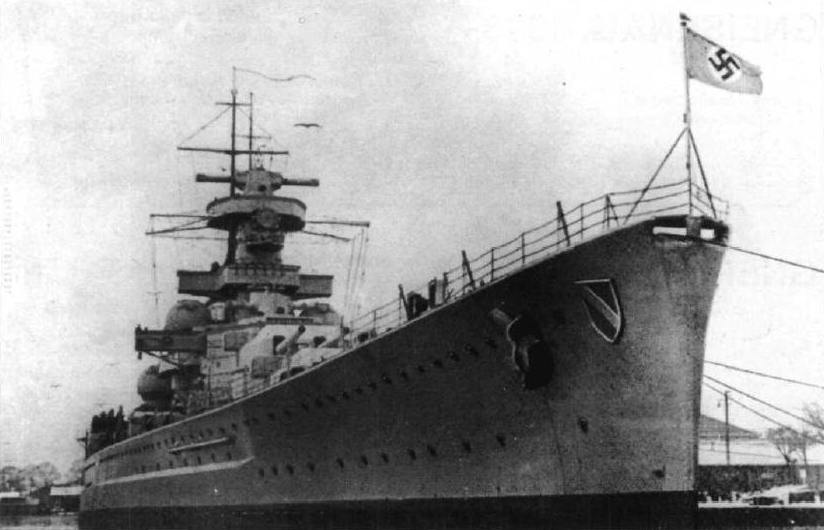


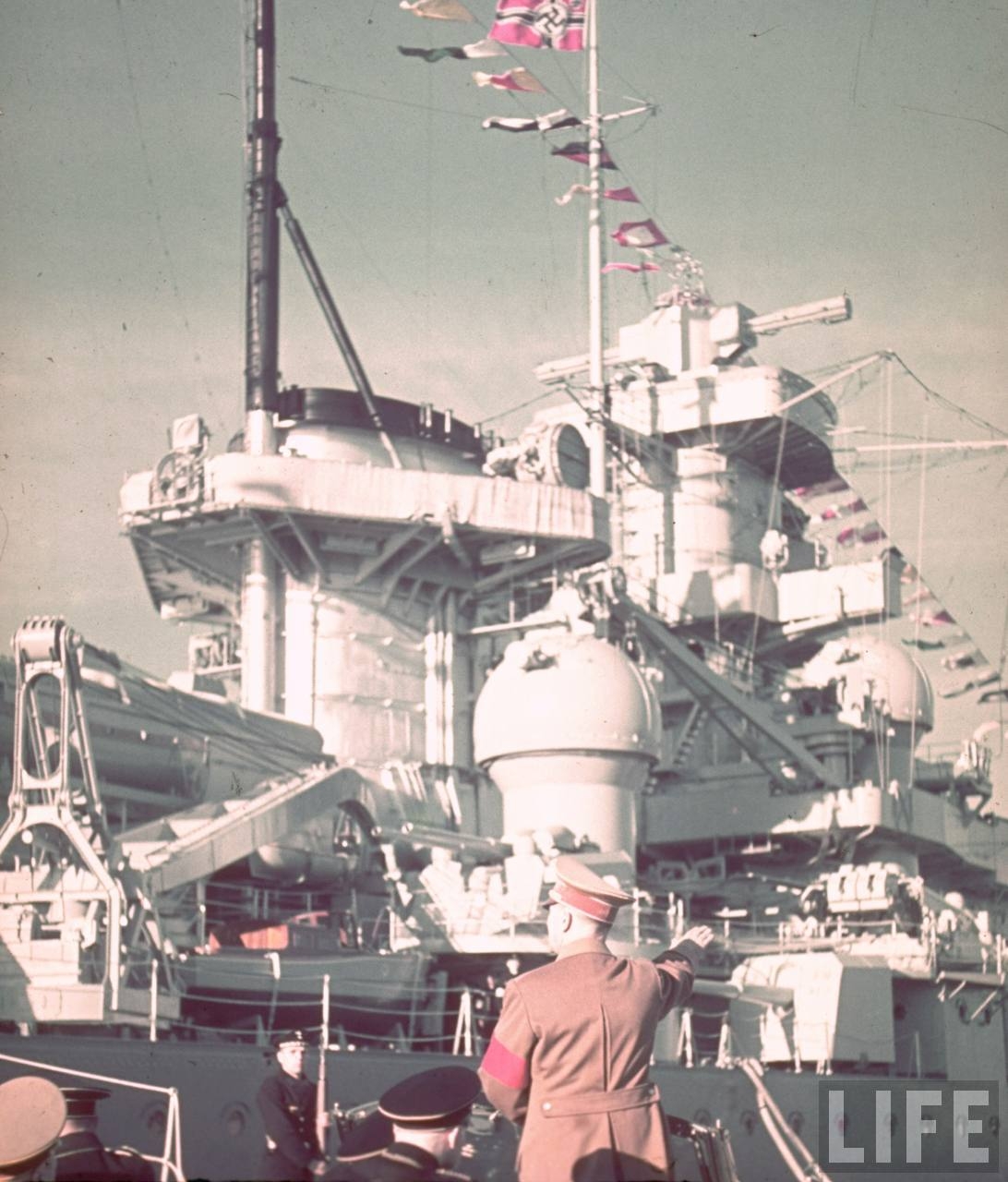



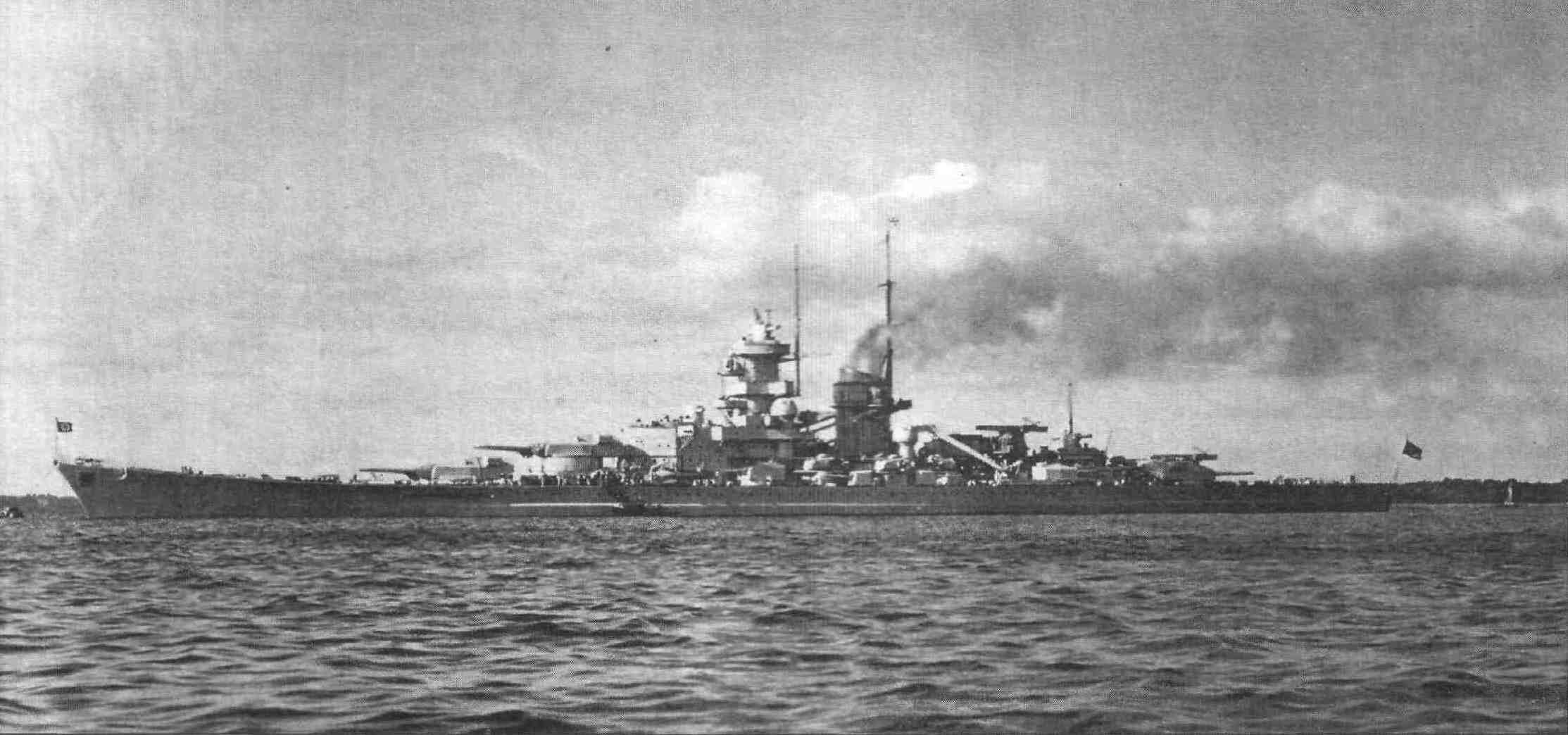
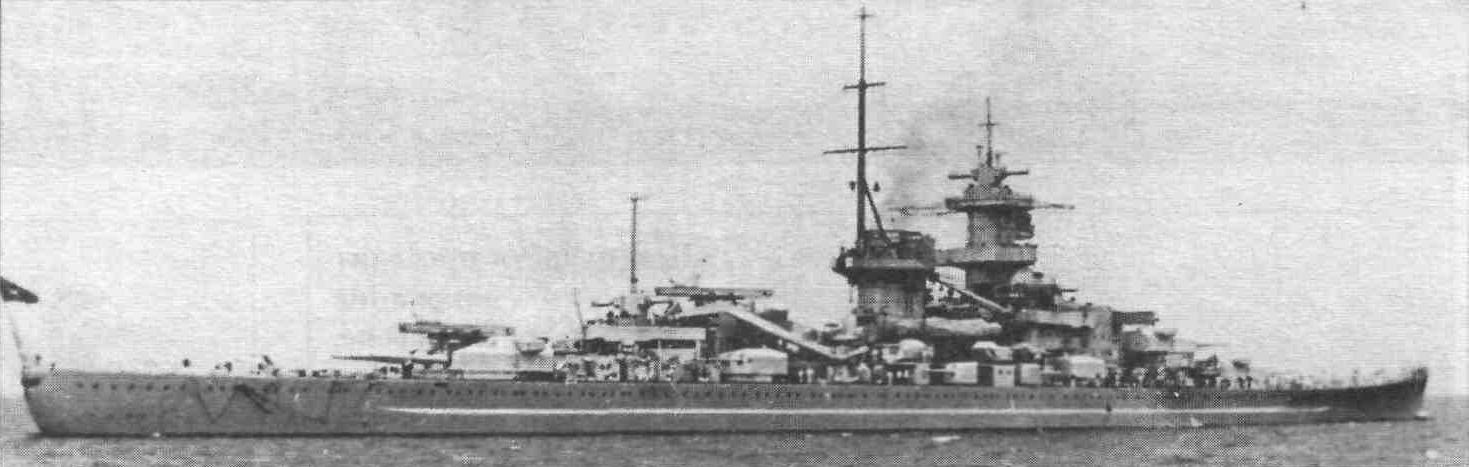
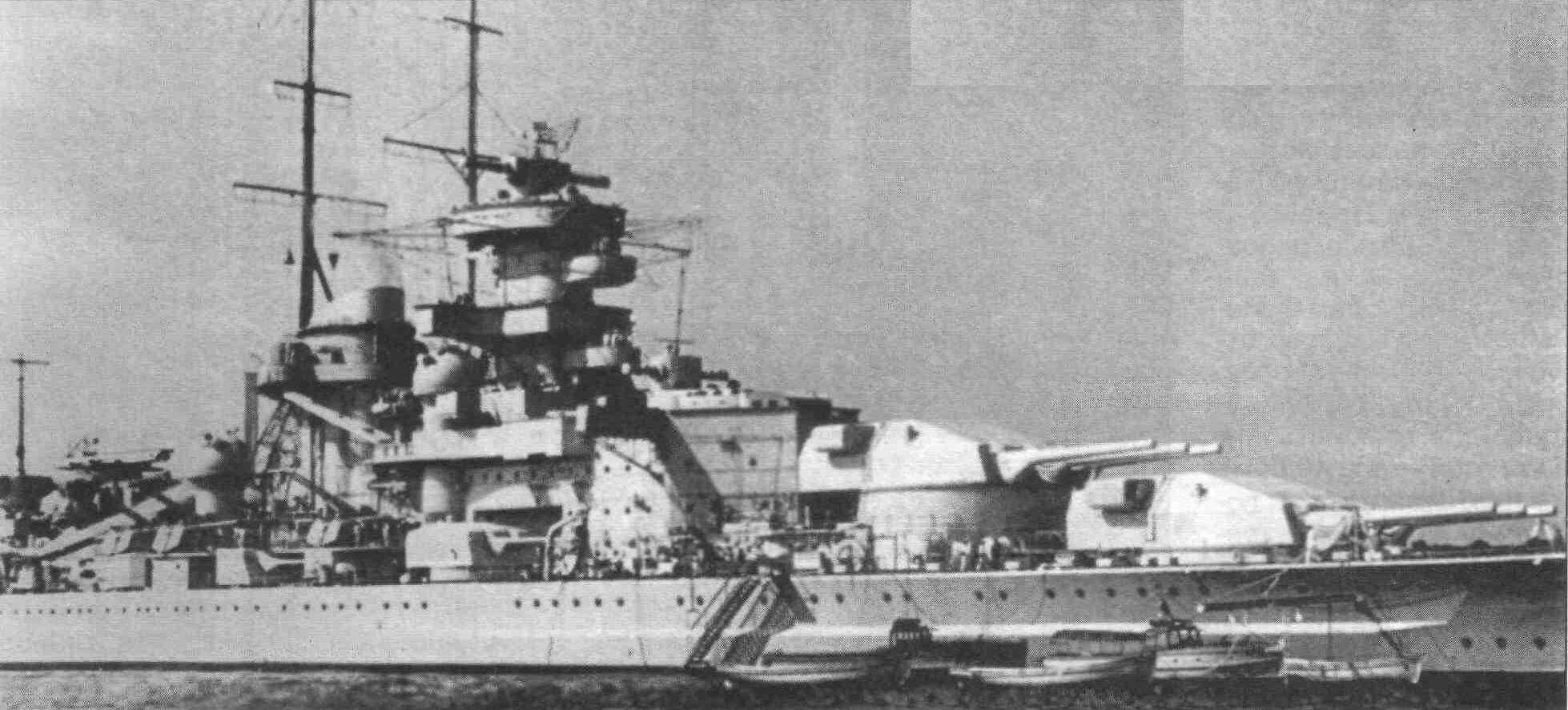

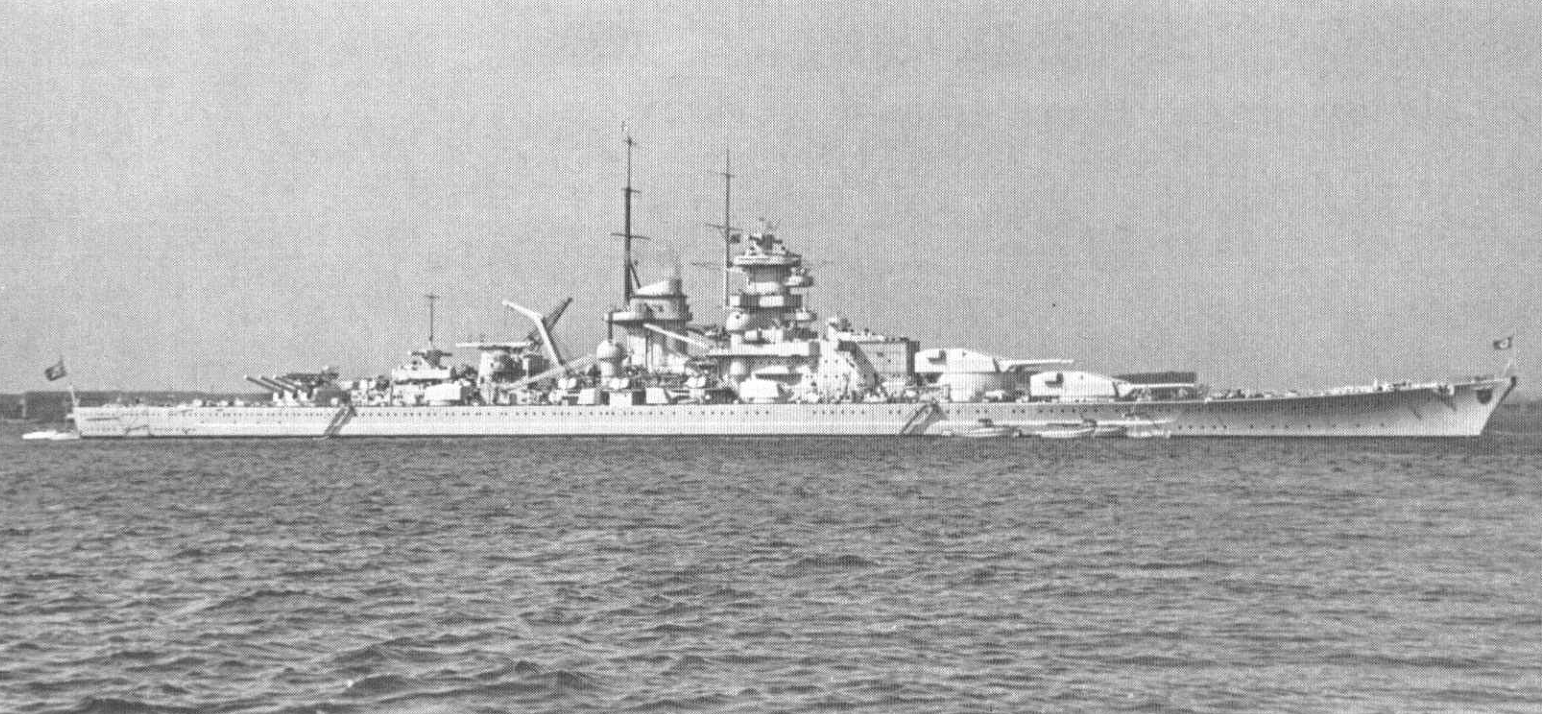
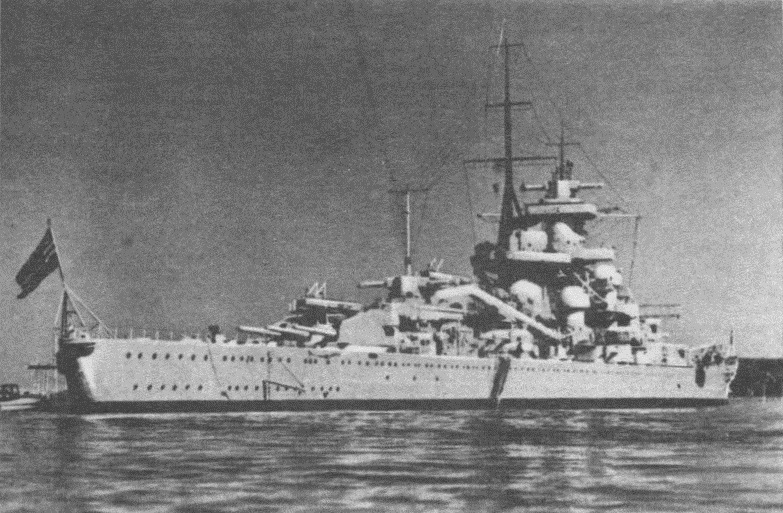
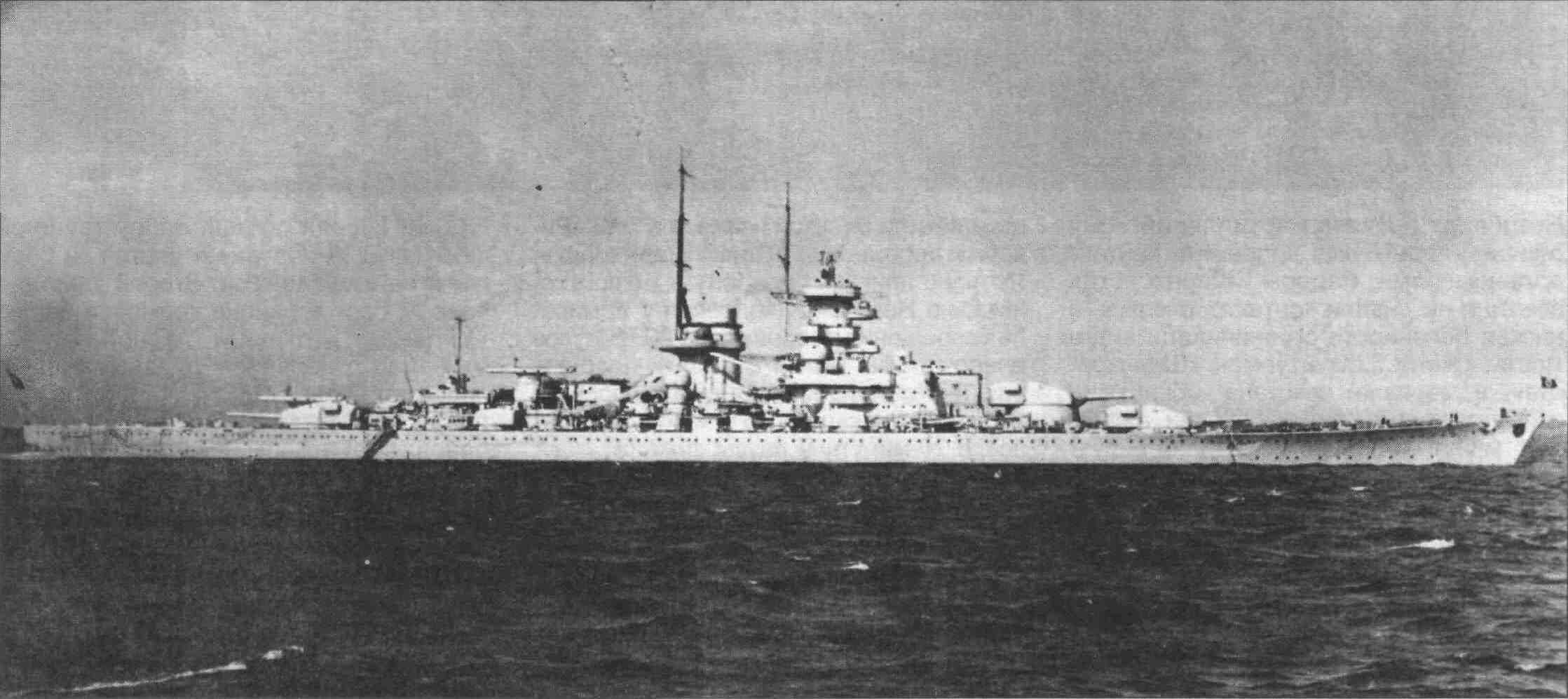

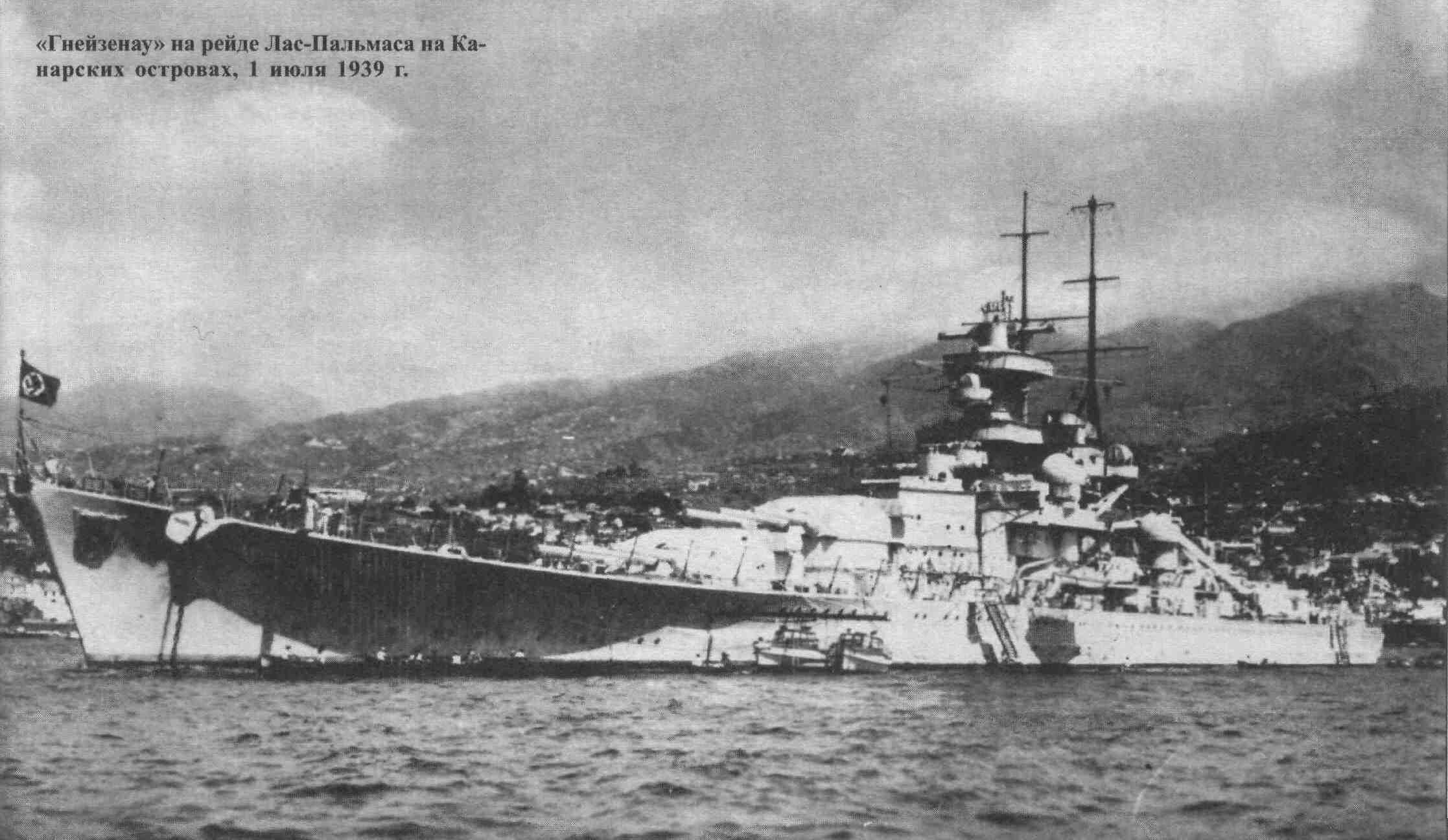

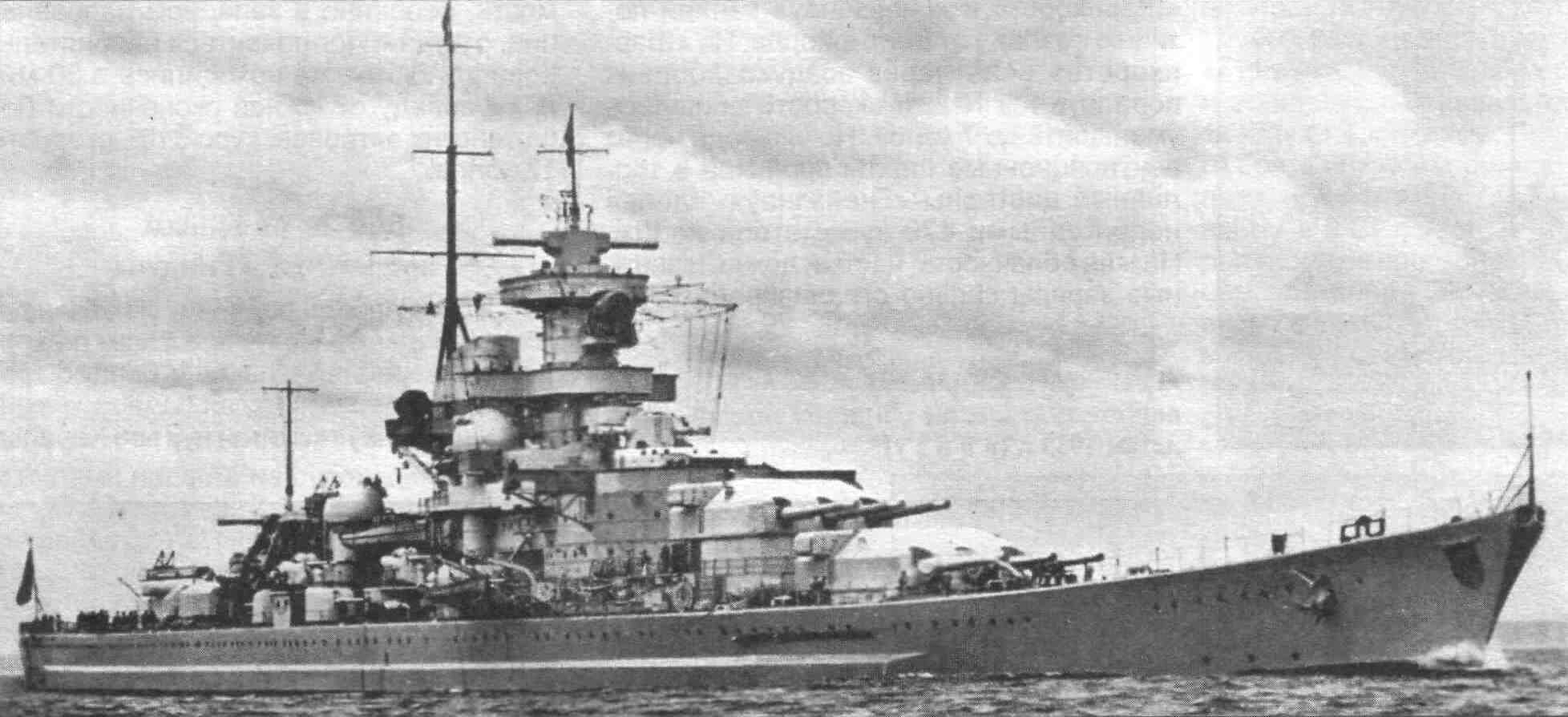
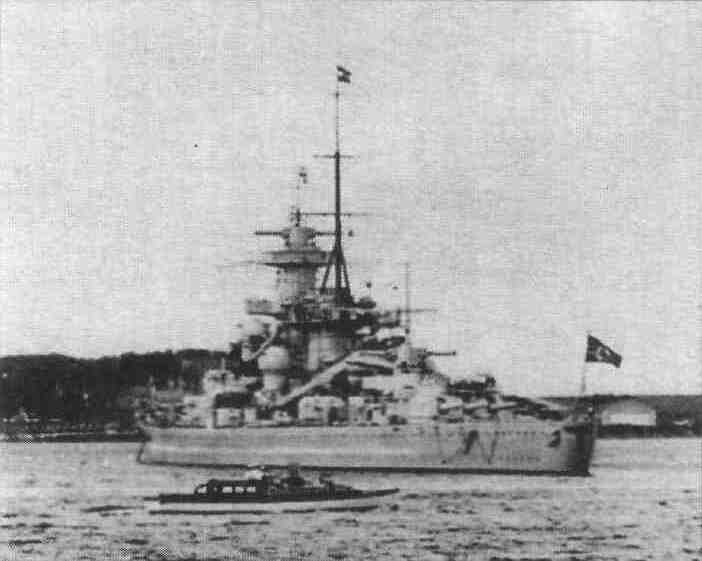
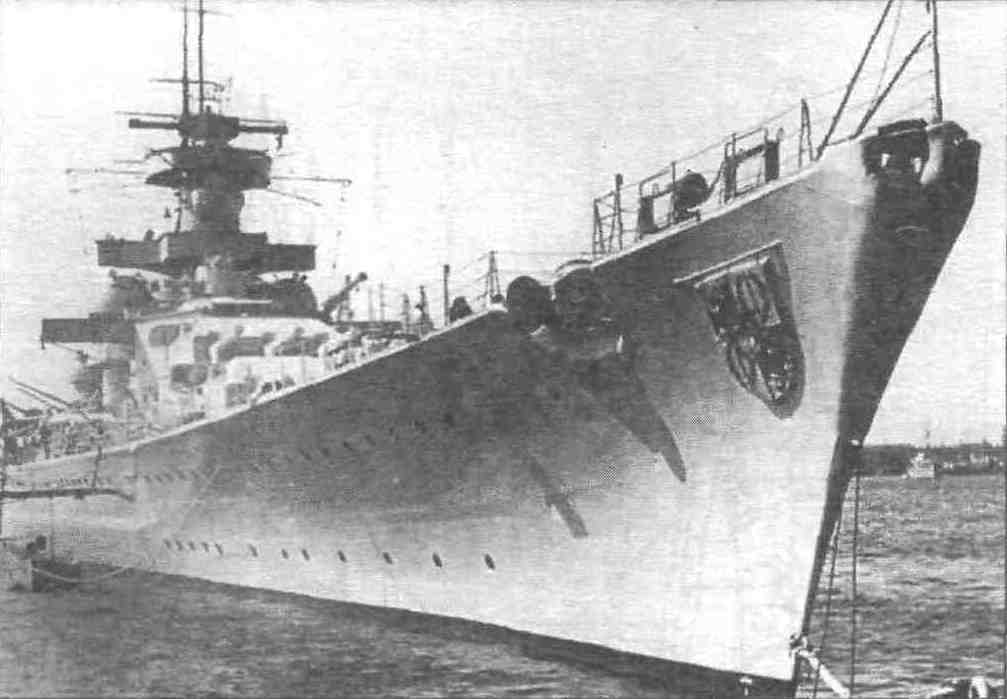

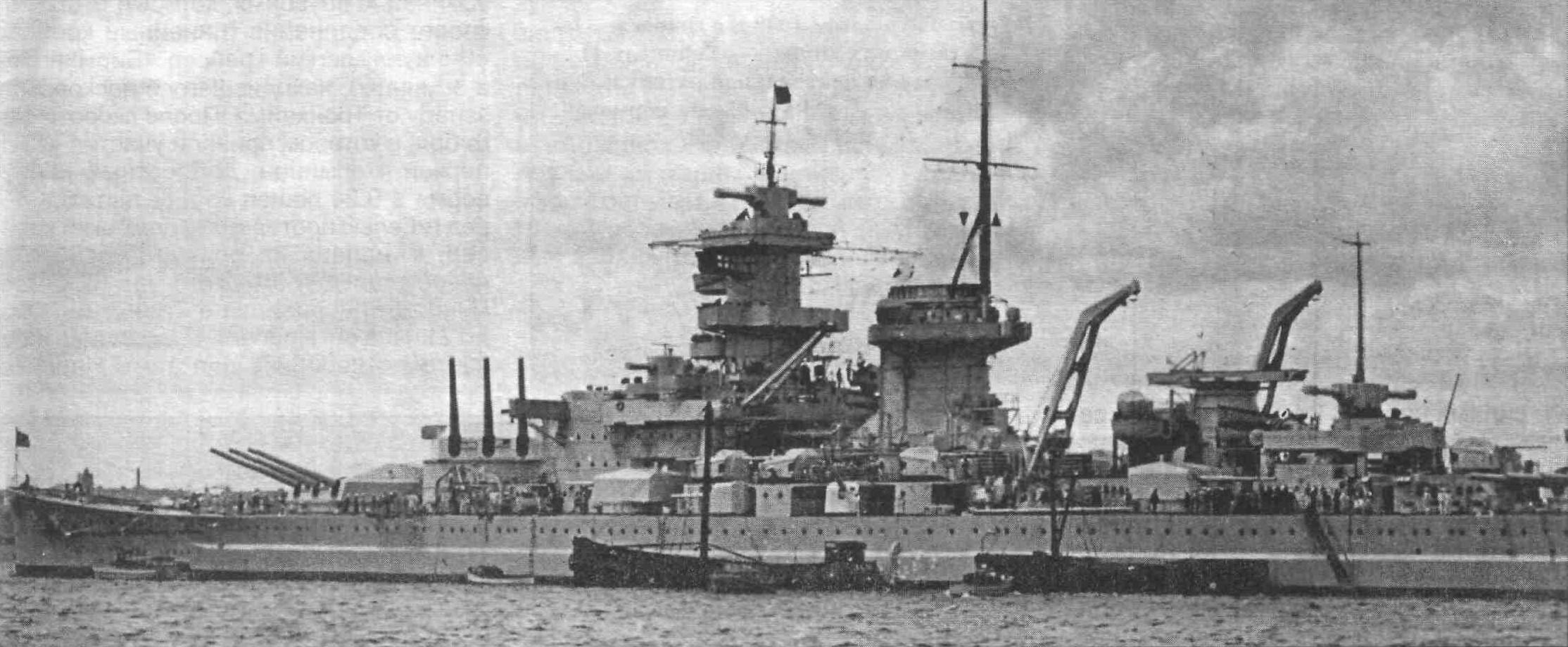


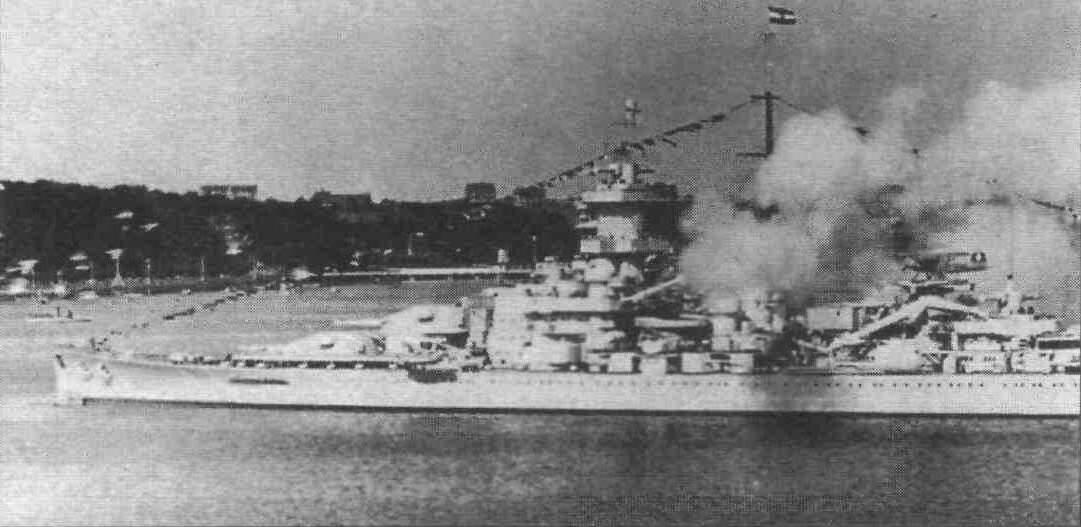
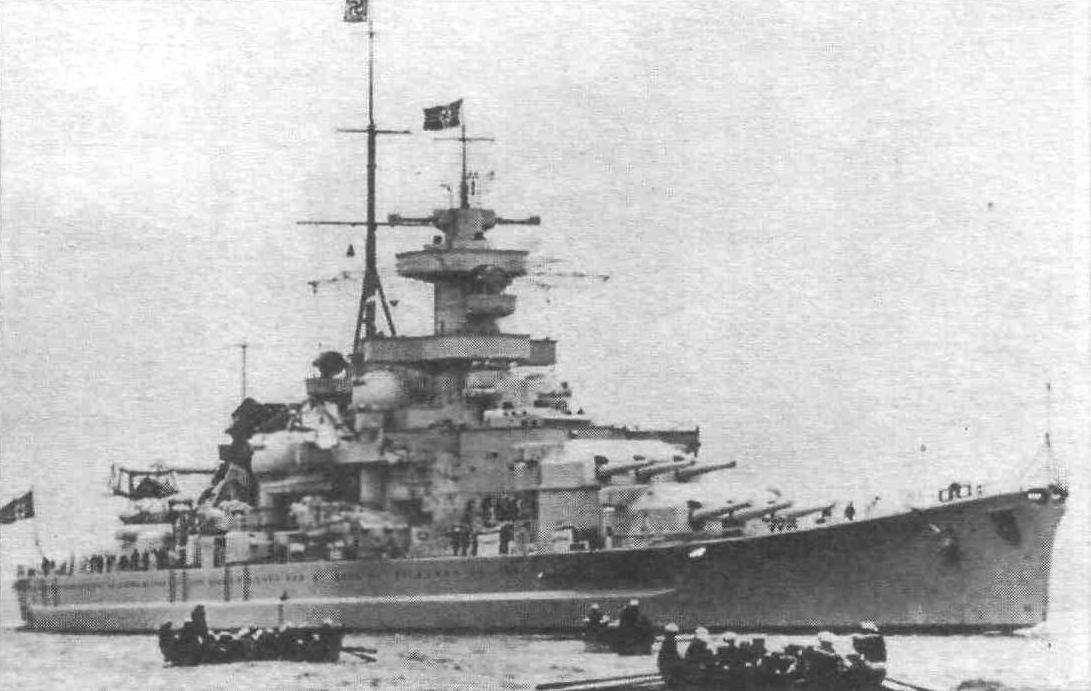

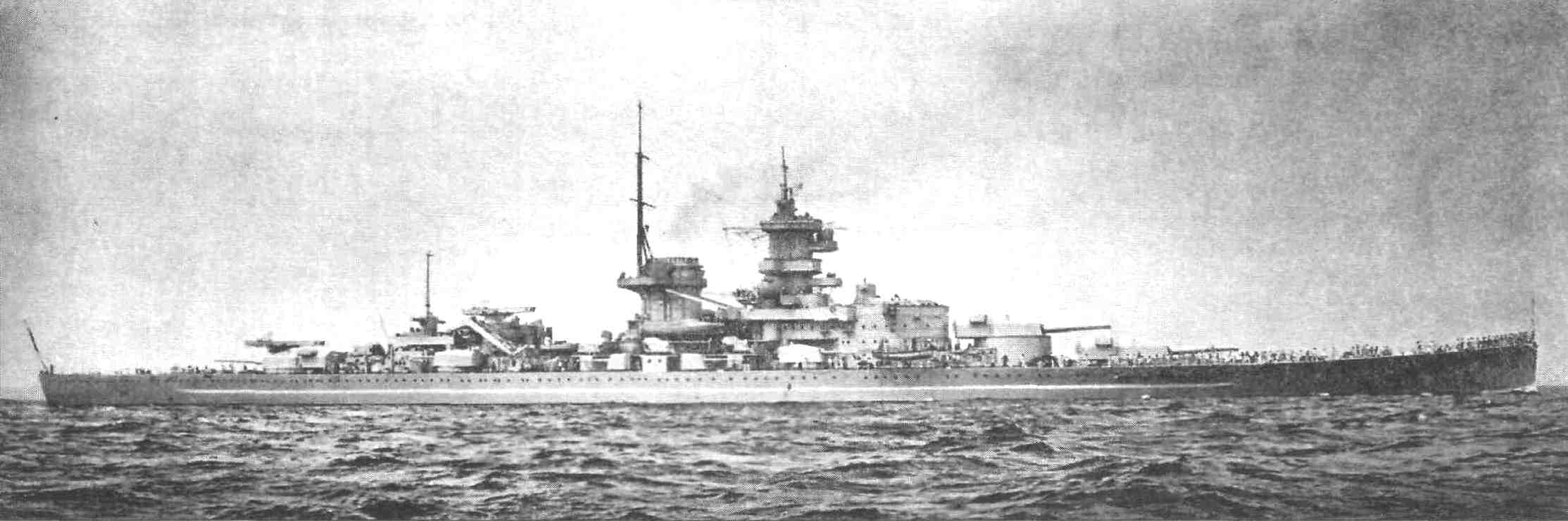
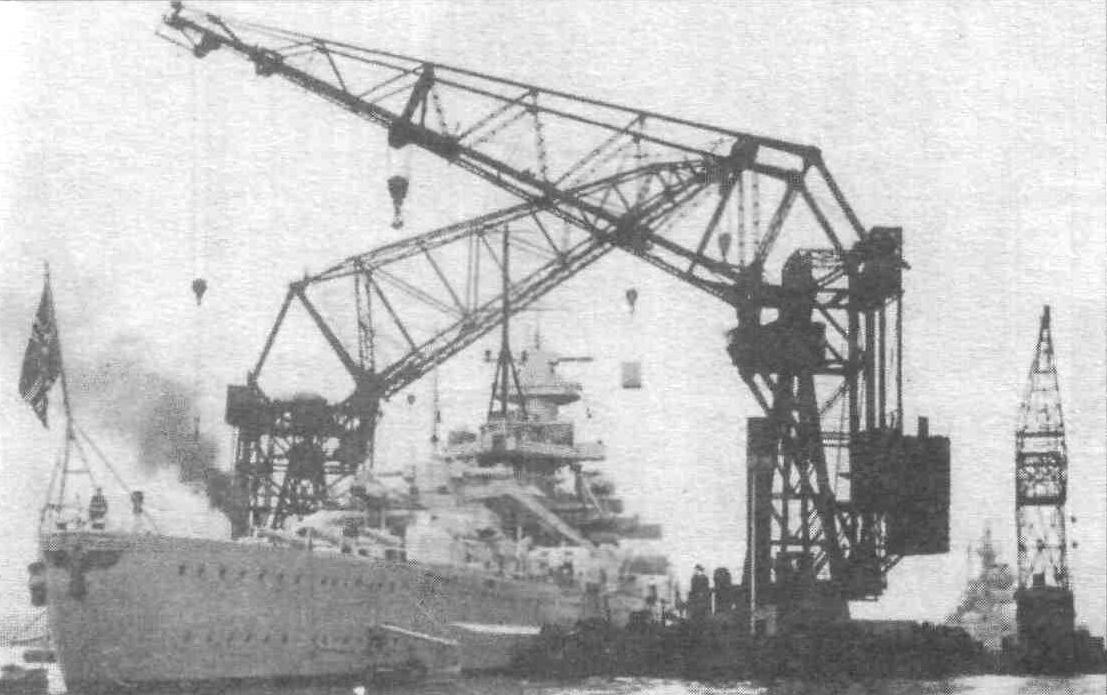
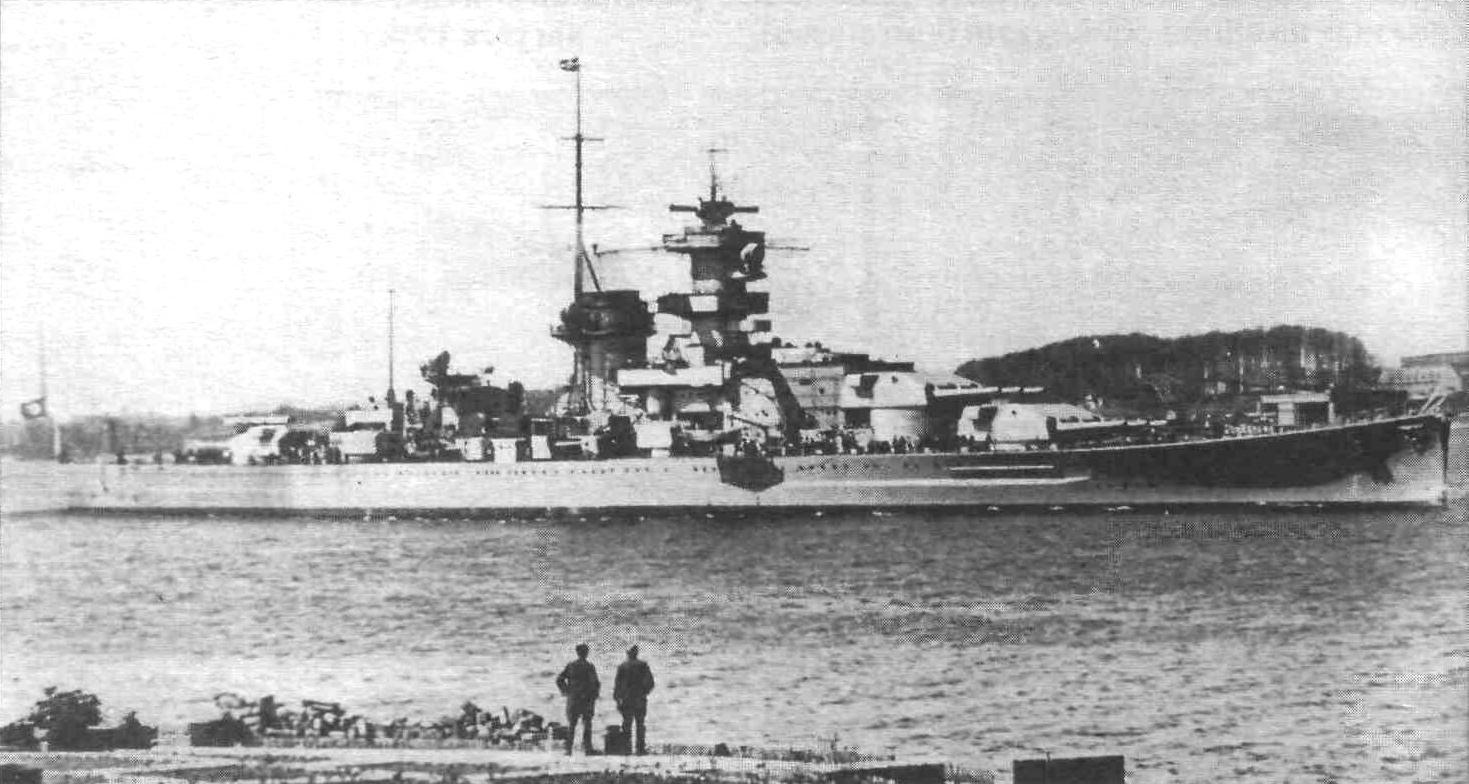

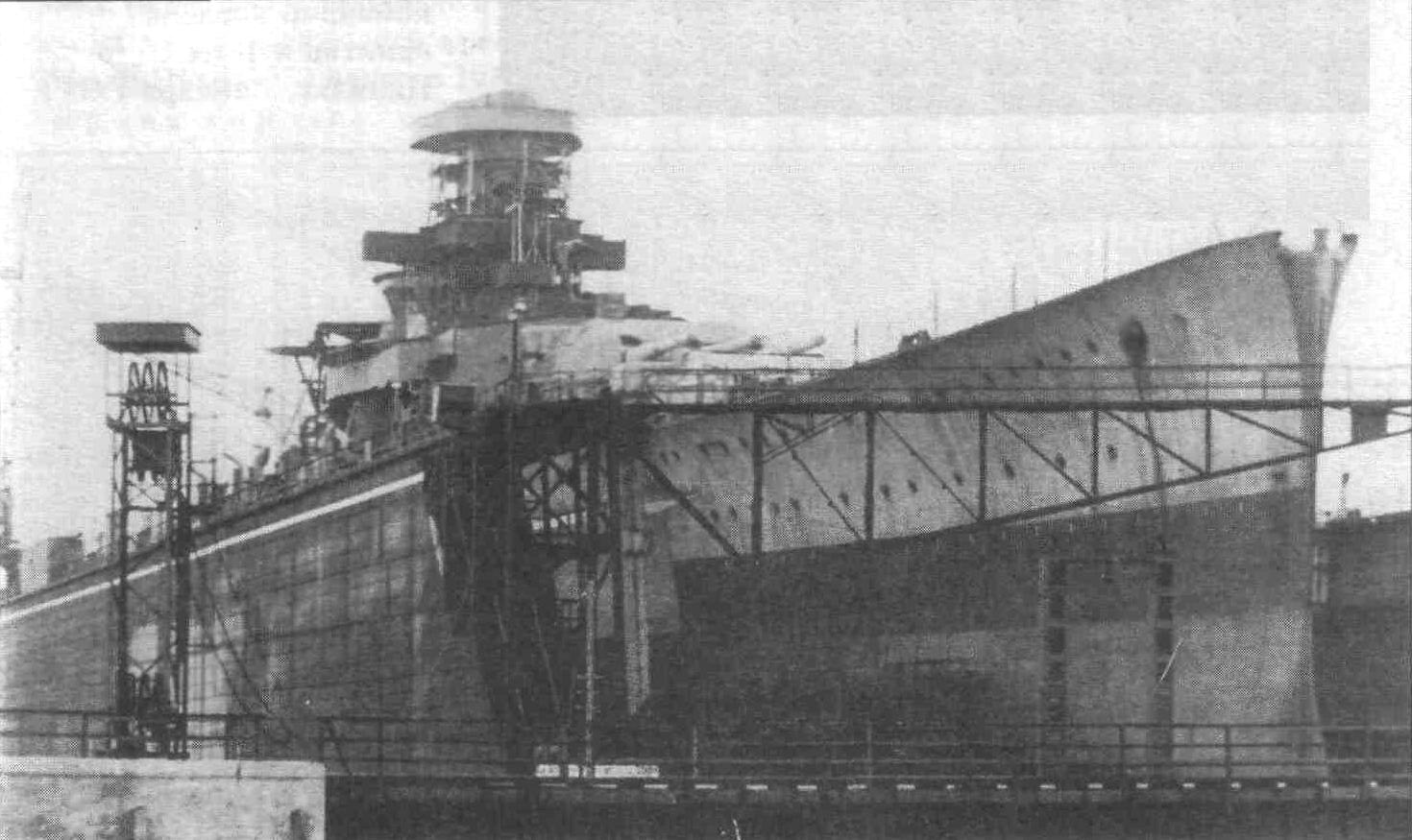
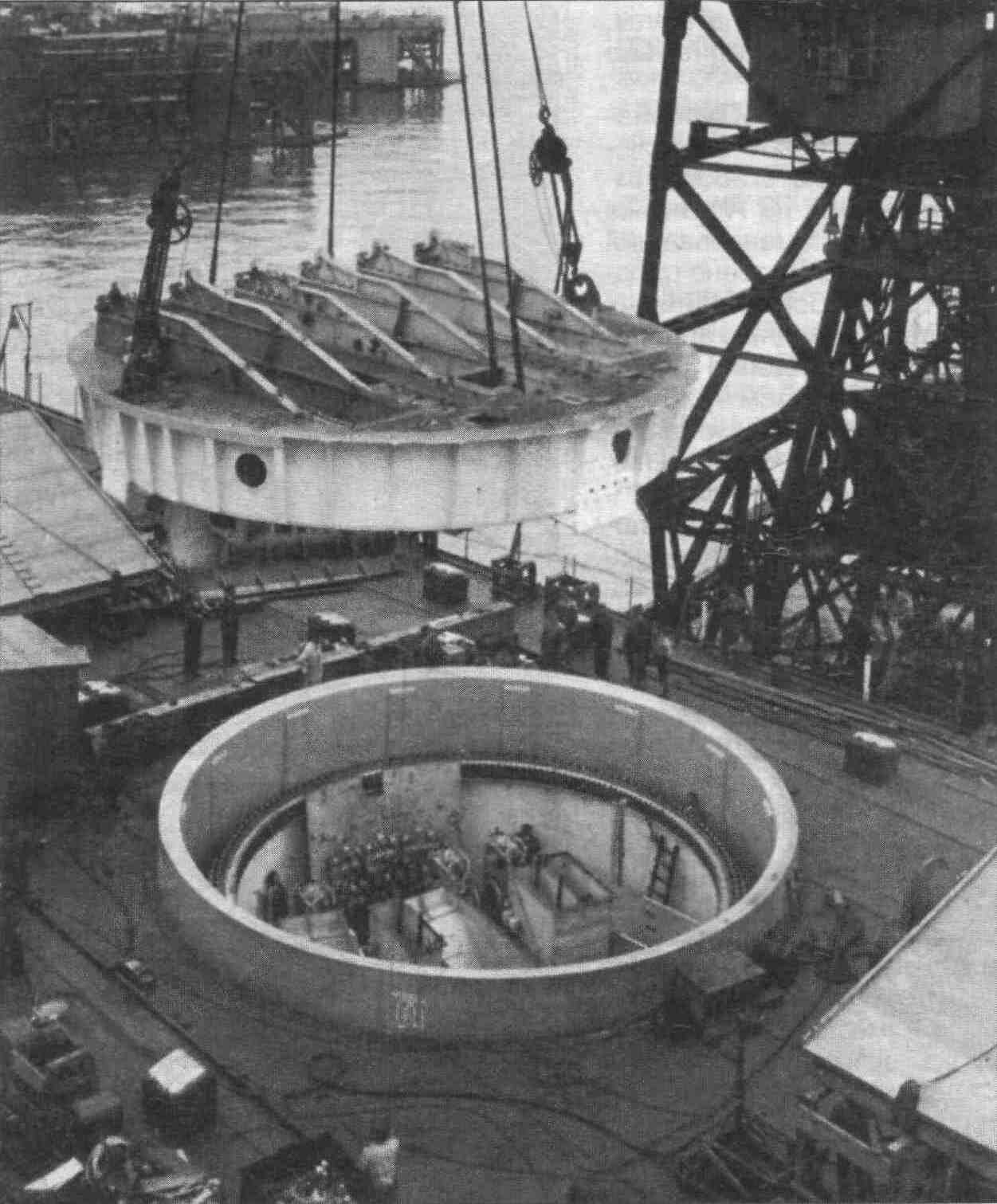
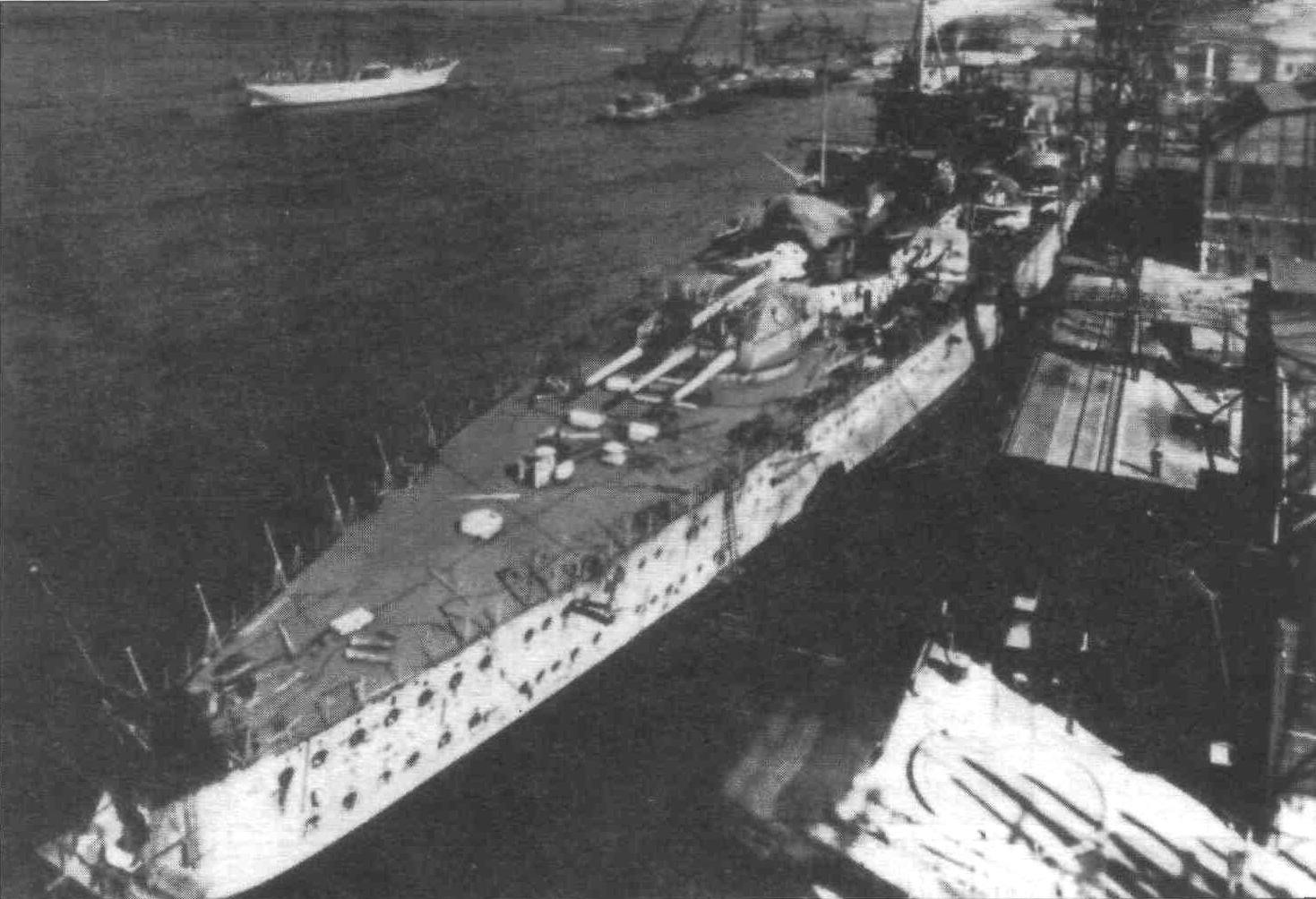
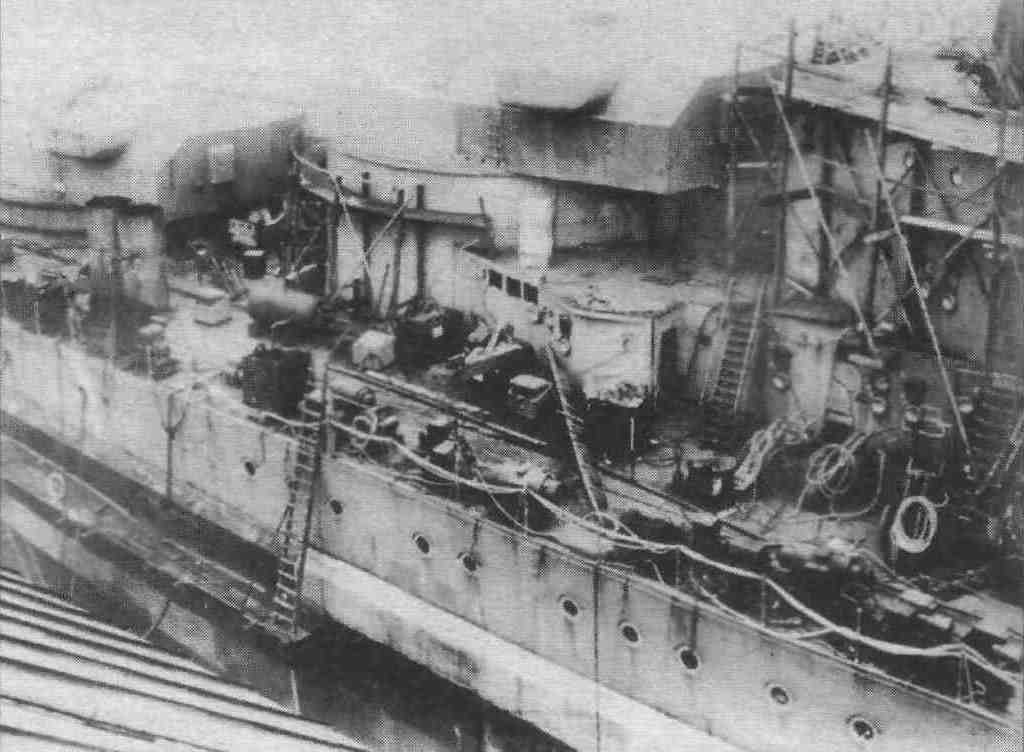

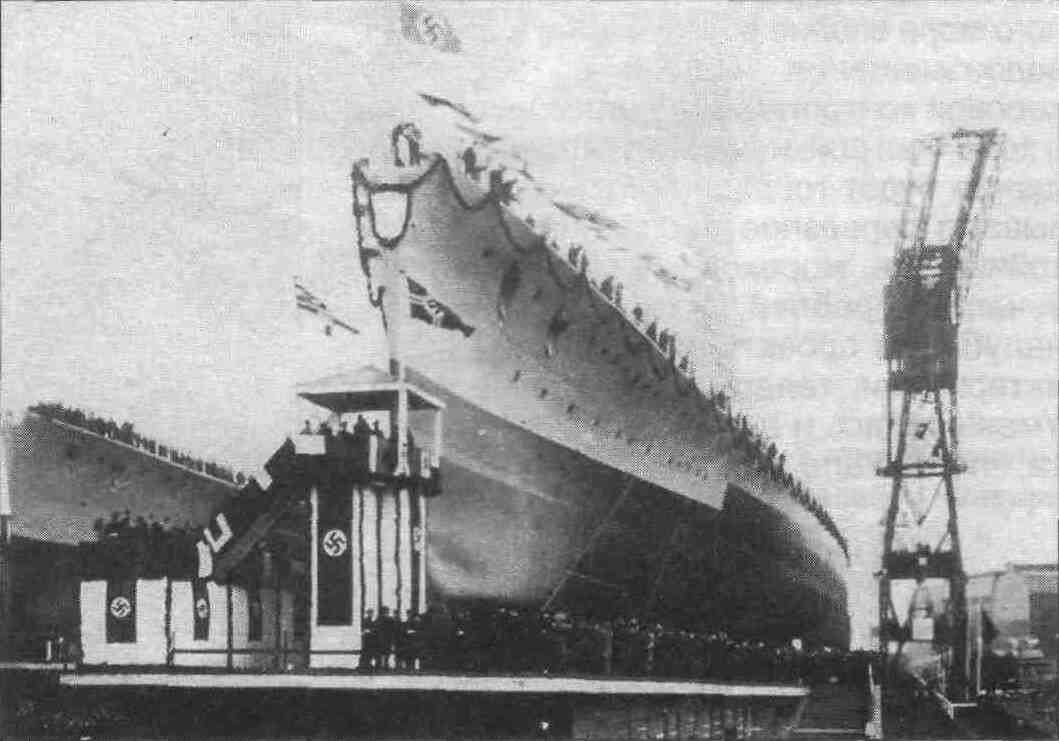
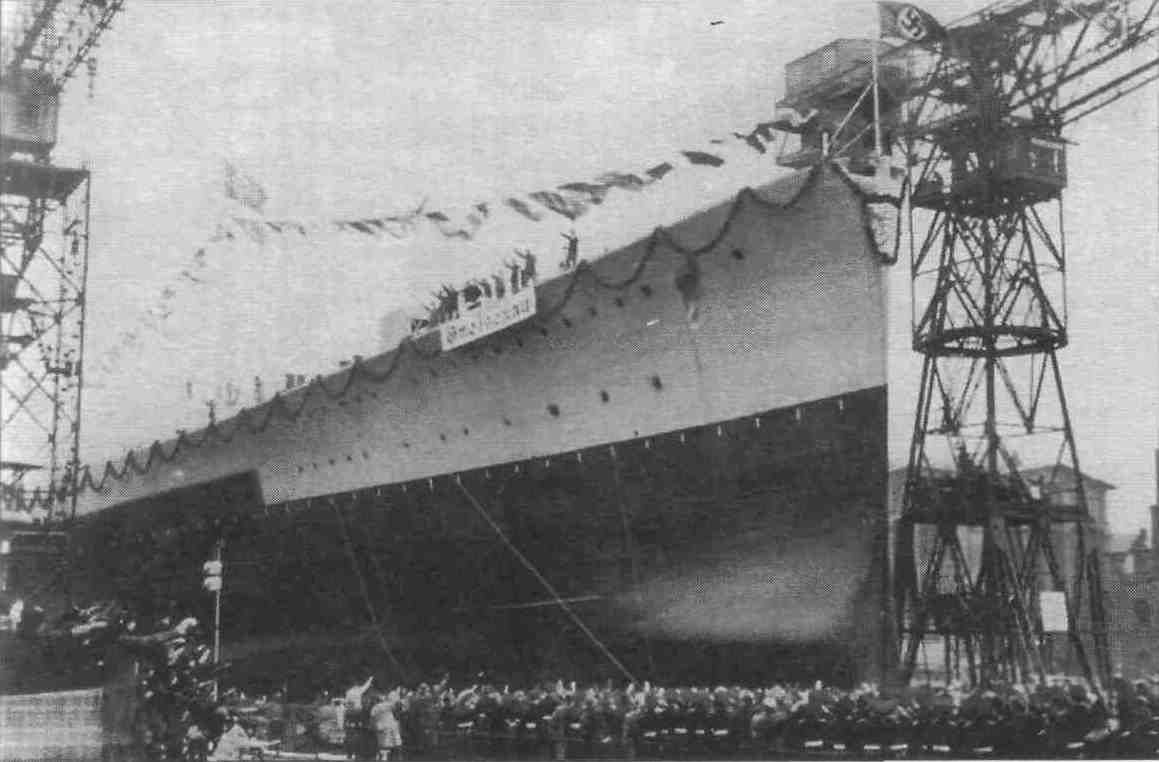

 Август Вильгельм Гнейзенау (27.10.1760 - 23.08.1831) Прусский генерал и военный реформатор, граф (1814). Вместе с Шарнхорстом проводил реорганизацию прусской армии после 1807 года, в 1813 — 1815 годах был начштаба у Блюхера, а с 1830 года — главнокомандующий прусской армией.
Август Вильгельм Гнейзенау (27.10.1760 - 23.08.1831) Прусский генерал и военный реформатор, граф (1814). Вместе с Шарнхорстом проводил реорганизацию прусской армии после 1807 года, в 1813 — 1815 годах был начштаба у Блюхера, а с 1830 года — главнокомандующий прусской армией.


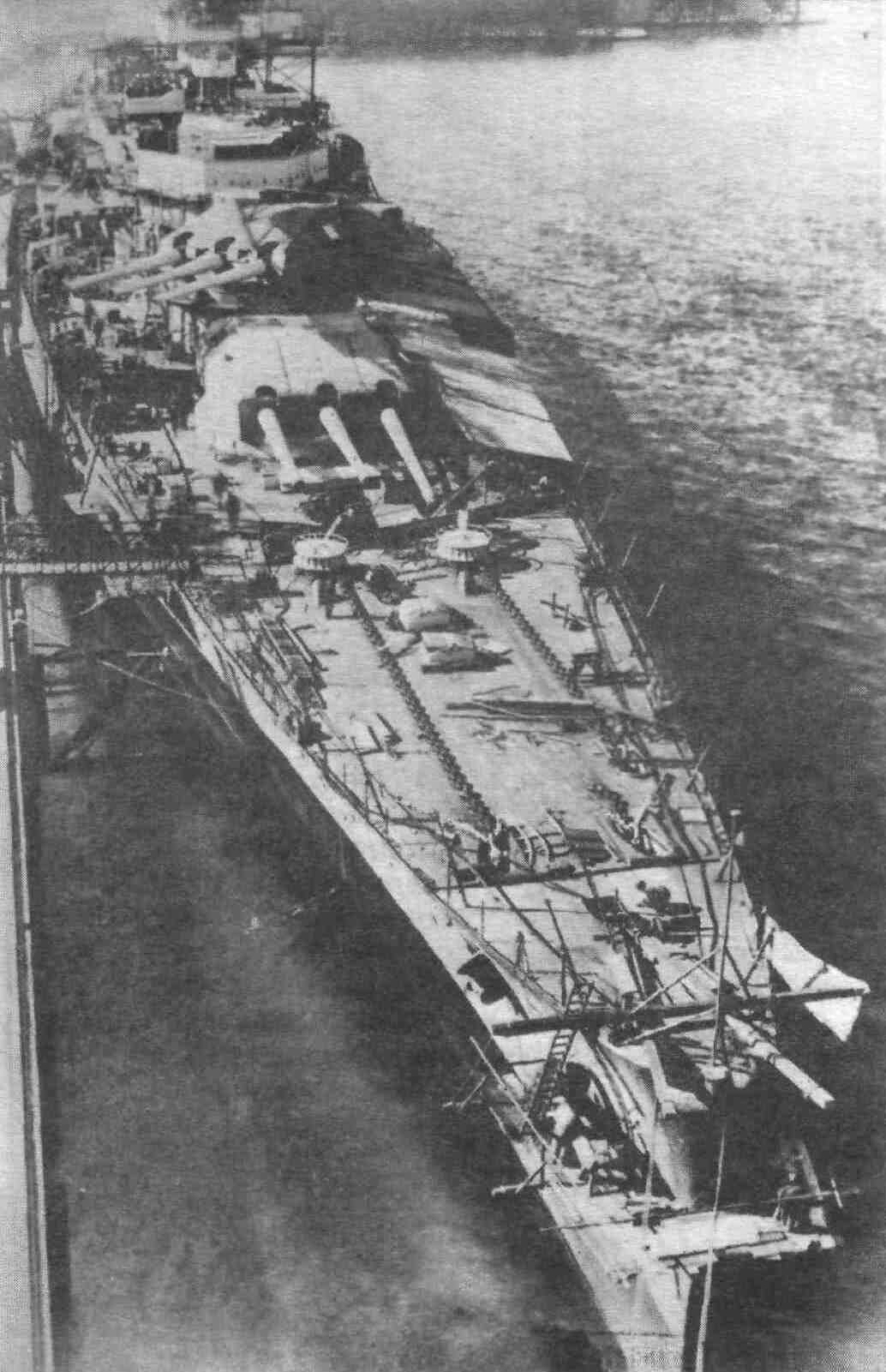
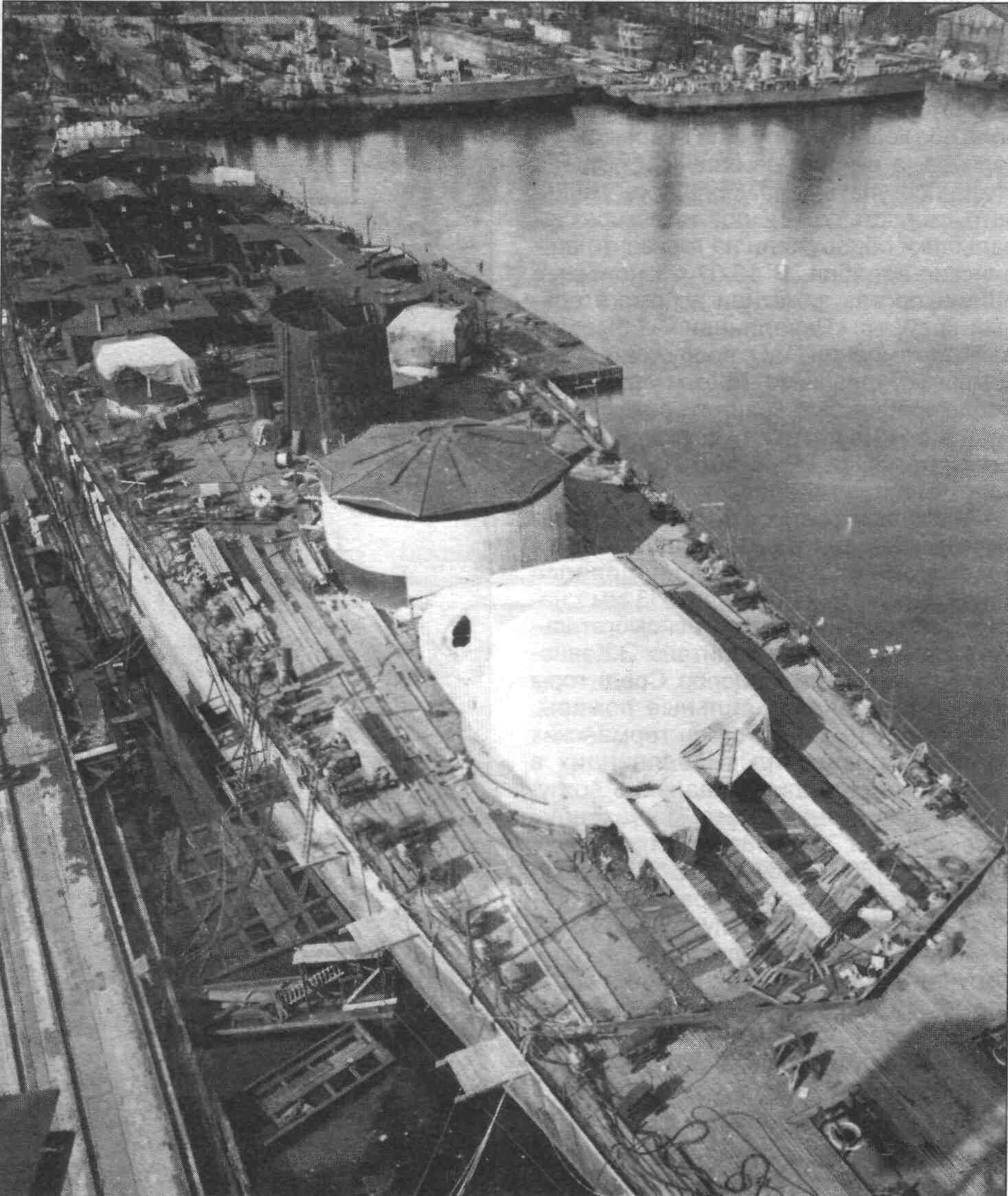

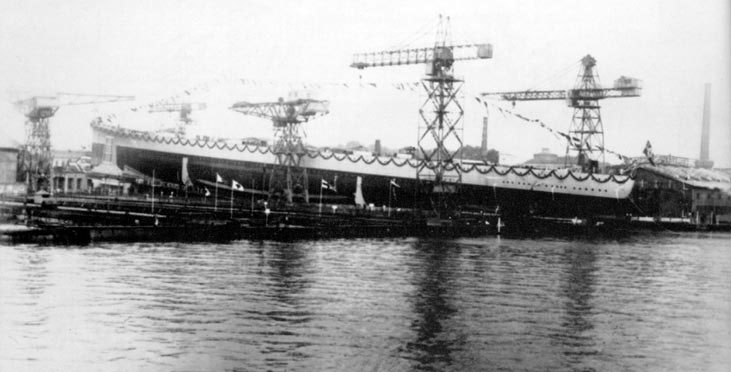


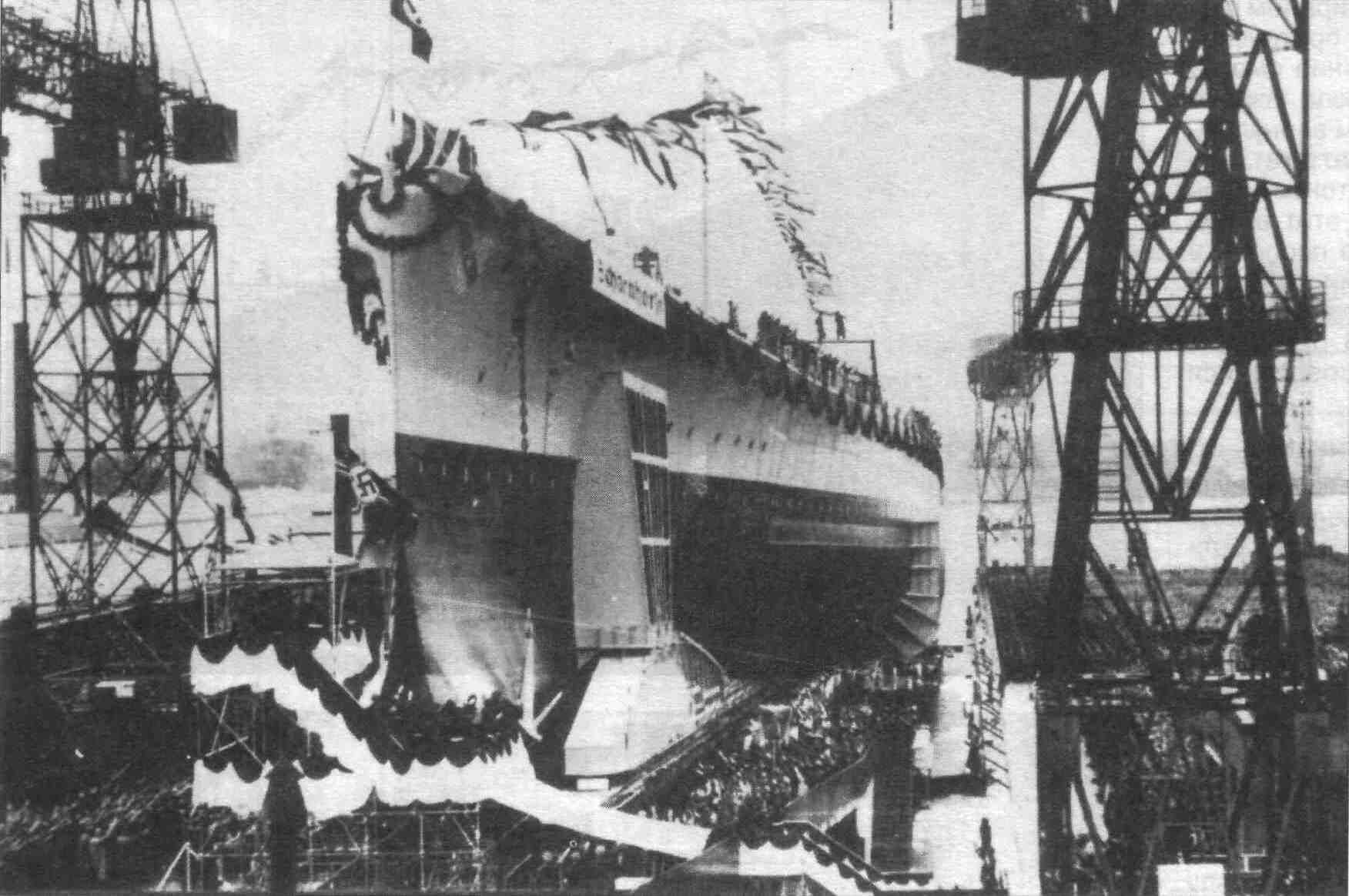
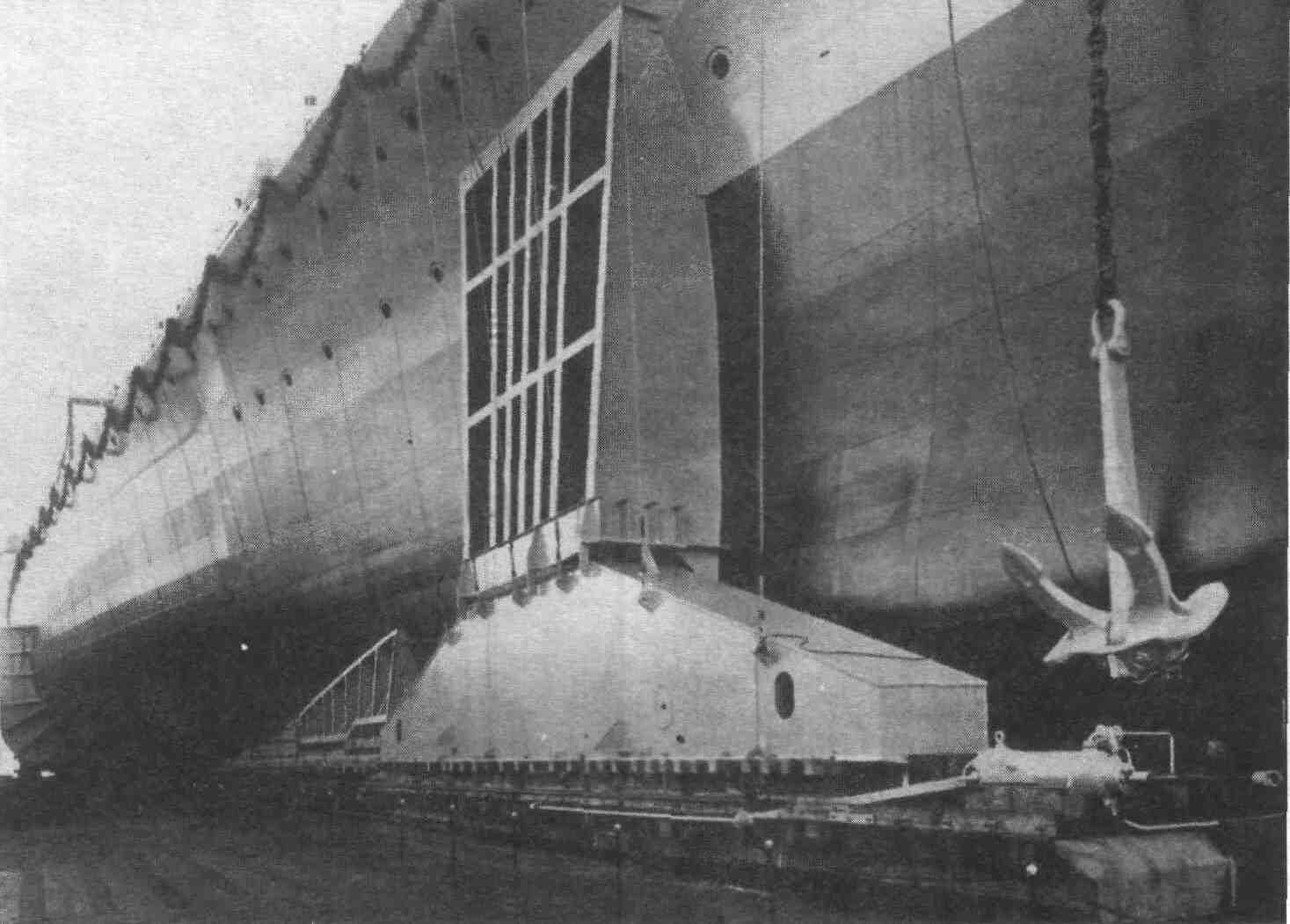
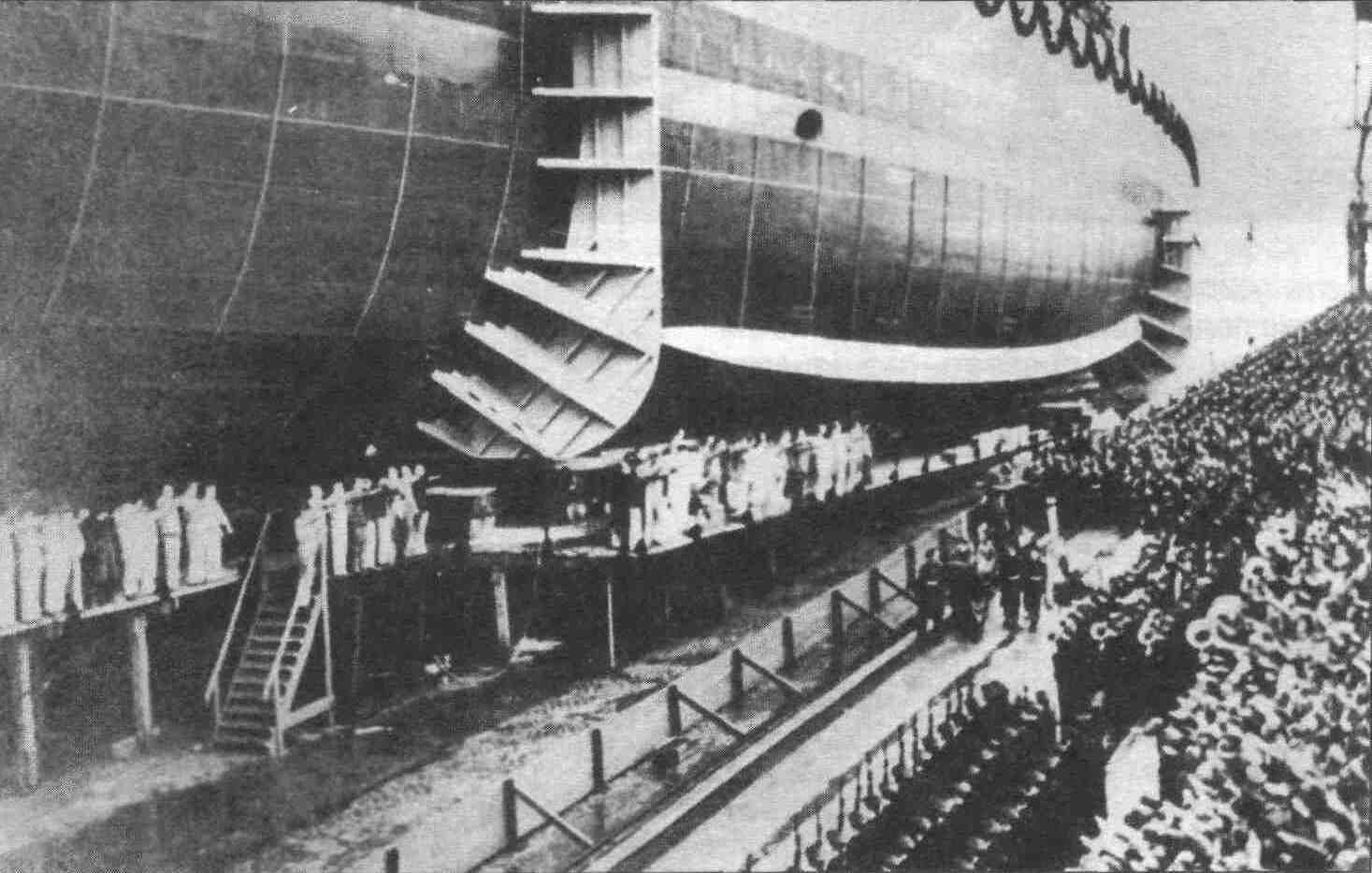

 Герхард Иоганн Шарнхорст (12.11.1755-28.06.1813) - прусский генерал и военный реформатор, в 1807—1811 годах начальник Генштаба, в 1813 году был начальником штаба в армии генерала Г. Блюхера.
Герхард Иоганн Шарнхорст (12.11.1755-28.06.1813) - прусский генерал и военный реформатор, в 1807—1811 годах начальник Генштаба, в 1813 году был начальником штаба в армии генерала Г. Блюхера.